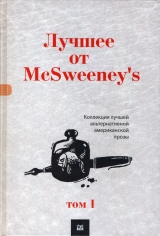
Текст книги "Лучшее от McSweeney's, том 1"
Автор книги: Дэйв Эггерс
Соавторы: Джонатан Летем,Кевин Брокмейер,Джордж Сондерс,Лемми Килмистер,Зэди Смит,Джим Шепард,Энн Камминс,Артур Брэдфорд,А. Хоумз,Александар Хемон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Нэш на мгновение онемел.
– Это подозреваемые в убийстве? – спросил он наконец.
Пелкин кивнул.
– Узнаете кого-нибудь?
– Это слоны, – проговорил Нэш.
– Взгляните еще раз.
Нэшу этого не требовалось. Он был раздавлен: всплыла история, которую он уладил давным-давно, пожертвовав при этом частью своей души.
– Я знаю только, что это слоны. И вам это ясно так же, как мне.
Пелкин поднял вверх палец.
– Один слон, – сказал он. – Всего лишь один.
Пять фотографий были сделаны в разные годы, самые ранние – в полосах и пузырьках эмульсии. На каждой был запечатлен слон на ярмарке с аттракционами или в цирке; Нэш узнал вагончик организации «Селлз», транспарант Ринглинга и, наконец, провисшую крышу собственного шапито, с заплатами такими же неповторимыми, как хирургические шрамы. Так вершина горы вспыхивает под солнечными лучами.
– Мэри, – проговорил он.
– Можете указать, где вы ее видите?
– Вы серьезно? Это слон, который стоит перед моим шатром.
– А на других фотографиях – она?
Определить было трудно. В одном случае на слоне было что-то вроде диадемы, в других – ничего.
– Возможно.
– У нее были особые приметы?
– Что ж… Да. В ней было ровно двенадцать футов росту. Вы это имели в виду?
Пелкин сощурился.
– Двенадцать футов? Или двенадцать футов три дюйма?
– Нет, ровно двенадцать футов, согласно афишам. – Нэш выдохнул. – Но правда, однажды утром в Денвере мы намерили двенадцать футов три дюйма.
Пелкин шлепнул ладонью по столу, так что подпрыгнули ложки.
– Ага!
Он наклонился вперед и спросил, словно бы сдерживая волнение:
– Могло так быть, что в другие разы, когда вы ее измеряли, она горбилась?
– Не понимаю.
Пелкин расслабился. Перевел взгляд на вязы за окном.
– Еще какие-нибудь приметы не вспомните? – чуть слышно спросил он.
– Буква М на ухе.
– Такая? – Пелкин перебирал фотографии, пока не нашел нужную, и она с хлопком легла на стол. Это был крупный план слоновьего уха.
Нэш кивнул.
– Да, только у Мэри было М, а у этого слона – N.
Пелкин сдвинул брови, размышляя, вынул авторучку, потряс и добавил палочку.
– Такое М было у Мэри?
– Простите, у многих ли слонов уши помечены буквами? Может, у всех. Я видел вблизи только одного.
Вдруг нахлынула горечь, от которой Нэш так старался отделаться. Глаза Мэри, зачатки ума, которые он там увидел, то, как с ней предательски обошлись.
– Я имею в виду одного слона, – продолжал Пелкин. – У Ринглинга была одна слониха, по имени Номми, четыре года назад она убила человека. Сдается мне, они вывели ее ночью через задний ход, поменяли ей имя и продали вам.
– Это невозможно. – Тем не менее, Нэш стал одну за другой рассматривать фотографии. – Тут всюду Номми?
– На одной. Еще на одной слониха Селлза, ее звали Вероника. Она тоже совершила убийство, шесть лет назад. И имя, видите, если… – Пелкин неловко соединил два пальца буквой V, добавил палец другой руки и получил неправильное N. Попытался выстроить правильное, но у него не получилось. – А прежде было Иония. Это та, что в диадеме.
Нэшу хотелось сказать, что Пелкин спятил, но слова как-то не выговаривались. Его мучило подспудное ощущение вины, словно обвинили его самого.
– Человек, которого Мэри растоптала в Олсоне, был на лошади. – Это рассуждение должно было если не оправдать Мэри, то, по крайней мере, объяснить ее поступок: нельзя требовать от животного, чтобы оно пошло против своей природы.
– Мэри ведь не то чтобы буквально растоптала Фелпса, так? – спросил Пелкин.
– Ну…
Пелкин начал убирать фотографии, и Нэш понадеялся, что это конец. Но нет, ему было предложено еще одно фото, шириной дюймов в восемь, а длины такой, что оно было свернуто в трубочку. Пелкин развернул его и прижал с обеих сторон кофейными чашками.
На снимке было сафари. В центре – пятеро мужчин в белых тропических шлемах, на коленях – спрингфилдские винтовки со снятым затвором. По сторонам – носильщики-туземцы из неизвестного Нэшу племени. Некоторые из них, в том числе и женщины, прятали от камеры лица, не скрывая при этом других частей тела, и Нэш рассматривал фото неприлично долго, прежде чем понял суть дела.
Пятеро охотников позировали со своими трофеями: один взобрался наверх, двое стояли по флангам, двое – на коленях – впереди. Трофеи состояли из полудюжины африканских слонов.
– Боже мой, – вырвалось у Нэша.
Вокруг лиц, плохо различимых на потертой фотографии, виднелись карандашные надписи. Пелкин указал на мужчину справа (винтовка небрежно свисала у него с плеча).
– Тимоти Фелпс, – пояснил Пелкин, – в далекой молодости. В 1889 году правление железной дороги Саутерн-Креснт организовало для своего руководящего персонала сафари в Африке. Ныне все пятеро мертвы. Убиты слонами. – Пелкин поднял кофейную чашку, фотография свернулась. – Одним слоном.
Нэш сам расправил фото. Глядел и глядел, пока все не понял. Уловив смысл, он взбодрился. Едва удержавшись от усмешки, он шепнул:
– Выходит, это семья Мэри?
– Что?
– Слоны, убитые на той охоте. Это ведь семья Мэри? Выходит, она мстила.
Наступила напряженная тишина, Пелкин мерил Нэша удивленным взглядом. Взглядом, не внушавшим приятных чувств. Нэшу вспомнилась разом вся кислая изнанка циркового ремесла. Таким взглядом смотрит самая низкопробная деревенщина, любители «русалки с островов Фиджи», танцев «не бей лежачего», заспиртованных младенцев, лимонада – и прочего убожества.
– По-вашему… – оскалился Пелкин, – по-вашему, слониха Мэри – гигант мысли, так что ли?
– Ну да.
– Смотрите. – Пелкин вновь указал на группу охотников. Слева, поодаль от товарищей, без ружья, сложив руки на груди, стоял Джозеф Бейлз.
– Ой! Как же так? – Нэш беспомощно смолк.
– Вам он известен как Бейлз, верно? Его зовут иначе. Он Баулз. Умные люди, когда меняют имя, берут похожее, чтобы откликаться даже спросонья. Баулз рассчитывал получить повышение, но не получил. Я слышал, на сафари он портил всем настроение, шумел по любому поводу, у костра часами рассказывал товарищам, какие они неумехи. После сафари его уволили. И он затаил злобу, Нэш. Насколько он озлился, никто не знал. Из тех, кто вынашивает планы мести, редко кто их осуществляет. Большинство успокаивается. Но не Баулз. Как бывает с иными лелеющими мстительные замыслы, он уехал и сделался цирковым клоуном. Последние двенадцать лет он заманивал своих противников в смертельные ловушки. Накануне прибытия вашего цирка в Олсон Фелпсу пришла телеграмма, где его приглашали прибыть верхом на парад и обещали чудесный сюрприз, – Пелкин тряхнул головой. – На мой вкус, не такой уж он вышел чудесный.
Нэш долго молчал. Он чувствовал, что от него требуются какие-нибудь слова, но какие именно? Детали мрачного замысла выплыли на поверхность: Баулз хочет реванша, Баулз становится цирковым клоуном, изобретает поэтический способ мести – при помощи слона-убийцы. Наконец он произнес:
– Аристотель.
– Что?
– Ему нравился Аристотель. – Нэш слегка покраснел.
Пелкин пожал плечами и написал на обороте одной из фотографий: «Аристотель».
– Не знаете, куда он мог отправиться?
– Почему он ее убил?
– Простите?
Без малейшего усилия Нэш восстановил в памяти сцену: цирковой вагончик, напротив стоит Бейлз, сдерживает слезы (или даже плачет?) и предлагает повесить Мэри.
– Он говорил, она заслуживает казни – это будет справедливо.
– Тоже мне, спец по справедливости. Ну да. Он сделал свое дело, Нэш. Прежде он четырежды ухитрялся ее спасти. Четырежды бежал с ней под покровом ночи, менял ей имя и себе тоже. Но в этот раз он в ней больше не нуждался. Всех, кого хотел, он убил, не оставлять же свидетельство своего преступления.
– Хм-м, – Нэш кивнул. – Выходит, он ее предал.
– Конечно. – Как большинство детективов, служащих на железной дороге, Пелкин был немногословен, но, раскрывая тайны, не стеснялся с удовольствием описывать сопряженные с ними ужасы. – Они были сообщниками. Но она до последнего не знала, что он ведет грязную игру.
– Понятно.
Нэшу захотелось, чтобы Пелкин поскорей ушел; в нем зародилось странное беспокойное нетерпение, словно он ожидал из дальней поездки любимого человека. Хотелось распахнуть дверь, глянуть в конец подъездной аллеи и увидеть с сумками в руках самого себя. Он едва слушал Пелкина, выложившего еще пару фотографий.
– Вот этих людей, похоже, Мэри – или как ее тогда звали – убила в 1902 году. Насколько мне известно, с Баулзом она встретилась только два года спустя. Я бы сказал, недурная парочка. Сообщники достойные.
– Да-да, понятно, – нетерпеливо кивнул Нэш. Он слушал уже не Пелкина, а собственный внутренний голос. Мэри, животное, чьи инстинкты обратил себе на пользу дурной человек. Трагедия ее жизни, помноженная на злобные намерения Баулза. Занятый этими мыслями, он постарался как можно скорей поставить точку в разговоре. Он не был уверен ни в чем, кроме одного: ему нужно было остаться в одиночестве.
На завершение беседы не ушло и пяти минут. Пелкин убедился, что ничего полезного не узнает. Поспешно пожав Нэшу руку, он вышел.
Оставшись наедине с собой, Нэш извлек восковый карандаш и лист оберточной бумаги и начал записывать все, что помнил о Мэри. Он старался найти баланс добра (ее ум и обычно кроткое поведение) и зла (убийства людей, например). Ему вспомнились соленые дорожки на щеках Скуонка (если они там действительно были), их блеск, – и им овладела ярость. Подлые, чудовищные крокодиловы слезы, бесстыдство, какое поискать, мошенник, каких мало; надо же, обвел его вокруг пальца, словно сосунка.
Нэш писал чуть не до вечера, легонько перекусил и принялся переписывать все заново, составляя краткую поучительную пьеску для розыгрыша в небольшом цирке. Речь в ней шла о злодее-клоуне и обманутом им слоне. Завершив сочинение, Нэш понял, что нужно покупать другого слона, и сделал пометку: отправить телеграмму на цирковую биржу в Сарасоту.
С 1919 по 1924 год семья Нэш выступала как обычно; в хорошие времена расписание было плотным, в плохие приходилось мотаться по дорогам, гоняясь за удачей. Стержнем представления была пьеска Нэша – мелодрама, живописавшая злобные деяния клоуна Мокси и несчастья грустной слонихи Регины; она страдала припадками, во время которых случайно убивала людей. В конце пьесы ее выводили наружу и вешали: казнь была показана в виде силуэтов на грубом полотне шапито.
В афишах и речи перед представлением Нэш объяснял, что каждое слово соответствует действительности, в том числе повешение; он только изменил имена. Добавлялось также, что заключительная сцена разыгрывается в виде театра теней ввиду особой выразительности этого приема, что было правдой, но не главной: прежде всего, это был необходимый спецэффект. Нэш ни за что не повредил бы своей любимой слонихе: это была вторая, бережливая любовь. Новую слониху звали Эмили, и рекомендации у нее были настолько безупречные, что владелец любил повторять: с такими прямая дорога хоть бы и в сенат.
Спектакль вызывал интерес и будоражил зрителя, но это был не тот успех, на который надеялся Нэш. После представления, когда поднимали откидные полотнища шатра, толпа не спешила расходиться и некоторые зрители оставались поговорить с Нэшем. Ходили слухи (среди других участников труппы тоже), что Мэри совершила несколько убийств еще до встречи со Скуонком. Ну да, он ужасный человек, но она ведь тоже не без греха? И не является ли казнь справедливым воздаянием, даже если палачом был Скуонк? А Бейлз – он, выходит, скрылся? А если он потом еще кого-то убил? Почему же он ускользнул из рук правосудия? Нэш пытался ответить на вопросы, но чувствовал при этом, что зрители упускают главное, огорчался и уходил спать в свой вагончик.
О последнем спектакле записей не сохранилось, это было событие отнюдь не исторического значения. Он был необычным – страсти в слоновьих масштабах, благородным по замыслу, но мелодрама не тот жанр, что возвещает высокие истины. Ну да, слоны, как и люди, бывают одновременно умными и порочными. Не все создания природы отличаются добротой.
На пороге нового века историю Мэри объявили фольклором, надерганными обрывками истины, которые опровергались устной традицией, рассказами старожилов Олсона; все это ложь – говорилось теперь. Ходили слухи о любительском фильме (давно утраченном, поскольку «безопасная» пленка живет не дольше, чем нитраты) – тот самый «ложный след», на каких основываются городские легенды. Да, существовали афиши, где упоминалась слониха по имени Мэри, и спустя несколько лет была поставлена странная пьеса о повешении слона. Но это было всего лишь цирковое представление – не иначе, как народ принял вымысел за правду. Повешение слона? На факультете антропологии в университете штата Теннесси был составлен научный доклад о контаминации рассказов о линчевании и о слоне. Автор объяснял, что легенда возникла, поскольку требовалось дегуманизировать жертвы или (противоположный вариант) – пробудить ярость в тех людях, которые не шевельнут и пальцем ради защиты ближнего.
Когда пытаешься оглянуться в прошлое и проанализировать его честно, трудно бывает понять, где сказка, где реальность, где жуть, а где путаница.
Однако недавно история получила продолжение: Уайлдвуд-Хилл, давно уже окруженный синей оградой и накрытый брезентом Суперфонда, был продан своим владельцем, нефтехимическим синдикатом, который унаследовал его от ныне не существующей Маккеннонской железной дороги. Местность стали готовить к очистке от вредных отходов, и прежде всего пробили шурфы, чтобы определить, как глубоко проникли жидкие химикалии.
В десяти ярдах от конца колеи, под грудой железнодорожной техники (шести ее поколений), находится яма в двадцать футов шириной и столько же глубиной; почти столетие назад отсюда была вынута земля и сразу же засыпана обратно. В центре, среди корней и сорняков, камешков, стеклянных и металлических обломков, лежат слоновьи кости.
На облепленном грязью, обтянутом высохшей плотью скелете поблескивает цепь из нержавеющей стали; имеется и саван: в свое время, предположительно, красный, роскоши – опять же предположительно – королевской, украшенный гофрировкой; ныне же он истлел и по цвету сравнялся с землей.
Примечание: Этот рассказ не был бы написан, если бы не знакомство автора с книгой Чарльза Эдвина Прайса «День, когда повесили слона».
перевод Л. Бриловой
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
А. М. Хоумз
Моя жена – она врач – больна. И вообще может умереть. А началось все внезапно. В выходные мы выехали на природу; сначала сходили с друзьями в кино, потом ели пиццу и вдруг – эта боль.
– Мне понравился эпизод, когда он бросается на женщину с ножом, – говорит Эрик.
– Так ей и надо, – замечает Энид.
– Прошу прощения, – извиняется жена, вставая из-за стола.
Через несколько минут я нахожу ее на дорожке – она стоит, согнувшись пополам.
– Как будто что прорывается изнутри.
– Может, попросить, чтобы нас рассчитали?
Она глядит на меня как на ненормального.
– Жене что-то нездоровится, – объявляю я, вернувшись к столу. – Придется ехать.
– Нездоровится? Но ведь с ней ничего серьезного, правда?
Эрик и Энид спешно выходят, а я жду, пока выпишут чек. Друзья подбрасывают нас до дома. Я отпираю входную дверь, жена отталкивает меня и мчится в ванную. Эрик, Энид и я стоим в гостиной и ждем.
– Как ты, в порядке? – кричу я жене.
– Нет! – отвечает она.
– Может, ей лучше в больницу? – предлагает Энид.
– Врачи не обращаются в больницу, – говорю я.
Жена – врач, оказывает экстренную медицинскую помощь. Весь день она на работе, собирает пациентов по частям, ну а потом возвращается домой, ко мне. Так что я совсем не из тех, кто привык о ком-то заботиться. Я – тот, кто вечно балансирует на грани.
– Если что – звони, – говорят Эрик и Энид, уходя.
Она лежит в ванной на полу, прижавшись щекой к белой плитке.
– Ничего, пройдет, – успокаивает она сама себя.
Я подкладываю ей под голову коврик и тихонько выхожу. Из кухни звоню знакомому врачу. Стою в темноте и разговариваю шепотом:
– Она лежит там, на полу. Лежит и все. Что делать?
– Ничего, – отвечает врач, даже слегка оскорбленный мыслью о том, что вообще что-то нужно предпринимать. – Посматривай за ней. Либо все пройдет, либо случится что-то еще. Смотри и жди.
«Смотри и жди». Я размышляю о наших с женой отношениях. Мы давно уже не ладим. И приспособились жить в этой атмосфере, удушливой и уничтожающей – обоим любопытно, как далеко оно зайдет.
Я сажусь на краешек ванны и смотрю на нее:
– Что-то мне неспокойно.
– А ты успокойся, – отвечает она. – И нечего тут сидеть и пялиться.
Днем между нами произошла стычка, уж и не помню из-за чего. Помню только, что обозвал ее стервой.
– Я была стервой до того, как познакомилась с тобой, и буду ею еще долго после твоего ухода. Так что это не новость.
Я хотел сказать, что бросаю ее. Что вот, мол, она уверена, будто я никогда не уйду, потому и вытирает об меня ноги. Но я уйду. Мне хотелось сесть в машину и уехать. И поставить точку.
Ссора закончилась, когда она бросила взгляд на часы:
– Полседьмого. А в семь мы встречаемся с Эриком и Энид. Так что давай, надевай чистую рубашку.
Она лежит на полу, на щеке у нее отпечатался узор резинового коврика.
– Тебе как, удобно? – спрашиваю я.
У нее удивленный взгляд – как будто только осознала, что лежит на полу.
– Помоги, – с трудом поднимается она.
Ее губы, сжатые в узкую полоску, побелели.
– Принеси мусорное ведро, пакет, градусник, тайленол и стакан воды.
– Тошнит?
– Так, на всякий случай, хочу быть готова, – говорит она.
Всегда-то мы готовы. Вечная угроза всевозможных неприятностей – именно это нас и связывает, мы просто помешаны на том, чтобы предупредить все и вся. У нас всегда наготове ракетницы и огнетушители, портативные рации, надувной плот, небольшой генератор, сотня батареек всевозможных форм и размеров, тысяча наличными, запас туалетной бумаги и питьевой воды, достаточный, чтобы продержаться полгода. Во время поездок мы всегда берем с собой в ручную кладь дымозащитные капюшоны, протеиновые батончики, таблетки для очистки воды и большую пачку шоколадных драже.
Жена сует электронный градусник под язык; циферки ползут вверх – каждая десятая градуса отмечается сигналом.
– Тридцать восемь и шесть, – объявляю результат.
– Неужели температура? – недоверчиво спрашивает она.
– Жаль, что между нами все так плохо.
– Не так уж и плохо, – возражает жена. – Не жди слишком многого, вот и не разочаруешься.
Мы пытаемся заснуть; ее бросает то в жар, то в холод, она что-то там бормочет насчет «показаний к операции на брюшной полости», насчет «защитной фиксации и симптомов отдачи». Я никак не могу понять, это она про себя или про NBA.
– Невероятно! – жена садится в кровати прямая как палка и тут же сгибается пополам, морщась от боли. – Что-то так и рвется изнутри. Прямо как в фильме про пришельцев – вот-вот исторгну из себя нечто, выплюну наружу.
Она замолкает, потом переводит дух.
– И тогда все прекратится. Господи, кто бы мог подумать, что это случится со мной, да еще в субботу вечером!
– Может, аппендицит?
– Я уже думала об этом, но что-то сомневаюсь. Не те симптомы. Ни отсутствия аппетита, ни диареи. Я в самом деле была голодная, когда ела ту пиццу.
– Может, яичник? У женщин ведь много яичников?
– У женщин всего два яичника, – поправляет она. – Я уже думала – возможно, это синдром Миттельшмерца.
– Миттельшмерца?
– Отделение яйцеклетки, середина цикла.
В пять утра у нее уже тридцать девять и четыре. Она то обливается потом, то дрожит.
– Может, отвезти тебя домой, в город? Или до ближайшей больницы?
– Пожалуй, лучше так, чем на скорой. Подумать только: врач, доставленный на скорой, да еще с кислородной маской!
– Что ж, ладно.
Я одеваюсь, собираю вещи, прикидывая, что взять с собой: сотовый, записную книжку, ручку, что-нибудь почитать, пожевать, бумажник и карточку со страховым номером.
Мы быстро садимся в машину. Дольше медлить нельзя – состояние у нее явно нехорошее. Я гоню, выжимая семьдесят миль в час.
– Кажется, я умираю, – говорит жена.
Я подкатываю ко входу и помогаю жене выйти – она буквально виснет на мне. Машину я оставляю открытой, с работающим двигателем. Меня вдруг охватывает неодолимое желание бросить все и уйти.
В приемном отделении никого. На стойке регистратуры – звонок. Я жму на него дважды.
Появляется женщина.
– Что у вас?
– Жене плохо, – говорю я. – Она – врач.
Женщина садится за компьютер. Вводит имя и номер удостоверения личности. Потом – страховой номер, температуру и давление.
– Боли сильные?
– Да, – отвечает жена.
Через несколько минут приходит врач, он надавливает жене на живот.
– Похоже на прободение, – говорит он.
– Чего? – спрашиваю я.
– Аппендикса. – И уже жене: – Дать вам демерол?
Она качает головой.
– Завтра на работу, у меня дежурство.
– А в каком отделении вы работаете?
– Экстренная помощь.
В палате по соседству кого-то рвет.
Приходит медсестра взять кровь:
– Барри Манилоу скоро будет. Он хороший хирург. – Медсестра снимает жгут с руки жены. – Мы называем его так, потому что он ну вылитый Барри Манилоу. [7]7
Или Барри Манилов – псевдоним американского поп-исполнителя Барри Алана Пинкуса (1943 г. р.), сына евреев, эмигрировавших из Российской империи.
[Закрыть]
– Не хотелось бы ошибиться, – говорит Барри Манилоу, прощупывая живот жены. – Вряд ли это аппендицит, да и насчет желчного пузыря тоже не уверен. Позвоню-ка рентгенологу – пусть сделает снимок. Согласны?
Она кивает.
Я отзываю врача в сторону:
– А ей здесь точно помогут? Может, перевезти в другую больницу?
– Ну, это же не пересадка почки, – успокаивает врач.
Медсестра приносит мне холодного лимонаду. Предлагает присесть. Я сажусь рядом с каталкой, на которой лежит жена.
– Хочешь, я заберу тебя отсюда? Вызову машину, и нас отвезут в город. В больницу получше.
– Не хочу я больше никуда ехать, – говорит она.
Вернувшись в палату, Барри Манилоу снова заговаривает с ней:
– У вас не аппендицит – все дело в яичнике. Геморрагическая киста; кровотечение и пониженный гематокрит. [8]8
Часть объема крови, приходящаяся на форменные элементы.
[Закрыть]Придется оперировать. Я уже вызвал гинеколога и анестезиолога – жду, когда придут. Сейчас перевезем вас наверх, в операционную.
– Скорей бы уж, – говорит она.
В коридоре я останавливаю Барри Манилоу:
– Вы можете спасти яичник? Она очень хочет детей. Просто раньше было как-то не до этого – сначала работа, потом я, теперь вот это.
– Сделаем все, что в наших силах, – отвечает врач, скрываясь за дверями с надписью «Только для персонала».
В приемной хирургического отделения никого; я сижу, листаю «Охоту и рыбалку», детский журнал, брошюрку про рак толстой кишки…
Не проходит и часа, как появляется Барри Манилоу:
– Яичник мы спасли. Вытащили кое-что размером с лимон.
– Лимон?
Врач поднимает руку, сжатую в кулак.
– Да, лимон. Правда, выглядел он как-то странно. – И пожимает плечами. – Мы отправили его в лабораторию на исследование.
Лимон, кровоточащий лимон, апельсин-королек… лимон, скисающий прямо в ней. Но почему они сравнивают опухоли с фруктами?
– Где-то через час ее привезут.
Когда я вхожу к жене в палату, она спит. Из-под одеяла торчит трубка, отводящая мочу в специальный мешочек. Жена подключена к кислороду и капельнице.
Я кладу руку ей на лоб. Она открывает глаза.
– Струйка свежего воздуха, – говорит она, берясь за трубку, подающую кислород. – Всегда было любопытно, что же при этом чувствуют.
Ей по капле вводят морфий, она сама может регулировать частоту капель. Переключатель у нее в руке, но она так и не нажимает на кнопку.
Я даю ей маленькие кусочки льда и ложусь рядом. А посреди ночи ухожу домой. И просыпаюсь утром с ее звонком.
– Цветы все шлют и шлют – завалили уже, – рассказывает она, – от больницы, от моих из неотложки, от клиники…
Врачи прямо как пожарные – когда свой попадает в беду, они точно с ума сходят.
– Катетер вынули, я сейчас в кресле. Уже пила сок и даже сама дошла до туалета, – гордо сообщает она. – Все такие предупредительные, прямо дальше некуда. Ну да и я просто идеальный пациент.
Я не даю ей договорить:
– Привезти тебе что-нибудь из дома?
– Чистые носки, тренировочные брюки, расческу, зубную пасту, мыло для лица, радио, ну и, пожалуй, банку диетической колы.
– Тебя же оставили всего на пару дней.
– Ты спросил, вот я и отвечаю. Да, и не забудь выгулять собаку.
Через пять минут она перезванивает, глотая слезы:
– Знаешь, что у меня? Рак яичников!
Я выбегаю из дома. Когда вхожу в палату, там никого. Я ожидаю самую что ни на есть романтическую сцену: она в слезах прижимается ко мне и признается, как сильно любит, как ей жаль, что настали такие непростые времена, как я ей нужен, просто необходим, больше, чем когда-либо… Но кровать пуста. На секунду меня пронзает мысль: она умерла, выбросилась из окна, сбежала…
В туалете слышен шум спускаемой воды.
– Я хочу домой, – говорит она, выходя уже в верхней одежде.
– Цветы заберешь?
– Ну ведь они же мои. Как думаешь, все медсестры уже знают про то, что у меня рак? Не хочу, чтобы кто-нибудь знал.
Медсестра вкатывает коляску; втроем мы спускаемся в холл.
– Удачи вам, – напутствует она нас, загружая букеты в машину.
– Знает, – заключает жена.
Мы едем по скоростной дороге Лонг-Айленда. Я веду и одновременно набираю номер. Звоню нью-йоркскому врачу жены.
– Ей надо как можно быстрее показаться Киббовицу, – говорит врач.
– Как думаешь, я потеряю яичник?
Она потеряет все. В глубине души я понимаю это.
Вот мы и дома. Жена сидит в кровати, с собакой на коленях. Осторожно приоткрывает марлевую повязку – шрам кривой; такая неаккуратность оскорбляет до глубины души.
– Как думаешь, это можно исправить? – спрашивает она.
Утром мы отправляемся на прием к Киббовицу. Она снова на столе, ноги разведены и покоятся в держателях на стартовой позиции, в ожидании. До прихода врача ее успели опросить и осмотреть семеро студентов-медиков. Я их ненавижу. Ненавижу за то, что они говорят с ней, прикасаются к ней, а драгоценное время утекает. Ненавижу Киббовица – он вот уже второй час заставляет ее ждать, лежа на этом столе.
Она сердится на меня за то, что я раздражаюсь:
– Это их работа.
Появляется Киббовиц. Огромный, как игрок хоккейной сборной, ведет себя грубо и бесцеремонно. Мне сразу же становится ясно, что жене он нравится. Она готова делать все, что скажет этот Киббовиц.
– Двигайтесь. Ближе, ближе, – говорит он ей, усаживаясь на стул между ее ног.
Она приподнимает попу и скользит вниз. Он осматривает ее. Заглядывает под марлевую повязку.
– Кривой, – отмечает он. – Одевайтесь и проходите ко мне в кабинет.
– Назовите мне конкретную цифру, – просит она. – Сколько выживает.
– Я с цифрами дела не имею, – отвечает он.
– И все же мне нужно знать.
Он пожимает плечами.
– Ну, процентов семьдесят, где-то так.
– Семьдесят?
– Семьдесят живут еще пять лет.
– А потом? – спрашиваю я.
– Потом для некоторых – все, конец, – говорит он.
– А что в итоге? – спрашивает жена.
– А чего вы сами хотите?
– Я хотела ребенка…
Такие вот непростые переговоры: каждая часть тела обсуждается.
– Я мог бы вынуть только один яичник, – говорит он. – После «химии» попробуете забеременеть, а когда родите, снова поборемся – вынем уже все остальное.
– А после «химии» беременеют? – спрашиваю я.
Врач пожимает плечами.
– Чудеса случаются… Вопрос в другом: вы не сможете вырастить ребенка, если умрете. Вам не обязательно решать прямо сейчас, сообщите мне через день-другой. А пока я закажу операционную на утро пятницы.
Он жмет мне руку:
– Приятно было познакомиться.
– Хочу, чтобы был ребенок, – говорит жена.
– Хочу, чтобы была ты, – говорю ей я.
И все, больше ни слова. Что бы я ни сказал, она поступит ровным счетом наоборот. Вот до чего мы дошли: злость, упреки, обвинения… Если что, не хочу потом оказаться крайним.
Она открывает дверь смотровой. И спешит по коридору за врачом, поддерживая живот с надрезом, свою рану.
– Удаляйте! – кричит она. – Удаляйте всё, черт с ним!
Врач стоит перед дверью другой смотровой, в руках у него история болезни.
Он кивает.
– Вытащим через вагину. Яичники, матку, шейку, сальник, ну и аппендикс, если вы от него еще не избавились. Потом введем троакар и назначим химиотерапию – восьми циклов должно хватить.
Она кивает.
– Жду вас в пятницу.
Мы уходим. Я держу жену за руку, несу ее сумочку на своем плече – пытаюсь быть таким же заботливым и предупредительным, как и любой другой на моем месте. Она шипит и царапается – все равно что кошка, которую тащат к ветеринару.
– Почему они не говорят «вырежем»? Почему не скажут прямо: в пятницу мы вырежем вам то-то и то-то – так что будьте готовы?
– Хочешь, перекусим? – спрашиваю я у нее; мы идем по улице. – Может, закажем по супу? Тут рядом неплохое местечко.
Лицо у нее пунцовое. Я щупаю ей лоб. Она вся горит.
– У тебя жар. Ты сказала врачу?
– Это к делу не относится.
Потом, когда мы уже сидим дома, я спрашиваю:
– А помнишь наше третье свидание? Помнишь, ты спросила, каким способом я бы покончил с собой, если бы мне пришлось делать это голыми руками? Я сказал тогда, что разобью себе нос и вдавлю его прямо в мозг; а ты сказала, что голыми руками залезешь в вагину и выдернешь матку, швырнув ее через всю комнату.
– И что?
– Да нет, ничего, просто вдруг вспомнил. Разве Киббовиц не собирается вытащить матку через вагину?
– Вряд ли он швырнет ее через всю комнату, – заметила она.
Повисла пауза.
– Теперь, когда у меня нашли рак, тебе незачем оставаться со мной. Ты мне не нужен. Мне никто не нужен. Никто и ничто.
– Если я и уйду, то совсем не из-за того, что у тебя рак. И потом, я буду выглядеть законченным негодяем, все решат, что я попросту струсил.
– Не решат – я изображу из себя настоящее чудовище, без капли жалости, расскажу всем, что сама прогнала тебя.
– Так тебе и поверят.
Она вдруг пукает и в смущении убегает в ванную – как будто такое случается с ней впервые в жизни.
– Все, моя жизнь кончена! – кричит она, с силой захлопывая дверь.
– Подумаешь! Пернуть – это еще не самое страшное, – замечаю я.
Из ванной она выходит уже поспокойнее. Забирается в кровать и ложится рядом, дрожащая и измученная.
Я обнимаю ее:
– Хочешь заняться любовью?
– Ты имеешь в виду – последний раз перед тем, как я перестану быть женщиной? Перед тем, как превращусь в высохшую, морщинистую оболочку?
Так что мы не трахаемся, а ссоримся. Оба действия похожи – драматичные и иссушающие. Когда мы прекращаем, я откатываюсь от нее и, сжавшись, засыпаю на своей половине.
– Хирургическая менопауза, – произносит жена. – Прямо как приговор.
Я поворачиваюсь к ней. Она проводит рукой по волоскам внизу живота.
– Как думаешь, меня побреют?
Нет, я не могу оставить женщину, больную раком. Я не из таких. Вот только не знаю, что делать, потому что эта больная раком – настоящая стервозина. Надеяться, что, заболев, она взглянет на себя по-другому, примет недуг как возможность, необходимость измениться? Для жены не существует такого понятия, как связь между умом и телом, для нее существуют только наука и закон. Всё, кроме фактов, – сплошная ерунда.








