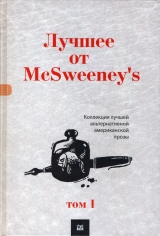
Текст книги "Лучшее от McSweeney's, том 1"
Автор книги: Дэйв Эггерс
Соавторы: Джонатан Летем,Кевин Брокмейер,Джордж Сондерс,Лемми Килмистер,Зэди Смит,Джим Шепард,Энн Камминс,Артур Брэдфорд,А. Хоумз,Александар Хемон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
– Ой, – сказал он. – Извини.
Но когда он ретировался в гостиную и направился к своему креслу, Карен пошла за ним. Она прислонилась к дверному проему и стала наблюдать, как он освобождает от ботинок натруженные ноги и потирает рукой подошвы в носках. Она казалась очень хмурой.
– Что-то случилось? – спросил он, выдавив из себя неуверенную улыбку.
Она вздохнула.
– Мы должны поговорить про вчерашнее, – сказала она. – Мне нужно знать, что происходит.
– Да ничего не происходит, – начал он, но жесткий взгляд, которым она его смерила, снова вверг его в состояние тревоги. – Я не мог заснуть. Тогда я пошел в комнату и стал смотреть телевизор. Всё.
Она не отводила от него взгляда.
– Джин, – сказала она, секунду помедлив. – Обычно не бывает, чтобы человек просыпался в гостиной на полу и не помнил, как он там оказался. Это довольно странно, ты так не считаешь?
«Господи, ну пожалуйста!» – мысленно взмолился он. Он поднял руки вверх, пожал плечами – жест человека, который ни в чем не виноват и уже начинает сердиться, – но внутри у него все ходило ходуном.
– Я понимаю, – сказал он. – Да, я согласен, что это странно. Мне снились кошмары. Я действительно не понимаю, что со мной стряслось.
Она долго его изучала, и ее взгляд был тяжелым.
– Понятно, – сказала она, и он буквально ощутил, как обида поднимается в ней жаркой волной. – Джин, – продолжала она, – я прошу тебя только об одном: будь со мной честен. Если у тебя что-то не в порядке, если ты снова запил или подумываешь об этом… Я хочу тебе помочь. Мы сумеем справиться. Но ты должен быть честен со мной.
– Нет, я не запил, – твердо сказал Джин. Он смотрел ей прямо в глаза. – И не подумываю об этом. Когда мы познакомились, я сказал тебе: с этим покончено. И это правда. – Он чувствовал, что кто-то крадется вдоль дальней стены комнаты и тайком, неприязненно наблюдает за ним… – Не понимаю, – добавил он. – Что случилось? Почему ты решила, что я тебе вру?
Карен переменила позу. Она все еще пыталась прочесть что-то у него на лице, она все еще не верила ему – он это видел.
– Послушай, – сказала она наконец, и он понял: она едва удерживается, чтобы не заплакать. – Сегодня тебе звонил какой-то человек. Пьяный. Он велел передать тебе, что вчера вы отлично погуляли, и он ждет не дождется, когда встретится с тобой снова. – Она нахмурилась и посмотрела на него так, словно эти последние слова страшнее всего изобличали его во лжи. Из уголка глаза выкатилась слеза и повисла у переносицы. У Джина сдавило грудь.
– Какой-то бред, – сказал он. Он хотел, чтобы в его голосе прозвучала ярость, но ему вдруг стало очень страшно. – Как его звали?
Она грустно покачала головой.
– Понятия не имею, – сказала она. – Как-то на «Б». У него так заплетался язык, что я едва могла разобрать, что он говорит. То ли Би Бей, то ли Би Джей, то ли…
Джин почувствовал, что волоски у него на спине встали дыбом.
– Ди Джей? – тихо спросил он.
Карен пожала плечами и подняла голову. Лицо у нее было заплаканным.
– Я не знаю! – хрипло проговорила она. – Не знаю. Может быть.
Джин закрыл лицо рукой. Теперь он явственно чувствовал, что в голове у него что-то жужжит и щекочет.
– Кто такой Ди Джей? – спросила Карен. – Джин, объясни же мне, что происходит!
Он не мог. Даже сейчас он ничего не мог ей объяснить. Тем более сейчас, думал он, ведь признайся он, что лгал ей все время, с самой их встречи, это лишь подтвердило бы все те страхи и подозрения, которые она вынашивала… Сколько – несколько дней? недель?
– Мы были знакомы очень-очень давно, – сказал Джин. – Он… нехороший человек. Такой, который вполне может… позвонить и наговорить гадостей, чтобы тебя огорчить.
Они сидели за столом на кухне и молча наблюдали, как Фрэнки поглощает гамбургер и кукурузу. У Джина все это не укладывалось в голове. Ди Джей, думал он, ткнув пальцем в булочку своего гамбургера, который он даже не откусил. Сейчас ему должно быть пятнадцать лет. Может быть, он их нашел? Может быть, он шпионит за ними? Следит за домом? Джин попытался сообразить, может ли Ди Джей каким-то образом быть связан с приступами Фрэнки. Может быть, он как-то связан с тем, что произошло прошлой ночью – например, подкрался к Джину, когда тот сидел и смотрел телевизор, отравил его или сделал что-нибудь в этом роде? Нет, все это было слишком неправдоподобно.
– Может быть, это просто какой-то алкаш, – сказал он наконец, обращаясь к Карен. – Позвонил и случайно попал к нам. Он ведь не называл меня по имени, правда?
– Я не помню, – тихо проговорила Карен. – Джин…
И вот этого сомнения, этого недоверия, написанного у нее на лице, Джин вынести уже не смог. Он с силой ударил кулаком по столу, и звон его тарелки наполнил комнату гулким эхом.
– Прошлой ночью я ни с кем не уходил! – сказал он. – Я не пил! Или ты мне веришь, или можешь…
Оба уставились на него. У Фрэнки расширились глаза, и он положил початок кукурузы, в который уже собрался вонзить зубы, словно ему расхотелось есть. Карен сжала губы.
– Или я могу что? – спросила она.
– Ничего, – выдохнул Джин.
Воцарилась атмосфера… нет, не скандала, а молчаливой отчужденности. Она знала, что он не говорит ей правды. Она знала, что он что-то скрывает. Но что он мог ей сказать? Он стоял у раковины и старательно мыл посуду, пока Карен купала Фрэнки и укладывала его спать. Он ждал, вслушиваясь в тихие вечерние звуки. Снаружи, во дворе, были качели и ива – серебряно-серая, словно закоченевшая в свете ночного фонаря, висевшего над гаражом. Он подождал еще немного, наблюдая, почти ожидая, что сейчас из-за дерева, как это было во сне, покажется Ди Джей, со своей сгорбленной спиной и плотно натянутой на непропорционально большой голове кожей – и подкрадется к нему. У Джина появилось все то же удушливое ощущение, что за ним наблюдают, и, когда он споласкивал тарелку под краном, у него задрожали руки.
Когда он наконец поднялся наверх, Карен в пижаме уже лежала в постели и читала.
– Карен, – начал он, и она демонстративно перевернула страницу.
– Я не хочу разговаривать с тобой, пока ты не будешь готов рассказать мне правду, – заявила она. Она не смотрела на него. – Поспи, пожалуйста, на диване, если не возражаешь.
– Скажи мне только одно, – сказал Джин. – Он оставил номер? Ну, чтобы я ему перезвонил?
– Нет, – сказала Карен. Она не смотрела на него. – Просто сказал, что скоро еще раз с тобой увидится.
Ему казалось, что он вообще не заснет. Он не стал умываться, чистить зубы и переодеваться в пижаму. Он просто сидел на диване в своей рабочей одежде и в носках, смотрел телевизор, приглушив звук; вслушивался. Полночь. Час.
Пошел проверить, как там Фрэнки, убедился, что с ним все в порядке. Фрэнки спал, открыв рот и отбросив одеяло. Джин постоял в дверях, какое-то время напряженно выжидая, но все было нормально. Черепаха неподвижно сидела на камне, книги были аккуратно поставлены в ряд, игрушки убраны. Фрэнки видел сны, и его лицо то напрягалось, то расслаблялось.
Два часа. Джин вернулся на диван; полусонный, он испуганно вздрогнул, когда вдали проехала скорая помощь, но больше ничего не было слышно – только сверчки и цикады. На секунду проснувшись, он тяжело заморгал, увидел, что по телевизору снова показывают «Колдунью», перебрал каналы. На одном продавали драгоценности. На другом кто-то вскрывал труп.
Во сне Ди Джей был старше. На вид ему было лет девятнадцать-двадцать, и он заходил в бар, где на табурете, сгорбившись, сидел Джин и отхлебывал пиво из кружки. Джин узнал его сразу же – эту сгорбленную спину, тонкие плечи, огромные глаза. Но руки Ди Джея стали длинными и мускулистыми, и на них были татуировки. Лицо его было угрюмым и недобрым, когда он подошел к стойке и, протиснувшись, оказался рядом с Джином. Ди Джей заказал порцию виски «Джим-бим», которое Джин так любил раньше.
– Я много думал о тебе с того самого момента, как умер, – тихо произнес Ди Джей. На Джина Ди Джей не смотрел, но тот понимал, что обращается он именно к нему, и, когда Джин сделал очередной глоток, его руки тряслись.
– Я долго искал тебя, – тихо продолжал Ди Джей. В баре было жарко и душно. Дрожащими руками Джин положил в рот сигарету, затянулся и закашлялся от дыма. Он хотел извиниться. Он хотел попросить прощения. Но не мог вдохнуть. Обнажив маленькие, искрошившиеся зубки, Ди Джей наблюдал, как Джин хватает ртом воздух.
– Я знаю, как сделать тебе больно, – прошептал Ди Джей.
Когда Джин открыл глаза, комната была наполнена дымом. Он встал, не понимая, где находится. Секунду он все еще был в баре с Ди Джеем, но потом понял, что он у себя дома.
Где-то горело – это было слышно. Про огонь говорят, что он «трещит», но на самом деле звук, который он издает, больше похож на усиленный во много раз лязг, с которым тысячи и тысячи крохотных прожорливых тварей что-то жуют маленькими влажными челюстями, а потом, когда пламя находит новый источник кислорода, его шум становится похож на заливистый лай. Все это Джин мог расслышать, хотя ничего не видел и задыхался от дыма. Вокруг стоял густой туман, словно сама гостиная рассыпалась на атомы, растворилась, а когда Джин попытался подняться, гостиная исчезла. Была лишь непроницаемая пелена, и Джин опять рухнул на четвереньки, блюя и кашляя; тоненькая струйка рвоты поползла по ковру перед продолжавшим болтать телевизором.
У него хватило присутствия духа не вставать на ноги, а проползти на четвереньках под плотной, клубящейся завесой. «Карен! – крикнул он. – Фрэнки!» – но голос его утонул в яростном шуме пламени, усердно пожирающем свою пищу. «Аххх», – задохнулся он, когда снова попытался выкрикнуть их имена.
Он добрался до лестницы и увидел наверху лишь пламя и тьму. Не вставая с четверенек, он поднялся на первую ступеньку, но жар отбросил его вниз. Джин почувствовал у себя под ладонью одного из игрушечных супергероев Фрэнки; расплавленная пластмасса прилипла к коже; Джин стряхнул его, и в этот миг в спальне Фрэнки показалась новая яркая вспышка пламени. На верхней ступеньке лестницы он сумел разглядеть сквозь клубы дыма фигуру ребенка – тот, сгорбившись, мрачно смотрел на Джина, а его лицо сияло, залитое ослепительным светом. Джин закричал, рванулся прямо в пекло, пополз вверх по ступенькам, выше, к спальням. Он снова попытался крикнуть, но его лишь опять вырвало.
Еще одна вспышка окутала фигуру того, что он считал ребенком. Джин почувствовал, как съежились и зашипели его волосы и брови, когда со второго этажа на него выдохнуло взрывом искр. Он видел, как в воздухе носятся раскаленные частички какого-то вещества, они вспыхивали рыжим светом, а потом меркли, обращаясь в пепел. Воздух был полон злобным жужжанием, и единственными звуками, которые слышал Джин, когда упал и, кувыркаясь, покатился вниз по ступенькам, был этот гул и его собственный голос – долгая гласная, которая застыла в воздухе, отозвавшись эхом, когда дом закружился и утратил свои очертания.
И вот он лежал в траве. Лучи красного света, кружась в монотонном ритме, били ему в глаза. Женщина-санитарка, оторвала свои губы от его губ. Он сделал длинный, отчаянный вдох.
– Тсссс, – тихо сказала она и прикрыла рукой его глаза. – Не смотрите.
Но он посмотрел. Он увидел в отдалении длинный черный пластиковый мешок, с одного конца которого свисала прядь светлых волос Карен. Он увидел почерневшее, съежившееся тело ребенка, свернувшегося калачиком. Тело положили в раскрытый пластиковый мешок на молнии, и Джин увидел рот – застывший, окаменевший, округлившийся. Крик.
Перевод Е. Кулешова
ТРОЙНАЯ МЕДИТАЦИЯ О СМЕРТИ
Уильям Т. Воллманн
I. Мысли в катакомбах
Смерть ординарна. Всмотритесь в нее; отнимите шаблоны и заученные уроки от тех смертей, что причинены оружием, тогда остаток, возможно, покажет нам, что такое насилие. С этими мыслями я шел по длинным туннелям парижских катакомб. Стены из земли и камня служили опорой для стен из смерти толщиной в бедренную кость: длинные желтые и коричневые кости были сложены в штабеля, суставы выпирали вперед, словно старые кирпичи с искрошившимися краями, словно перевернутые костяные улыбки, словно черствые желтые закрученные макароны – сочленения костей, головки костей, их случайное соседство, темнота в центре каждой, между двойными полушариями, некогда помогавшими поворачиваться другой кости и таким образом направлять и поддерживать плоть в ее страстном, а зачастую и сознательном стремлении к смерти, которую она в конце концов находила; ряды бедренных костей, затем плечевых, кости поверх костей, несколько слоев составляют костяную полку, опору для смерти; ряды плечевых и бедренных костей немного скошены вниз и создают в чем-то даже приятный глазу эффект каменной кладки – масонские максимы в интерпретации наполеоновских инженеров и каменщиков смерти, тщательно обработавших и организовавших этот смертельный материал сообразно ново-имперским веяниям и санитарной эстетике. (Посещал ли Император это место? Он не боялся смерти – ни собственной, ни той, которую нес другим.) Были еще боковые комнатки со стенами из костей и как бы перекрытиями из костяных балок, среди которых без всякой пользы изредка торчали черепа, и то там, то здесь чье-то вдохновение украсило фасады перекрестиями бедренных костей. Как мне сказали, в этом месте сложены останки примерно шести миллионов людей – столько же, согласно оценкам, погибло евреев во время Холокоста. Преступление, потребовавшее от нацистов шести лет невероятных усилий, природа совершила легко и без специального оборудования – и продолжает совершать.
Деньги я заплатил еще наверху – я пришел сюда взглянуть на свое будущее. Но когда после прохода по длинным и невыразительным разветвлениям первых подземных переулков я наконец встретился со своими братьями и сестрами – обызвествленными человеческими созданиями, в других обстоятельствах обреченными стать землей, крысиной плотью, плотью корней или ветвей и вскоре умереть опять, – я не почувствовал ничего, кроме легкой меланхолии и любопытства. Человек знает, что умрет, он видел скелеты и черепа на хеллоуинских масках, в анатомичках и мультфильмах, на предупредительных знаках, судебных фотографиях и фотографиях старых эмблем СС – здесь же черепа время от времени выступали из стен, подсвеченные, словно речные валуны, и постепенно любопытство, как это часто бывает, уступило место оцепенению. Но человек еще не выбрался из-под земли.
Костяные стены охватывали собою колодцы, дренажные углубления, выкопанные в этих туннелях; вода капала с потолка прямо на головы туристов – возможно, просочившись сквозь трупы. Тошнотворная удушающая пыль проникала в глаза и в горло, ибо нигде, кроме абстрактных рассуждений, а возможно, и в них тоже, присутствие смерти не сказывается на живых благотворно. Некоторые черепа были датированы 1792 годом. Потемневшие, но до сих пор не тронутые гнилью, они подавляли меня самим фактом своего продолжающегося существования. Лучше бы эти инженеры дали им спокойно разложиться. Они могли бы сделаться частью величественных деревьев или питательных овощей, что становятся кровью маленьких детей, их растущими костями. Вместо этого они лежали здесь, жесткие и упрямые, как застарелые разногласия, вместилища давно распавшихся душ, грубый забор бесполезной материи. В этом, как я полагал, была причина моего возмущения. Воистину слабым местом оказалось то, о чем говорил Элиот: «Я не думал, что смерть погубила столь многих»; оцепенение сменилось тягостным чувством, тошнотой и клаустрофобной ловушкой, в которую загнала меня моя биология. Да, конечно, я знал, что умру, не раз утыкался носом в этот непреложный факт, и сегодняшний случай стал еще одним в ряду эпизодов, между которыми мой язык бойко признавал то, что втайне отвергало сердце, ибо с какой стати жизнь обязана нести внутри своей плоти разъедающую и отравляющую веру в неотвратимость своей же собственной кончины? Черепа спали на костяных штабелях, обратив вниз глазницы, подобно панцирям крабов-отшельников среди вынесенных океаном трупных обломков. Это был некрофильский пляж, только без океана, если не считать таковым землю у нас над головами, сквозь которую просачивалась и капала клейкая жидкость. Еще один костяной крест, и затем краткая эпитафия:
МОЛЧИ, ЧЕЛОВЕК…
ТЩЕТА И БОГАТСТВО, МОЛЧИТЕ…
Слова звучат на французском более властно, чем в моем переводе, но большего не нужно, ибо обызвествленные мириады скелетов говорят об этом лучше всех поэтов и командиров. В поклонении трупам есть что-то вызывающее страх, ужас и ненависть; в действительности же оно не стоит таких эмоций само по себе, если, конечно, не затронута память близких; тем не менее время, проведенное в обществе смерти, – это время, истраченное впустую. Жизнь утекает, подобно воде, проникающей в катакомбы, в конце концов умолкнем и мы, как умолкли наши предки, так не лучше ли заняться тщетой и богатством, пока это возможно? Миг за мигом наша жизнь уходит прочь. Кричи, стони или убегай – все бесполезно, так не лучше ли забыть о том, чего невозможно избежать? Тянулись и тянулись кривые переулки смерти. Иногда возникал запах, сырный, уксусный запах, знакомый мне после одного-двух визитов в полевые морги; избавиться от него было невозможно, и пыль смерти высушивала горло. Я подошел к чему-то вроде пещеры, заваленной до уровня подбородка кучами костей, не пригодившихся при строительстве: тут лежали тазовые кости и ребра (позвонки и другие мелкие кости, должно быть, выбросили или они попросту сгнили). Эти реликты стали почти прозрачными, словно морские ракушки, настолько глубоко проела их смерть. Запах, этот кислотно-тошнотный запах прожигал мне горло, но, возможно, я оказался слишком к нему чувствителен, ибо другие туристы не выказывали признаков отвращения, наоборот, иные смеялись, то ли из бравады, то ли потому, что все вокруг казалось им нереальным, точно в фильме ужасов; они не верили в свое будущее, которое непременно наступит в следующем акте – видимо, поэтому какой-то неприятный тип надумал утащить с собой кость, будто ему мало костей внутри собственного живого мяса. Он, похоже, был не единственным, ибо, дойдя до конца и поднявшись на уровень улицы, мы были встречены человеком при исполнении, сидевшим за столом с двумя черепами, отобранными в тот день у воришек; этот человек проверил наши сумки. Я был счастлив, когда прошел мимо него и увидел солнечный свет – может, даже слишком счастлив, ибо с тех пор, как я стал подрабатывать военным журналистом, смерть меня больше не возбуждает. Я пытаюсь ее понять, даже подружиться с ней, но не извлекаю из наших встреч никаких уроков, кроме осознания собственной беспомощности. Смертельная вонь забивает мне ноздри, как это происходило в тот прохладный, солнечный осенний парижский день, когда мне так хотелось быть счастливым.
Багеты и батоны в булочной, крахмальные mini-ficelles,круассаны и pains-aux-chocolat [20]20
Mini-ficelles —небольшой тонкий батон, pains-aux-chocolat —булочка с шоколадом (фр.).
[Закрыть]– все напоминало мне кости. В другом магазине воняло сыром костяного цвета. Все вокруг, стальные черви тоннелей метро, пробуравленные сквозь совсем другие катакомбы, толчея пока еще живых костей, спешащих из одной дыры в другую. В книжной лавке на Рю-де-Сен я откопал томик По в демоническом переплете с прожилками пламени на форзаце; на вклейках (разумеется, ручной работы) изображены жуткого вида скелеты с угрожающе скрюченными костяшками пальцев. На площади Сен-Жермен у церкви, закопченной и потемневшей от времени до цвета сыра и костей, я подглядывал за чьей-то свадьбой: невесте в белом платье вскоре предстояло стать желтыми костями. Узкие и бледные бетонные шпалы железнодорожных путей, металлические или деревянные штакетины заборов, модель позвоночника в витрине анатомического книжного магазина, даже столбы, стволы деревьев, любые линии, вырезанные на чем-то или подразумеваемые, сам мир во всех своих сегментах, лучах и отдельных категориях сделался устрашающе трупоподобным. Я видел и вдыхал смерть. Я чувствовал на зубах ее вкус. Я выдыхал, но слабые порывы из моих легких не могли побороть тошноту. Это оказалось под силу только времени – ночи и дню, если быть точным, – после которых я снова, до той самой минуты, пока не сел писать эти слова, забыл, что должен умереть. Поверил, но лишь на миг. Так я стал одним из этих черепов, которые уже не знают о своей смерти. Даже записывая все это, выгребая буквы из алфавитного кладбища – опохожи на черепа, iи lна ребра, b, q, ри dна половинки плечевых костей, – я верил лишь частично. Запах вернулся ко мне в ноздри, но теперь я был в Вене, – в Венские катакомбы я, кстати, решил не ходить, – а потому вышел на улицу подышать запахом эспрессо со свежими сливками. Написанное, как и положено, пропиталось хореографиями и парадигмами, привносящими во что-то скорее сам этот запах, нежели его отталкивающую пустоту. Я ищу смысл там, где его можно найти; если я его не нахожу, я его изобретаю. Занимаясь этим, я отвергаю бессмысленность и тем самым обманываю самого себя. Опыт не всегда лжет, но запах не равнозначен опыту постижения материи, его испускающей. Опыт смерти недоступен ни мертвым, ни живым. Проект парижских рабочих по эстетизации, упорядочиванию и в некоторой степени трансформации объектов, из которых состояли они сами, оказался на удивление удачным, но все то же самое можно было соорудить из черствых буханок хлеба. Материалом послужили кости, но не смерть. Она значит слишком мало, она говорит нам слишком мало, почти так же мало, как эта маленькая история. Она рассказывает о них, как я должен рассказывать о себе. Я могу разобрать их смысл. Смысл смерти я разобрать не могу. Для меня смерть – это прежде всего запах, очень неприятный запах, но и он, подобно скелетам, которыми пугают детей, никоим образом не смерть. Если бы мне пришлось вдыхать его чаще, если бы я работал в катакомбах, я бы вообще о нем не думал. Через несколько лет или десятилетий я не буду думать ни о чем вообще.
II. Мысли в прозекторской
В обязанности коронера входит сбор сведений, а также выяснение обстоятельств и причин всякой насильственной, непредвиденной либо необычной смерти…
Свод законов штата Калифорния, п. 27491 [21]21
Положение об обязанностях судебно-медицинской экспертизы, Сан-Франциско, Свод Правил и Нормативов (брошюра), июнь 1996 г. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Олдос Хаксли однажды написал, что «если большинство из нас столь невежественны по отношению к самим себе, то лишь потому, что самосознание причиняет боль, и мы предпочитаем ему радость иллюзии». [22]22
Олдос Хаксли, «Вечная Философия». (Прим. автора.)
[Закрыть]По этой причине кто-то, пожалуй, отмахнется от тяжелого урока, полученного в катакомбах. Но принцип можно расширить: болезненно не только самосознание. Рассмотрим черную девушку, однажды ночью извлеченную следователем из мусорного бака. Рот у нее перепачкан кровью, в чем не было ничего странного – эта бездомная алкоголичка страдала варикозными кровотечениями. Но, осветив лучом фонаря темноту ротовой полости, следователь заметил блеск – то была не кровь и не слюна, сверкнувшая, как металл, а металл в чистом виде – обломок лезвия. Во рту девушки, не способной больше говорить, лежала причина ее смерти. Следователь не мог вернуть ей жизнь, но этим двойным извлечением – ножа из трупа и трупа из зловонного бака – он воскресил нечто иное: неизменную истину, которую убийца из страха, ярости или холодного эгоизма намеревался похоронить; эта истина – сам факт убийства, реальность, что была бы не менее реальной, оставшись неизвестной; однако до тех пор, пока она не узнана и не доказана, от нее нет никакой пользы. Какой пользы? Очень простой: выяснение причины смерти есть в некотором смысле предпосылка справедливости и правосудия, несмотря на то, что справедливость, как и любое общее понятие, может служить основой всего, что только возможно – от исправления до оправдания, от компенсации до мести, включая какие угодно лицемерные клише. В кабинете судебно-медицинской экспертизы эту пользу видят очень хорошо, также понимая, что обязанность по превращению их заключений в справедливость и правосудие лежит не на них, а на двенадцати гражданах со скамьи присяжных; работа же медицинских экспертов и коронера необходима, но не достаточна. Возможно, родные и близкие той черной женщины это поняли, если, конечно, у нее были родные и близкие, если им было до нее дело, и если они не лишились рассудка от горя. Морг станет для них всего лишь первой остановкой на крестном пути (затем: похоронное бюро, кладбище, возможно, судебная палата и непременно – пустой дом). Общение с родственниками одновременно и самая тяжелая, и самая важная часть работы по выяснению истины: как я уже говорил, знание причиняет боль. Доктор Бойд Стивенс, главный судебно-медицинский эксперт Сан-Франциско, позже скажет мне: «Надеюсь, вы поймете, что сюда приходят люди, у которых большое горе. И если совершено преступление, если сына этой женщины убили во время вооруженного ограбления, вынести это невероятно трудно, это ужасный эмоциональный удар». Сам я очень рад, что мне не пришлось этого видеть. Я и без того видел достаточно. В катакомбах смерть не затрагивала чувств, для следователя, нашедшего ту черную женщину, мораль смерти также остается белым пятном – это может быть самоубийство, убийство, несчастный случай или то, что мы обреченно называем «естественной смертью». Через двадцать шесть лет после самого события одна добрая женщина, на глазах которой оно происходило, написала мне о гибели моей младшей сестренки. Мне в то время было девять лет, а моей сестре шесть. Женщина писала: «Я помню вас, очень худенького, очень бледного, со сжавшимися плечиками и мокрыми волосами, вы горько плакали в сторонке. Вы сказали: я не знаю, где Джули». Она описала еще многое из того, что запомнила. Я плакал, читая ее письмо. Еще там было: «Мне очень хочется сказать: какая бессмысленная смерть, но это неправда. В день, когда утонула Джули, я поняла, что к некоторым сторонам жизни неприменимы понятия смысла или бессмысленности. В той плоскости, где находится смерть Джули, не существует преступлений и наказаний, причин и следствий, действия и противодействия. Это произошло и все». Вполне разумно. Назовем это… ну, хотя бы моральной или этической бессмыслицей. (Кажется, я ей так и не ответил, мне было слишком тяжело.) Только когда на смерть обрекают справедливость и правосудие – вешают убийцу, наша армия бомбит гитлеровский Берлин, жертва защищает свою жизнь и убивает нападающего – лишь тогда мы готовы признать, что гибель оправдана.
Принципиальное самоубийство также что-то значит. Самоиссечение Катона [23]23
Катон Младший (Утический) Марк Порций (95–46 до н. э.) – римский политический деятель, судебный оратор, философ, известный своей справедливостью и неподкупностью. Совершил самоубийство из-за падения республики, которую защищал.
[Закрыть]послужило обвинением всепобедительному Цезарю, которому суждено было после этого проявить милосердие, и чья покровительственная власть обернулась беспомощностью при виде обычного трупа. Но большинство людей (включая множество самоубийц и почти всех, кто умирает из-за злонамеренной несправедливости и неправосудия) умирают случайно, бессмысленно и, в конечном счете, безвестно: такова участь «ничьих» черепов в катакомбах или, скажем, черной женщины в мусорном баке. Неважно, имелась ли у ее убийцы причина ее убивать – она погибла ни за что, и никакая токсикология, никакие анализы крови на всем белом свете, даже если они приведут к поимке преступника, не в силах этого изменить. Казнь убийцы может что-то значить, смерть его жертвы – почти наверняка ничего.
От белого катафалка к смотровой комнате
За 1994–1995 финансовый год в округе Сан-Франциско умерло больше восьми тысяч человек. Половина этих смертей была сочтена в том или ином смысле подозрительными, и соответствующие документы отправились в контору доктора Стивенса; в трех тысячах случаев сомнения были всего лишь проформой, после выяснения обстоятельств документы подписывались медицинским экспертом, и дело закрывалось – то есть выяснение получалось косвенным, едва ли не онтологическим. Оставшиеся 1549 смертей стали заботой доктора Стивенса. Его изыскания за этот год привели к следующему: 919 естественных смертей, 296 несчастных случаев, не связанных с транспортом, 124 самоубийства, 94 насильственных смерти, 30 смертей при загадочных обстоятельствах, 6 синдромов внезапной смерти младенцев и 80 смертей в дорожных авариях – в большинстве пострадали пешеходы, и большинство – несчастные случаи (были там шесть убийств и одно самоубийство). [24]24
Положение об обязанностях судебно-медицинской экспертизы, Сан-Франциско, Годовой отчет, 1 июля 1994 – 30 июня 1995 г., стр. 9, 36. (Прим. автора.)
[Закрыть]А теперь я расскажу вам, как эти люди пришли к таким выводам. В Сан-Франциско имеется белая карета, лучше сказать, катафалк, с перегородкой между водительским сиденьем и крытым кузовом, снабженным двойной белой дверью для быстрой погрузки и выгрузки; в самом кузове – невыводимое рыже-бурое пятно: все, что годами соприкасается с плотью, рано или поздно начинает разлагаться. Пахнет там, разумеется, смертью – согласно моему опыту, это похоже на запах кислого молока, или рвоты с уксусом, или помоев, что наводит на мысль о мусорном баке, в который грубо затолкали убитую девушку. Горизонтальные рейки делят днище старых изношенных носилок из нержавеющей стали пополам и еще раз пополам. Поскольку Сан-Франциско расположен на холмах, эти носилки много лет назад подогнали в ближайшей мастерской так, чтобы они всегда стояли прямо; тела пристегивают ремнями, а носилки могут кататься на двух колесах. «Что-то вроде тачки», – сказал один из санитаров. Возможно, в последний раз умершему предстоит пробыть в вертикальном положении, пока, пристегнутого и замотанного, его осторожно везут по крутым ступеням и тротуарам. Карета останавливается у заднего входа в офис доктора Стивенса, на парковке табличка «ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦТРАНСПОРТА». Носилки выкатывают наружу. Их протаскивают сквозь двери с надписью «НЕ ВХОДИТЬ», хотя для всех нас, чье сердце еще бьется, лучше подошла бы надпись «ПОКА НЕ ВХОДИТЬ». Внутри тело взвешивают на грузовых весах, затем выкатывают для предварительного осмотра на середину унылой задней комнаты, три раза снимают отпечатки пальцев (если пальцы и кожа на месте) с помощью специальных черных чернил, густых, почти как конфеты-тянучки. В конце концов, тело упаковано в мешок на молнии и уложено до утра в холодильник. [25]25
Стилисту не понравится этот пассивный оборот. Но я не вижу грамматической конструкции, более подходящей для мертвых тел. (Прим. автора.)
[Закрыть]Если есть подозрения на убийство, следователи ждут дольше – минимум двадцать четыре часа, чтобы успели проявиться кровоподтеки, подобно тому как в последнюю минуту на плавающей в кювете бледной фотобумаге проявляется изображение; это случается, когда повреждены кровеносные сосуды в глубине тела. Кровоподтеки очень важны. Если на лице или руках якобы повесившегося человека видны следы насилия, следователи обязаны проработать версию убийства. [26]26
Информацию о пред– и посмертных контузиях я, как и многие, почерпнул у Лестера Эделсона в «Патологии убийства: Справочник патологоанатома, прокурора и консультанта защиты». (Прим. автора.)
[Закрыть]
К этому времени родственникам, возможно, уже сообщили. В большой прихожей с надписью «ВХОД ВОСПРЕЩЕН» я слышал чьи-то слова: «Да, Дэйв у нас. Мне очень жаль, что так случилось». Если пришли родственники, их ведут по узкому коридору к дверям с табличкой «СМОТРОВАЯ КОМНАТА». Смотровая комната – это секретное место, изолированное от посторонних глаз, как будка киномеханика в кинотеатре. В ней большое окно, выходящее в другую, тесную, но ярко освещенную комнату, где и развернется действие фильма – настоящего фильма, хотя сюжет завершился еще до того, как служащий прикатил на коляске бывшего актера. Фильм окончен, а родственники нужны доктору Стивенсу, чтобы убедиться в правильности титров. Они видят только лицо. Между смотровой и ярко освещенной тесной комнатой имеется дверь, но перед приходом родственников кто-то проверил, хорошо ли она заперта, – вдруг они бросятся обнимать нечто, прежде бывшее их любимым, при том, что оно могло испортиться или страшным образом сбросить человеческое обличье, и теперь его вид, запах или то, каким оно окажется на ощупь, вызовет у родственников лишь крик ужаса – нужно уважать любовь, каковую они, возможно, еще испытывают к предмету, неспособному отныне их любить, а уважение к любви в данном случае равнозначно уважению к неведению, в которое она облачена. Люди, работающие с доктором Стивенсом, давным-давно расстались со своим неведением. Их отношение притуплено привычкой, наукой, черным юмором и – более всего – необходимостью: если смерть была странной или подозрительной, необходимо разрезать этот предмет и заглянуть внутрь, чем бы он ни вонял.








