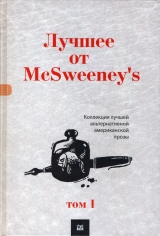
Текст книги "Лучшее от McSweeney's, том 1"
Автор книги: Дэйв Эггерс
Соавторы: Джонатан Летем,Кевин Брокмейер,Джордж Сондерс,Лемми Килмистер,Зэди Смит,Джим Шепард,Энн Камминс,Артур Брэдфорд,А. Хоумз,Александар Хемон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Соломонова притча: доктор Стивенс рассказал, как однажды, чтобы установить личность умершей девушки, в смотровую комнату привели по очереди трех матерей, и каждая сказала, что это ее дочь – с облегчением отчаяния, я полагаю. Я знаю женщину, у которой похитили сестру. Это произошло много лет назад, девушку так и не нашли. Нашли только машину на обочине. Раньше моя знакомая жила вместе со своей сестрой. Теперь она живет с одеждой своей сестры. Время от времени нанятый родителями частный детектив показывает ей фотографии очередного женского тела, иногда разложившегося почти до скелета, иногда нет, иногда изнасилованного, иногда нет, и моя подруга говорит: «Это не моя сестра». Я знаю, ей стало бы легче, если бы она могла войти в смотровую комнату и сказать (и поверить): «Да, это Ширли». Те три матери, должно быть, оставили надежду услышать когда-нибудь голоса своих дочерей, увидеть их улыбку. Они хотели проститься с ужасом и встретиться с горем. Они не хотели больше ходить в смотровую комнату. А может, стекло запачкалось, а может, глаза постарели от слез. Ошибка естественна. Но одной матери повезло. Мертвая девушка действительно оказалась ее дочерью.
Полицейская наивность
Для установления личности кто-то из людей доктора Стивенса уже заглянул в рот умершей женщины и, попутно обнаружив или не обнаружив там блеск ножевого лезвия, осмотрел зубы, пломбы и сверил их с записями дантиста. Кто-то снял отпечатки пальцев и сверился с каталогом; кто-то перебрал перепачканную смертью одежду и сверился с описанием. Начиная с плоти и одежды, им пришлось узнать то, чего не знали матери. Полицейская девица тоже многого не знала и наверняка не хотела знать. Молодой человек вколол себе в руку героин – может, слишком большую дозу, а может, порошок оказался слишком концентрированным (качество героина в последнее время неуклонно растет). Он умер, упав ничком, лицо распухло и посинело от цианоза. Полицейская девица об этом не знала, как я уже говорил. Он уже начал разлагаться, а она все лепила штрафные бумажки к ветровому стеклу его машины.
«Я доволен»
Вонючий труп, желто-розово-зеленый и голый, лежал на одном из выстроившихся в ряд наклонных фаянсовых столов, к каждому приставлена фаянсовая раковина для стока жидкости. У человека болела спина. Операция не помогла, и он глотал обезболивающие таблетки, пока не развилась зависимость. Таблетки приносили невнятное удовольствие, и он стал смешивать их с алкоголем. Когда приехала белая карета, у головы трупа стояло множество бутылочек с чужими таблетками. Ему не было сорока лет.
– Возможно все, – сказал один работник морга другому; он стоял, опершись на каталку, в это время доктор в маске, куртке и бахилах начал вскрывать мертвеца. – Просто у человека ограниченное воображение. – Кажется, они говорили о фотографии со спецэффектами. Он принес своему коллеге почтовый каталог фотокамер.
У мертвеца, между тем, дрожал и съеживался вытатуированный на бицепсе клинок, ибо доктор своим скальпелем делал стандартный разрез в форме буквы Y: от левого плеча к груди, от правого плеча к груди, затем через весь живот к лобку. Он делал это очень умело, словно старый эскимос, однажды на моих глазах вспарывавший моржа. Скальпель издавал жесткий сосущий звук. Словно рубашку, врач отогнул на груди кожу и мышцы, затем с треском вскрыл ребра, с виду почти как свиные. Руки в желтых перчатках, нырнув в алую дыру, добыли оттуда полную горсть сцепленных друг с другом колбас – именно так выглядели кольца кишок. Затем доктор засунул в брюшину шланг и держал, пока струя не стала розовато-прозрачной. Украшенная чем-то блестяще-лиловым, алым и желтым, двойная зубчатая стена ребер торчала вверх, ничего уже не защищая, аккуратно разделенная пополам.
Мертвец еще сохранял лицо.
Доктор набрал шприцем из полости кровь, собрал губкой кровь со стола, после чего настало время взвешивать органы мертвеца на специальном безмене; доктор называл цифры, а молодая симпатичная практикантка писала их мелом на доске. Слегка подгнившие легкие представляли собой расплывающуюся массу и сочились из-под скальпеля.
– Как желе, – мрачно сказал хирург.
Правое легкое оказалось больше левого, как это часто бывает у правшей. Другая возможная причина: человека нашли лежащим на правом боку, поза, при которой в легком могла собраться жидкость. В любом случае, его смерть бессмысленна.
Сердце весило 290 граммов. Доктор стал резать его на кусочки.
– Сосуд почти целиком закупорен атеросклерозом, – объяснила практикантка. – Он принимал слишком много наркотиков. Кокаин ускоряет развитие атеросклероза. К нам часто попадают молодые люди со старческими болезнями.
Это уже интересно и кое-что значит, подумал я. В том смысле, что следователи правильно поняли этого мертвеца. Интересно, хорошо ли его понимали до смерти.
– Боже, что творится с поджелудочной! – воскликнул вдруг доктор. – Так вот от чего он умер. – Он приподнял пурпурный пудинг, и на стол закапала кровь.
– Что случилось? – спросил я.
– В нормальном состоянии ее энзимы разжижают кровь. У парня было кровотечение. Химикаты попали в сосуды, и те не выдержали. Весьма частый случай у алкоголиков.
Настала очередь печени, желтой от жировых инфильтраций, появившихся из-за большого количества алкоголя.
– Видите, внутри кровь? – сказал доктор. – Но поджелудочная железа – это булка с изюмом. Поджелудочная железа – это кровяная масса. Кровь в брюшной полости. Быстрая смерть. Нам с ним повезло – легкий случай. Молодец мужик.
Он стал быстро отрезать кубики от каждого органа, они плавно выскальзывали из его желто-резиновых пальцев и падали в янтарного цвета банки. Патологоанатомы и токсикологи их заморозят, нарежут тонкими пластинками, добавят краситель и уложат на предметные стекла микроскопов – нужно убедиться, что покойный еще до начала кровотечения не перебрал какого-нибудь вещества. Тем временем, чтобы отмести возможность тайного удушения, изучающий скальпель доктора рассек горло. Многие по неопытности классифицируют особо искусные убийства как несчастные случаи, иногда несчастные случаи выглядят как убийства. Доктор не хотел такого допускать. Даже разобравшись с поджелудочной железой, он намерен был убедиться, насколько это возможно, что во рту у мертвого нет обломка ножа – в широком смысле этого слова.
– Что ж, очень хорошо, – хмыкнул хирург. Затем помощник, которого, пожалуй, стоит назвать судебно-медицинским техником, зашил мертвеца, предварительно затолкав ему в живот внутренности, упакованные теперь в мешок для мусора. Мозг, частично сгнивший и разжиженный, уже вынули из черепа. Лицо было скрыто под окровавленным одеялом кожи. Ее помощник тоже зашил, и человек снова обрел лицо.
– Я доволен, – сказал доктор.
О шутках и другой защите
Если саркастические шпильки патологоанатома кажутся вам бессердечными, задайте себе вопрос, не захотелось бы вам как-то защититься, если бы из года в год вам приходилось видеть и обонять все это. Ранним утром следующего дня я смотрел, как другой врач вскрывает филиппинца, из-за болезни и отчаяния повесившегося на электрическом шнуре. Я бывал и в морге, и на войне, но строгий, упрямый взгляд этого человека, его глаза, блестевшие как черное стекло, пока врач, тяжело дыша, диктовал замечания и рассекал внутренности (желтая перекрученная петля лежала рядом на столике), стали в ту ночь причиной моего кошмара. Этот доктор, как и его довольный коллега, был занят нужным делом. И тот, и другой доказывали, что ни один из этих мертвецов не был жертвой убийства и не носил в себе какое-либо инфекционное заболевание. Подобно солдатам, они трудились посреди смертей. Ягодицы в зеленых пятнах и распухшие лица были привычной для них картиной. Эти люди имеют полное право на притупляющие шутки. Не умеющий шутить долго не выдерживает.
Как ни странно, даже такая работа может служить кому-то убежищем от тяжелых переживаний. Перед тем как в 1968 году стать патологоанатомом, доктор Стивенс работал детским онкологом.
– В то время мы теряли семьдесят пять процентов детей, – сказал он как-то. – Эмоционально это была невыносимо тяжелая работа. Я бы умер, если бы не ушел из той профессии.
Мысли доктора Стивенса, подходившего сейчас к одному из железных столов, меня ошеломили. Дело в том, что моя жена как раз онколог. Она ходит на похороны своих маленьких пациентов. При этом она вечно куда-то торопится. Обнимая ее, я ласкаю мягкое тело, в котором заключены напитанные кровью внутренности.
Заключение
Кубики мяса в янтарного цвета банках попали через коридор в патологию и токсикологию: этой сфере вечно недодают денег, а потому там работают со старыми инструментами и приборами, вычерчивающими кокаиновые или героиновые пики на медленно ползущих линованных бумажных лентах, которые в 1960-х годах считались произведениями искусства.
Что, в конце концов, меняет смерть? Женщины в синих халатах проверяли образцы мочи шофера, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, и точно так же они проверяли мочу умерших. Умерли они пьяными или трезвыми? Пьяный водитель, погибший в автокатастрофе, пьяный самоубийца, преодолевший, наконец, свой страх перед оружием (в Германии XVII века власти предлагали приговоренным к смерти выпить перед казнью пива или вина), пьяная жертва преступления, из чувства неуязвимости решившая подразнить убийцу, – подобные описания помогают связать смерть с ее причиной. Между тем женщины в синих халатах изучают образцы тканей, присланные доктором из другого конца коридора. Я смотрел, как одна из них, склонившись над разделочной доской и мимоходом отмечая неприятный запах, разглядывает зернистую массу чьей-то опухоли. Если желудок поражен раком, если печень заполнена толенолом или секоналом, из этого составится история, и люди доктора Стивенса вскоре смогут подписать очередное свидетельство о смерти.
Руками в перчатках женщина раскручивала трубку с черным набалдашником, полную чьей-то малиновой крови. На столе лежала стопка дисков с надписью «Полиция». На них улики, информация, из которой когда-нибудь может родиться смысл. Почки плавали в больших белых прозрачных пластиковых банках. Они тоже хранили свой секрет – нож во рту – или не хранили. Они могли объяснить неожиданный приступ – или найти рациональное толкование смертельной концентрации белых барбитуратов в двенадцатиперстной кишке, если этого не сделали последние слова покойного. Каждый четвертый самоубийца Сан-Франциско оставляет записку. Те, кто предпочитает молчание, сами того не желая, иногда оставляют записки в жизненно важных органах.
– Я бы сказал, примерно двадцать пять процентов самоубийств, с которыми мы тут имеем дело, обусловлены реальными физическими болезнями, – сказал доктор Стивенс. – Некий джентльмен прилетел недавно из другого штата, взял такси до моста «Золотые ворота» и прыгнул вниз. Что ж, у него был неоперабельный рак печени. Это логические решения.
Что до других, то их причины эмоциональны и преходящи. Девочка говорит мальчику, что не хочет его больше видеть, тот идет и вешается. Никто с ним не поговорил и не вложил ему в голову мысль, что в мире есть и другие женщины.
Заглянем теперь в печень. Найдем там рак или нет. Это нам кое-что сообщит.
– А убийство? – спросил я. – Вы когда-нибудь видели уважительную причину?
– Ну, я все же видел несколько оправданных убийств, – ответил доктор Стивенс. – Мы имеем дело с сотней убийств ежегодно, и всего несколько из них бывают оправданы. Люди защищали своих близких или свою жизнь. Но подавляющее большинство – пустота, бессмысленное насилие, за которое нужно судить и наказывать.
А несчастные случаи? Сердечные приступы, отказ почек? Незачем даже спрашивать. Со стороны смотровой комнаты все они бессмысленны.
Пока ты не умер, смерть не страшна
В то субботнее утро, когда доктор пропускал сквозь пальцы кишки повесившегося, подобно тому, как рыболов проверяет, нет ли на леске узлов, а судебный медик, светловолосая украинка, рассказывавшая мне недавно о своей родной Одессе, была занята распиливанием электропилой черепа, я спросил:
– Если тело начало разлагаться, какова опасность занести себе инфекцию?
– Да ну, бациллы туберкулеза и вирусы СПИДа умирают довольно быстро, – сказал врач. – Им нелегко приходится в мертвом теле. Не хватает кислорода. Правда, стафилококк и грибки, наоборот, растут… Мертвых нечего бояться. Другое дело – живые. Приходите, например, в квартиру к умершему и спрашиваете соседа, что случилось, а умерший встает и начинает на вас кашлять.
Он закончил свою работу и вышел. Поблагодарив помощницу и сняв халат с бахилами, я сделал то же самое. Я вышел в ясный и жаркий мир, где меня ждала моя смерть. Если я умру в Сан-Франциско, у меня будет один шанс из пяти приехать на карете в заведение доктора Стивенса. Ничто вокруг меня вроде бы не нависало угрожающе и не воняло смертью, как это было, когда я вышел из катакомб – наверное, потому, что смерти, виденные мною на столах для вскрытия, были столь подчеркнуто единичны, что я отказывался примеривать их на себя, [27]27
Недавняя смерть или давняя, это не моя смерть, и я лишь отмахнулся от нее. В катакомбах они были настолько неразличимы, с такими чистыми панцирями, что можно было подумать, все они умерли «естественной смертью». В кабинете судебно-медицинской экспертизы были погибшие в результате несчастного случая или при странных обстоятельствах, несколько покончивших собой, как старик, что повесился на проводе, и лишь изредка туда привозили убитых. Я смотрел в глаза повесившегося и чувствовал, что дрожу. Чтобы защитить меня от этого, доктор Стивенс установил двери с табличками «ВХОД ВОСПРЕЩЕН» и «ВХОД КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЕН». Здесь и сейчас, пытаясь отредактировать написанное, я вижу всего одно мертвое существо – паука, прилипшего к оконному стеклу вместе со своей высохшей паутиной. В основном же я вижу машины, едущие по широкой дороге, великолепные деревья, шагающих по тротуару людей. На том месте, где пару лет назад убили подростка, теперь стоит будка продавца пончиков, пышущая сладостью и жизнью. Пока еще я в стране живых и никогда не поверю в собственную смерть. (Прим. автора.)
[Закрыть]тогда как цельная масса и множественность черепов в катакомбах вконец истощила мое неверие – я все же не мог не думать о том, кто сейчас на меня кашлянет, какая меня собьет машина или какого сорта раковые клетки в этот самый миг делятся и воняют у меня в животе. Доктор прав: я не смогу причинить ему вреда, поскольку он будет готов к нашей встрече. И его скальпель также не сделает мне больно. Я шел по Брайен-стрит, размышляя о странном и абсурдном свойстве собственной души, которая сильнее всего боялась смерти тогда, когда смерть меньше всего ей угрожала – можно подумать, эти трупы встанут и набросятся на меня, – а еще о том, как же это здорово – стащить с себя одноразовую маску, вдохнуть свежего воздуха и раствориться в этом городе с его смертельно опасными машинами и микробами, с его парусниками, книжными лавками и, в конце концов, с его безжалостной будущностью.
III. Мысли в осаде
А теперь, прикрыв глаза, я окину беглым взглядом обходные пути жестокостей и войн. Я видел штабеля черепов в Парижских катакомбах. Точно такие же черепа я видел на стеклянных полках Полей Смерти Чоенг Ёк. [28]28
Я был там дважды, и второй раз оказался намного ужаснее первого. Но эти технические и политические подробности не имеют значения. (Прим. автора.)
[Закрыть]В отличие от парижских, глядевших прямо на меня из штабелей и кое-где уложенных красивыми арками, эти черепа были свалены как попало на стеклянные выставочные стеллажи, кучами, а не рядами – впрочем, недостающие впечатления можно получить, посетив знаменитую «карту геноцида» в нескольких километрах от Пномпеня: сия графическая репрезентация Камбоджи составлена из черепов убитых. В Чоенг Ёк они лежат друг на друге, таращась и ухмыляясь, зевая и крича, рассортированные по возрасту, полу и даже расе (ибо от рук красных кхмеров погибло также некоторое количество европейцев). На черепах попадаются трещины – кхмеры разбивали железными брусьями еще живые головы. И все же, на мой необразованный взгляд, никаких других отличий от парижских черепов там нет. Ангел смерти пролетает над чьей-то головой, снижается, убивает и улетает прочь. Оставшееся после его работы неразличимо ни для кого, кроме коллег доктора Стивенса и тех, кто видел все это своими глазами. (Однажды я смотрел фильм о Холокосте. Когда зажегся свет, я чувствовал себя очень подавленно. Кажется, фильм меня «тронул». Но тут я посмотрел на своего знакомого, бледного и покрытого потом. Он был евреем. Он был там. Нацисты убили почти всех его родных.) До того, как ангел сделает свое дело, обреченные на смерть точно так же неотличимы от тех, кому повезет или не повезет прожить немного дольше. Возможно, смерть постижима только во время смерти.
Чтобы постичь ее, давайте представим этот миг в настоящем, страшный миг, когда в вас стреляют, а вы, забыв, что ваша жизнь далеко не идеальна, молите лишь о том, чтобы еще немного пожить, еще немного попотеть и помучиться от жажды, клянетесь, что, если только вам удастся сохранить свою жизнь, вы будете холить ее и лелеять. Это почти-смерть – не имеет значения, насильственная или нет. Женщина, которую я любил, умершая потом от рака, однажды писала мне: «Ты этого не знаешь, но сегодня годовщина моей мастэктомии, и я должна быть счастлива, что живу. На самом деле день был ужасным». Как и я, она все забыла; в очередной раз отмахнулась от смерти, не будучи настолько верующей, чтобы после всего пережитого благоговеть перед каждой минутой. После того как в меня стреляли (может, они стреляли вовсе не в меня, может, они меня даже не видели), я клялся, что стану счастливее, что буду благодарить небеса за подаренную мне жизнь, и преуспел в этом, однако в иные дни катакомбы и плиточные столы для вскрытия из офиса доктора Стивенса опускаются на дно моей памяти – тогда я впадаю в отчаяние и презираю жизнь. Новый испуг, новый ужас, и признательность возвращается. Плиты встают во всем своем зловонии, чтобы напомнить мне о моем счастье. За год до самого ужасного дня моя любимая писала: «В прошлый раз им нужно было воткнуть четыре иголки в четыре вены. Я плакала, когда втыкали четвертую. Вены не выдерживают. Меня вырвало прямо в кабинете врача, потом рвало все четыре дня, и все четыре дня я была в полусознании. Я всерьез хотела немедленно умереть. Что если принять сверхдозу снотворного… Выбор невелик, но мне хотелось остаться и успеть поненавидеть ухажеров моей дочери». Я вспоминаю предыдущее письмо на розовой бумаге, начинавшееся с: «Я обещала больше не писать. Я солгала. В субботу мне сказали, что у меня обширный рак груди, через неделю будут делать мастэктомию и удалять лимфатические узлы. Я боюсь смерти. У меня трое маленьких детей. Я не пустышка. Мне плевать на мою грудь, но я хочу жить… Скажи мне. Этот страх – я чувствую его запах – на войне так же?» – Да, дорогая. Я никогда не был опасно болен, но уверен, что так же.
В одном из последних писем она писала: «Я слишком долго была уверена, что умру не когда-нибудь, а очень скоро – не сразу удалось поверить в то, что я, может быть, поправлюсь. Я до сих пор не до конца в это верю, но постепенно все встает на свои места – в основном, потому, что я хочу вырастить своих умных и красивых детей, а еще хочу радоваться жизни… Волосы отросли, и парик уже не нужен».
В другом письме она писала: «Вот последние события моей жизни. Не то чтобы они мне совсем не нравились, их нельзя сравнить с тем, когда в тебя стреляют или когда ты теряешь друзей, но, возможно, они тебя позабавят. Я поставила в кабинете аквариум… и принесла детям четырех рыбок. Они придумали имя только для одной. Я сразу сказала, что пусть сначала научатся чистить аквариум, менять в нем воду, кормить рыб, поймут, как устроены жабры, и только после этого они получат морскую свинку. Я не очень люблю домашнюю живность, предпочитаю детей. Одной каракатице в аквариуме как-то не по себе, носится как сумасшедшая и думает, где бы ей умереть».
Закрыв глаза, я вижу ее семнадцатилетней или такой, какой она стала в тридцать четыре года – сильно постаревшей, частично из-за рака – лицо с выступающими скулами, редкие волосы, возможно, это парик, она сидит на ступеньках вместе с детьми. Я не смотрел на нее из-за стекла смотровой комнаты доктора Стивенса. Я не видел ее гниющего тела. Я не видел ее лишенного черт черепа, закрепленного цементом в стене катакомб. Значит ли это, что я не могу представить смерть, ее смерть? Шесть миллионов черепов под Парижем весят для меня меньше, чем ее лицо, которое вы, возможно, назвали бы слишком мрачным, а потому не очень красивым, но для меня оно по-прежнему прекрасно, несмотря на то, что теперь я вижу его только на фотографии.
Но – я опять возвращаюсь к тому же самому – ее смерть бессмысленна, ошибка в генах или в окружающей среде. Ее не убивала злая душа. Мне тяжело думать о ней. Мне не горько.
Мне тяжело думать о двух моих коллегах из Боснии, заехавших на машине на минное поле. Их звали Уилл и Фрэнсис. Я напишу о них позже. Сначала – оттого, что там было два отдельных протокола, дыры в ветровом стекле и в двух смертельно раненных людях – я думал, их застрелили, и, когда появились два вооруженных человека, был уверен, что смотрю на их убийц. Уилла я знал всего два дня, но он мне сразу понравился. Фрэнсис был моим другом, мы встречались то чаще, то реже почти девятнадцать лет. Я любил Фрэнсиса. Но не чувствовал злости, даже когда появились предполагаемые снайперы, ибо их работа не была направлена лично против этих людей. Мы пересекали разделительную линию между хорватами и мусульманами; мусульмане извинились, а такие случаи на войне – не редкость.
Но только что я развернул письмо от моей сербской подруги Винеты, часто говорившей, как она ненавидит Фрэнсиса (которого никогда не видела) из-за его хорватской крови; после детальных, деловых и очень для меня полезных замечаний, касающихся журналистской работы в Сербии, она написала несколько слов о том, что я собираюсь осветить мусульманский и хорватский взгляд на происходящее (в моем списке это были пункты семь и восемь): «Знаешь, дорогой Билли, мне очень приятно, что ты посвятил меня в свои планы. Но МНЕ ГЛУБОКО НАСРАТЬ И НА ХОРВАТОВ, И НА МУСУЛЬМАН!» В конце своего длинного послания она добавила постскриптум: «Последнее „личное письмо“ я получила два года назад от покойного друга. В городе Б., недалеко от Вуковара, хорваты разрубили его тело на куски. Его звали М.» Затем она приписала еще один постскриптум: «Ни у кого с тех пор нет ни единого шанса тронуть мое сердце».
Вот что делает насилие. Вот что такое насилие. Смерти мало той вони, которой она наполнила весь белый свет, отныне она рядится в формы людей-врагов, принуждая тех, кто сумел защитить свою жизнь, ненавидеть и бороться – неважно, за правое дело или нет. Слишком легко было бы утверждать с точки зрения выжившего, что ненасильственная смерть предпочтительнее! Я слышал достаточно врачебных историй о том, как выплескивают свой гнев на «судьбу» родственники умирающих от рака. Подобно Гитлеру, они очень хотели бы обвинить хоть кого-нибудь. «Люди всегда злятся, когда умирают их близкие, – настаивал врач. – Разница лишь в том, направлена эта злость на кого-то конкретно или нет». Может и так. Но разница существует. Оставив позади столы доктора Стивенса, на которые чаще попадают умершие «естественной смертью» от истекшей кровью поджелудочной железы, жертвы несчастных случаев и редкие самоубийцы, давайте перенесемся в осажденный город Сараево и заглянем в морг госпиталя Косево – это место я не забуду никогда, запах держался на моей одежде еще два дня. Здесь лежат убитые. Я видел детей со вспоротыми животами; женщин с головами, пробитыми пулей, когда они переходили улицу; мужчин, в которых снайперы, хорошо рассчитав, послали противотанковые снаряды. [29]29
Описание этого места см. «За моей головой», «Атлас», стр. 5. (Прим. автора.)
[Закрыть]Смерть насмехалась, пьянствовала и вульгарно пердела в окрестных горах, омерзительного озорства ради целясь в нас из своего оружия и порождая в осажденных ответное омерзение. Каждое утро я просыпался под чириканье пуль и грохот смертоносных взрывов. Я ненавидел невидимых снайперов за то, что они хотели убить меня, убивали жителей этого города, разрушали его физически и морально, любым способом, которым он мог быть разрушен, давили его, расчетливо стирали с лица земли, вселяя в людей ужас и ломая их. Но эта злоба, к сожалению, стала нормой – таким было Сараево на четырнадцатый месяц осады. Нужно как-то жить: люди занимались своими делами посреди ужаса, ужаса, который невозможно вынести, и поднимали голову лишь по необходимости, когда нужно было куда-то бежать. Что до судебного врача госпиталя Косево, то он уходил домой, воняя смертью и, подобно мне, частенько спал в одежде; он привык к этому запаху, его жена, наверное, тоже привыкла, обнимая мужа. (Между тем, разумеется, люди мучались от бессонницы, у них нарушался менструальный цикл, раньше времени седели волосы.) [30]30
Фэннон обнаружил эти психосоматические симптомы в Алжире и утверждает, что они были весьма распространены «в Советском Союзе среди населения осажденных городов, особенно Сталинграда» («Несчастные на этой земле», стр. 290–293). (Прим. автора.)
[Закрыть]Так проявляется ни на кого конкретно не направленный гнев. [31]31
Для пациентов Фэннона, алжирцев, выживших во время массовых казней, производимых Францией потому, что «слишком много разговоров об этой деревне; убрать ее», у ангела смерти было лицо первого встречного: «Вы все хотите меня убить, но каждый по-своему. Я убью вас всех, как только посмотрю на вас, больших и маленьких, женщин, детей, собак, ослов…» (стр. 259–261). (Прим. автора.)
[Закрыть]Смерть от политики, смерть от рака, все одно и то же.
В ночь, когда убили Уилла и Фрэнсиса, ооновская переводчица из Сараево рассказывала мне, что теряет друзей почти каждую неделю. «От этого как бы застываешь, – сказала она совсем спокойно. – Приходится». Женщина говорила сочувственно и очень по-доброму, она не собиралась ни принижать мое горе, ни объяснять, как это должно быть. Она вела себя так, как только и можно вести себя с человеком, перенесшим утрату, – говорила о своем горе, чтобы я не оставался наедине со своим; однако ее печаль истрепалась и застыла, и это красноречиво подчеркивало то, что с ней стало. Как доктор Стивенс и его команда, как инспектор по сумкам в катакомбах, как мой приятель Тион, катающий туристов на мотоцикле в Чоенг Ёк – я становился таким же, как они. Сараево не было моей первой фронтовой зоной, я не впервые видел смерть, но я никогда его не забуду. Морг госпиталя Косево, как и весь Сараево, жил без электричества, поэтому, как я повторяю уже в который раз, там стояла такая вонь. Я помню сырный запах парижских катакомб и кисломолочный – белых катафалков доктора Стивенса; после госпиталя Косево моя одежда пахла рвотой, уксусом и гниющими кишками. Я вернулся в свой дом, получивший положенную долю пулеметных очередей и ракетных обстрелов, и стал выяснять, что меня беспокоит – в голове у меня не было места печали о мертвых, только страх, а еще волнение, буду ли я сегодня что-нибудь есть, поскольку из-за сбитого ооновского самолета аэропорт закрыли, а всю свою еду я раздал. Смерть была у меня на коже и за стенами дома – может, моя смерть, а может, чья-то еще; я старался жить мудро и осторожно, не тратя время на собственную смерть, хотя, бывало, слышал ее рычание. После катакомб у меня был целый день, и весь этот день я посвятил смерти, хотя никто не собирался на меня нападать. В Сараево же я просто бежал – смерть там была повсюду, смерть за смертью, такая бессмысленная и для меня случайная.
В Мостаре на мне был пуленепробиваемый жилет, в него, звякнув о керамическую пластину, воткнулся осколок, так что в какой-то степени мне повезло, но Уилл, который вел тогда машину, получил предназначенную ему смерть прямо в лицо, наискось от подбородка. Он умирал бесконечно долго (кажется, минут пять). Винета сказала, что я или трус, или дурак, раз не прекратил его страдания. Я объяснил, что у журналистов нет оружия. Как бы то ни было, если бы я сидел на его месте, пуленепробиваемый жилет мне бы не помог.
У женщины, которую я любил, просто-напросто завелись в груди неправильные клетки; парень Винеты воевал не в том месте, не в то время, а может, он воевал с хорватами слишком ожесточенно или даже слишком хорошо. [32]32
Мартин Лютер Кинг подчеркивал на похоронах жертв бирмингемских взрывов, что «история доказывает снова и снова: незаслуженное страдание искупительно. Невинная кровь этих девочек послужит той искупающей силе, что зажжет яркий свет в темном городе» (Кинг, «Завещание надежды», стр. 221, «Панегирик детям-мученикам», сентябрь 1963 г.). Лично я не верю, что подобные искупления происходят особенно часто. (Прим. автора.)
[Закрыть]Для женщины, которую я любил, и для меня в Сараево ангел смерти был безликим, но Винете он явился в образе мучителя с лицом хорвата, и она возненавидела «этих хорватских ублюдков». Винета, если бы я мог отослать ангела смерти куда-нибудь от тебя подальше, я бы так и сделал. Может, кто-то другой, кто знает тебя лучше и любит сильнее, хотя бы уговорит твоего ангела закрыть лицо покрывалом и стать просто тьмой, словно Безликий из ирокезских легенд, просто злым жребием, «военным эпизодом», кем-то вроде ангела моей утонувшей сестры, и тогда твой гнев растворится в печали. Винета, если ты когда-нибудь прочтешь эту книгу, не считай меня бестактным и не думай, что я пытаюсь встать между тобой и твоим правом оплакивать любимого и гневаться на ангела.
Но он не Фрэнсис. Фрэнсис был хорошим человеком. И мне совсем не нравится, что, отправляясь тебя мучить, ангел украл у Фрэнсиса лицо.
Ангел в белом катафалке. Почему бы нам не уподобиться сотрудникам доктора Стивенса, которые взвешивают печальные и зловонные отходы насилия, снимают с них отпечатки пальцев и вскрывают их, пытаясь докопаться до причин? А когда пагубность, унылый вид или неприятный запах этих штук на столе начнет сводить нас с ума, почему бы нам не рассказать пару-тройку грубых анекдотов? Если мне удастся добавить хоть каплю к пониманию того, как и зачем ангел убивает людей, я буду, говоря словами доктора, – одной рукой в окровавленной перчатке он подносил ко рту чашку кофе, а другой резал мертвое тело, – да, я буду «доволен». К черту это эссе и ту большую работу, частью которой оно является. Я прошу у всех прощения за все его провалы.
Перевод Ф. Гуревич








