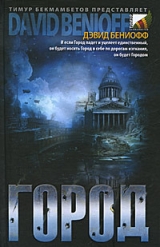
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Судя по Колиной широченной улыбке, он вообще ни о чем не думал. Мы стояли с ним рядом, а наши невидимые допросчики нас разглядывали. Шинели наши остались в доме, и мы дрожали на морозе – холод пробирал до кости.
– Докажь, что наш. – Голос вроде бы доносился от заснеженного стога. Глаза мои привыкли к теме, и я разглядел, что в тени на коленях стоит человек и целится в нас из винтовки. – Добей фрицев в голову.
– Тоже мне испытание, – ответил Коля. – Они уже мертвые.
Способность этого человека усугубить то, что и так уже хуже некуда, меня больше не удивляла. Может, герой – это просто человек, не осознающий собственной уязвимости. Стало быть, мужество – это когда по безрассудству ты не соображаешь, что смертен?
– А вот мы еще живы, – сказал партизан из тени, – потому что добиваем их, даже если думаем, что они сдохли.
Коля кивнул и пошел к «кюбелю» – тому, что с невыключенным двигателем. Машина остановилась наконец, поглубже завязнув в снегу.
– Мы за вами смотрим, – сообщил партизан. – По пуле в голову, если что.
Коля выстрелил в головы мертвому водителю и мертвому пассажиру; дульные всполохи мигнули в темноте, как вспышки фотоаппарата. Потом развернулся и пошел по снегу, останавливаясь у каждого распластанного трупа. Каждому исправно стрелял в голову.
У шестого он помедлил, нагнувшись и приставив дуло к голове. Потом опустился на колени – что-то услышал. Встал и крикнул:
– Этот еще живой.
– Потому и надо добить.
– Может, что полезное скажет.
– А он может?
Коля перевернул немца на спину. Тот тихо застонал. На его губах пузырилась розовая пена.
– Нет, – сказал Коля.
– Это потому, что мы ему легкое прострелили. Окажи человеку милость, добей.
Коля выпрямился, направил пистолет и выстрелил умирающему в лоб.
– Теперь пистолет в кобуру.
Коля сделал, как велели, и партизаны вышли из укрытий – из-за стогов, заборов, из рощицы. Десяток человек, в длинных пальто и шинелях, с винтовками в руках, двигались по снегу к домику, и над головами их поднимался пар от дыхания.
Почти все походили на крестьян. Меховые шапки надвинуты на лбы, лица широкие, неприветливые. Никакой общей формы у них не было. На одних красноармейская кирза или кожаные сапоги, на других – валенки. Шинели защитные или серые. Один человек нарядился, похоже, в маскхалат финского лыжника. Впереди шел, как я понял, командир – заросший черной бородой мужик со старой охотничьей двустволкой на плече. Потом мы узнали, что его фамилия Корсаков. По имени-отчеству его никто не называл. Да и Корсаков, скорее всего, был псевдоним. Партизаны недаром скрывали свои настоящие имена. Айнзацкоманды публично казнили всю родню тех участников местного сопротивления, что им становились известны.
Корсаков с двумя сотоварищами подошли к нам. Остальные тем временем обшаривали немецкие трупы – собирали автоматы, патроны, письма, фляжки и часы. Человек в маскхалате стоял над одним трупом на коленях и пытался стянуть у того с пальца золотое обручальное кольцо. Оно не снималось. Тогда партизан сунул палец трупа себе в рот – потом увидел, что я смотрю, подмигнул и вытащил мокрый палец. Кольцо снялось легко.
– Ты за них не волнуйся, – сказал Корсаков, заметив, куда я смотрю. – Ты волнуйся из-за меня. Вы тут зачем?
– Они партизан организуют, – сказала Нина. Они с Ларой вышли босиком, ежились, а ветер трепал их непокрытые волосы.
– Вот как? Мы что, по-твоему, неорганизованные?
– Они свои. Они на немцев засаду устроили, всех бы поубивали, если б вы не появились.
– Неужели? Это мило. – Он отвернулся от девушки и окликнул того партизана, который обыскивал трупы в машине: – Что у нас?
– Мелочовка, – отозвался бородач, поднимая повыше оторванный погон. – Летнаны да обера.
Корсаков пожал плечами и перевел взгляд на Нину – оценивающе оглядел ее бледные икры, силуэт бедер под ночнушкой.
– Иди в дом, – велел он. – Оденься. Немцев больше нет, можно не блядовать.
– Не обзывайся.
– Как хочу, так и говорю. Иди в дом.
Лара взяла Нину за руку и увела внутрь. Коля проводил их взглядом и повернулся к партизанскому вожаку:
– Что так зло, товарищ?
– Тамбовский волк тебе товарищ. Если б не мы, ебали б щас их фрицы до самых гланд.
– И все равно…
– Варежку закрой. Одет вроде по форме, а не в армии. Дезертир?
– У нас задание. У меня в шинели мандат.
– У всех предателей в шинели мандат.
– Письмо подписал капитан госбезопасности Гречко. Нас сюда направили.
Корсаков ухмыльнулся и повернулся к своим: твой капитан Гречко здесь что, власть? Люблю я этих городских – распоряжаются, как у себя дома.
Партизан, стоявший рядом, жилистый, с близко посаженными глазами, громко расхохотался, обнажив дурные зубы. Второй промолчал. На нем был маскировочный комбинезон, весь в бурых и белых загогулинах: ходячий натюрморт – опавшая листва на снегу. Глаза колюче смотрели из-под кроличьей шапки. Он был маленький, ростом поменьше меня, и совсем молодой, на розовых щеках – никакой щетины. Очень тонкие черты, лепные скулы, полные губы. Искривленные в усмешке, потому что партизан перехватил мой взгляд.
– Что-то не то увидел? – спросил он, и я понял, что голос у него совсем не мужской.
– Да ты девчонка! – выпалил Коля, воззрившись на партизана. Мне стало неловко за нас обоих.
– А что тебя удивляет? – спросил Корсаков. – Наш лучший снайпер. Фрицев видишь? Это она им по полбашки снесла.
Коля присвистнул, переведя взгляд с девушки на мертвых фашистов, а потом на темную опушку за полем.
– Вон оттуда? Тут сколько – метров четыреста? По движущимся мишеням?
Девушка пожала плечами:
– Когда по снегу бегут, их даже особо вести не надо.
– Вика у нас хочет рекорд Людмилы Павличенко побить, – сказал человек с выступавшей вперед нижней челюстью. – Хочет стать первой снайпершей.
– А сколько сейчас у Люды? – спросил Коля.
– «Красная звезда» писала – двести, – ответила Вика, чуть закатив глаза. – Ей немца на счет записывают, даже когда сморкается.
– А винтовка у тебя немецкая?
– «К98». – Она похлопала по прикладу. – Лучше и на свете не бывает.
Коля ткнул меня локтем в бок и прошептал:
– У меня уже стоит.
– Что такое? – спросил Корсаков.
– Я говорю, у меня сейчас петушок отвалится, если мы чуть дольше на морозе простоим. Прошу пардону… – Он по-старомодному поклонился Вике, после чего повернулся к Корсакову: – Если хотите на наши документы взглянуть, давайте внутрь зайдем – и взглянете. А если хотите соотечественников расстрелять – стреляйте. Только хватит нас уже на холоде держать.
Партизанский вожак явно предпочитал расстрелять Колю, а не смотреть его документы. Но убить бойца Красной армии за здорово живешь – это не баран чихнул, особенно если столько свидетелей вокруг. Однако и уступать слишком быстро он не хотел – это ж ударить в грязь лицом перед своими. Поэтому они с Колей еще секунд десять злобно смотрели друг на друга. Я же кусал губы, чтобы зубы от холода не стучали.
Их поединок прекратила Вика.
– Влюбились никак, – громко сказала она. – Хватит в гляделки играть! Или уж глаза друг другу бы повыцарапали, или разделись да голыми в снегу покатались.
Партизаны захохотали, а Вика повернулась и пошла к дому, презрев яростный взгляд Корсакова.
– Есть хочу, – сказала она. – Девушки у вас такие упитанные – всю зиму свиными отбивными питались, что ли?
Обвешанные добытым оружием мужчины двинулись за ней – им тоже не терпелось из холода под крышу. Вика потопала сапогами перед дверью, сбивая снег, а я, глядя на нее, подумал: интересно, какая она без многослойной теплой одежды, без камуфляжа этого?
– Твоя? – спросил у Корсакова Коля, когда Вика зашла в дом.
– Смеешься? Да она скорее пацан, чем девчонка.
– Это хорошо, – сказал Коля, двинув меня кулаком в плечо. – А то, по-моему, друг мой в нее серьезно втюрился.
Корсаков глянул на меня и заржал. Я всегда терпеть не мог, если надо мной смеялись, но гогот разрядил обстановку. Я понял, что нас уже не убьют.
– Валяй, парнишка, желаю удачи. Только не забывай – она тебе с полкилометра пулей в глаз попадет.
16
Корсаков дал своему отряду час – согреться и поесть. Все растянулись в большой комнате на разостланных шинелях, перед огнем сушились носки и портянки. Вика лежала на спине на диване, набитом конским волосом, прямо под козлиной головой на стене. Лежала, скрестив лодыжки, пальцами перебирала мех кроличьей шапки у себя на груди. Ее темно-рыжие волосы были подстрижены по-мальчишечьи коротко, и не мыли их так давно, что они свалялись завитками и торчали шипами. Вика смотрела прямо в стеклянные глаза козла – трофей явно ее заворожил. Я воображал, что она представляет себе, какова была охота, как стрелял охотник, как этого козла убили – наповал или он еще бежал, раненный, много километров, не понимая, что смерть уже пробила его мышцы и кости, что от охотничьей пули не убежать, она уже внутри…
Я сидел на подоконнике и смотрел на Вику. Стараясь при этом, чтоб она не догадалась, что я на нее смотрю. Комбинезон свой она сняла, пусть просохнет, – он был мужской, вдвое больше нее. Еще на ней были две пары теплого белья. Хоть и рыжая, но без веснушек. Она лежала и теребила верхнюю губу нижними кривыми зубками. Я не мог оторвать от нее глаз. На девушек с открыток она не походила – вообще не идеал, тощая, недокормленная, неделю в лесу спала. Но я все равно хотел увидеть ее голой. Хотел расстегнуть на ней эту мужскую клетчатую рубашку, отшвырнуть ее прочь, облизать этой девушке бледный плоский живот, стащить с нее длинные кальсоны и покрыть худые ноги поцелуями.
Такая подробная греза – это что-то новенькое, неужто Колины карты так подействовали – воспалили мне воображение? Обычно все мои фантазии были целомудренны, старомодны: я представлял Веру, полностью одетую. Вот она играет не на виолончели у себя в спальне, мы с нею наедине, а когда концерт заканчивается, я хвалю исполнение и произвожу на Веру впечатление своим красноречием и знанием музыкальных терминов. Фантазия обычно завершалась крепкими поцелуями, Вера отводила ногу и переворачивала пюпитр, вся красная, встрепанная, а я загадочно улыбался и оставлял ее одну со сбившимся на сторону воротничком и расстегнутой пуговицей на блузке.
Фантазии мои обычно не доходили до плотских утех, потому что плотских утех я боялся. Не умел. Моих знаний не хватало даже на то, чтобы сделать вид, будто что-то знаю. Основы анатомии я понимал, но вот в геометрии путался. А поскольку ни отца, ни старших братьев, ни опытных друзей у меня не было, и не спросишь ни у кого.
Однако теперь в моем вожделении к Вике не было ничего целомудренного. Мне хотелось прыгнуть на нее, спустив штаны до щиколоток. И она бы мне показала, куда что и как. А едва мы с этим разберемся, ее обкусанные грязные ногти будут царапать мои плечи, голова запрокинется, шея тонко и бело натянется, и на ней забьется жилка. Тяжелые веки широко распахнутся, а зрачки, наоборот, сузятся, и синева этих глаз меня затопит…
Все девушки в доме – Нина и Галя, Лара и Олеся – были на первый взгляд симпатичнее Вики. Они расчесывали длинные волосы. Засохшей грязи на руках у них нет. Они даже губы помадой подкрашивали. Они вносили и выносили миски с лущеными орехами и моченой редькой. Следовало ублажать новых мужчин – да, они соотечественники, но все равно опасны и непредсказуемы, потому что вооружены. Один, сидевший по-турецки у огня, схватил Галину за пухлое запястье, когда она нагнулась подлить ему водки:
– Наружу глядела? Дружок-то твой там мертвый валяется, а?
Его приятель хохотнул, ободренный партизан подтянул девушку к себе, и она плюхнулась ему на колени. К такому обращению она привыкла – не вскрикнула, не заплакала, даже водки не пролила ни капли.
– Они вам вкусненького таскали, да? Да уж точно – гля, какие щеки наела! – Он провел мозолистой ладонью по ее мягкой розовой щеке. – И что ты им делала? Все, что захотят, а? Голая танцевала, пока они своего «Хорста Весселя» тянули? Сосала у них, пока они шнапс хлестали?
– Отвянь от нее, – сказала Вика. Она не изменила позы, не отвела взгляда от козлиной головы, лишь покачивала ногами в толстых носках, словно в такт неслышимой мелодии. Ровно сказала – если и разозлилась, ни за что не угадаешь. Едва это прозвучало, я тотчас пожалел, что одернул партизана не я. Это было бы смело, а то и безрассудно, на грани самоубийства, но Галина отнеслась ко мне по-доброму, и я должен был ее защитить. Не из благородства собственной натуры, а чтобы произвести впечатление на Вику. Но в тот миг, когда следовало действовать, я окаменел – опять трусость взяла свое, опять я буду жалеть об этом много лет. Коля вмешался бы сразу и без колебаний, но Коля с Корсаковым ушли в заднюю комнату читать капитанское письмо.
Партизан, хватавший Галину, чуть помедлил. Я видел – он боится. Я сам боялся уже так давно, что страх в других засекал сразу же, не успевали они сами его осознать. Но я предвидел, что он ответит Вике какой-нибудь колкостью: доказать товарищам, что не боится, пусть даже они понимают, что это не так.
– А чего? – протянул он. – Себе ее хочешь?
Вяло, вяло – никто не засмеялся. Вика даже не отреагировала. Она и не смотрела в его сторону. Но услышала, потому что по лицу ее расплылась медленная улыбка – впрочем, девушка могла и с головой козла переглядываться. Еще пара секунд – и партизан хрюкнул и легонько столкнул Галину с коленей:
– Вали давай, обслуживай. Шалава и шалава, ни на что другое больше не годишься.
Если слова партизана Галину и оскорбили, виду она не подала. Разлила водку остальным в комнате – и все вежливо ей кивнули.
С минуту поразмышляв о возможном позоре, я подошел к дивану и присел на краешек, у Викиных ног в серых шерстяных носках. У меня над головой свисала козлиная бородка. Я посмотрел на нее, потом на Вику. Снайперша глядела на меня в упор – ждала, какую глупость я собираюсь сморозить.
– У тебя отец был охотник? – спросил я. Вопрос продумал еще в другом углу комнаты. Но едва он вырвался из моих уст, стало непонятно, почему я вообще решил, что это удачный способ завязать беседу. Может, читал что-нибудь о снайперах – о Пчелинцеве, который в детстве, кажется, стрелял белок.
– Чего?
– Отец… у тебя… Я подумал, может, ты от него так стрелять научилась.
Непонятно, чего было больше в ее синих глазах – скуки или отвращения. Вблизи, при свете коптилок и очага, я видел, что на лбу у нее россыпь красных прыщиков.
– Нет, мой отец не был охотником.
– Я думал, многие снайперы начинают с охоты… Или читал где-то.
Вика больше на меня не смотрела – вернулась к созерцанию горного козла. Чучело интереснее меня. Остальные партизаны наблюдали за мной, подталкивая друг друга локтями и ухмыляясь, перешептывались, посмеивались.
– А немецкая винтовка у тебя откуда? – спросил я в отчаянии, как игрок, который все ставит и ставит, а карты ему сдают все хуже и хуже.
– От немца.
– А у меня нож немецкий. – Я задрал штанину, расстегнул ножны и повертел нож в руке, чтобы на блестящей стали поиграл свет. Нож ее заинтересовал. Она протянула руку, и я передал. Она проверила остроту у себя на предплечье.
– Бриться можно, – сказал я. – Нет, тебе, конечно, не надо… то есть…
– Где нашел?
– У немца.
Она улыбнулась, а я возгордился своей репликой, точно сказал что-то невероятно умное, ответив на ее скупую реплику своею.
– А немца ты где нашел?
– Мертвый парашютист в Ленинграде. – Я надеялся, что прозвучало достаточно туманно, будто оставалась возможность того, что парашютиста убил я сам.
– Они уже в Ленинград высаживаются? Началось?
– По-моему, просто десант. Прорвались немногие. Не заладилось у фрицев. – Мне казалось, что звучит веско и ненарочито, как будто я из тех убийц, что о поверженных врагах упоминают мимоходом.
– Ты сам его убил?
Я открыл рот, уже готовясь соврать, но она так посмотрела на меня, губы у нее так искривились в усмешке, которая привела меня в ярость своею снисходительностью, что мне сразу же захотелось поцеловать…
– Его мороз убил. Я просто увидел, как он спускается.
Она кивнула и вернула мне нож, потом закинула руки за голову и потянулась, широченно зевнув. Рот прикрыть даже не постаралась. Зубки у нее были совсем детские – мелкие, росли вразнобой. Выглядела она довольной, будто наелась до отвала ужином из девяти блюд с лучшими винами, хотя я видел, что грызла она только черную редьку.
– Мороз – самое старое оружие у родины-матери, – добавил я. Фразу эту я услышал от какого-то деятеля по радио. И незамедлительно пожалел, но слово – не воробей. Может, то есть и правда, только уже несколько месяцев это был расхожий штамп нашей пропаганды. Даже от словосочетания «родина-мать» я себя почувствовал глупым пионером на маршировке в парке – беленькие рубашечки, красные галстуки, «Взвейтесь кострами» дружным хором.
– У меня тоже есть нож, – сказала Вика, вытаскивая из ножен на поясе кинжал с березовой рукояткой и протягивая мне.
Я покачал нож в руке. На тонкой стали лезвия виднелись разводы – словно круги по воде шли.
– Чего-то хлипкий.
– Он не хлипкий. – Вика подвинулась ближе и кончиком пальца провела по клинку. – Это дамасская сталь.
Она сидела так близко, что я мог в деталях рассмотреть завитки ее уха и едва заметные морщинки, пересекавшие лоб, когда она поднимала брови. В волосах у нее запуталось несколько еловых иголок, и я подавил в себе порыв их оттуда бережно убрать.
– Называется «пуукко», – сказала Вика. – Такие дают всем финским мальчишкам, когда они взрослеют.
Она приняла у меня нож и наклонила против света – полюбоваться игрой огня по металлу.
– Лучший снайпер на свете – финн. Симо Хяйхя. «Белая смерть». В Зимнюю войну – пятьсот пять уничтоженных солдат и офицеров.
– Так ты его взяла у финна, которого сама застрелила?
– Купила за восемьдесят рублей в Териоках. – Она сунула нож обратно в ножны на поясе и оглядела комнату: чем бы поинтереснее заняться?
– Может, ты «Красной смертью» станешь, – сказал я. Не хотелось, чтобы разговор обрывался, я знал: оборвется – и мне ни за что недостанет мужества снова заговорить. – Ты хорошо стреляла. Айнзацгруппы, наверное, не привыкли, что от них отстреливаются.
Вика ровно посмотрела на меня своими холодными синими глазами. Во взгляде этом было что-то нечеловеческое – что-то в нем было от хищника, прямо-таки волчье. Она сложила губы трубочкой. А потом покачала головой:
– С чего ты взял, что это айнзацы?
– Нам девушки сказали, что это они сюда приходят.
– Тебе сколько, пятнадцать? Ты же не солдат никакой…
– Семнадцать.
– …а ходишь с солдатом, который не в части.
– Ну он же сказал – у нас особый приказ капитана Гречко.
– Особый приказ что? Партизан подымать? Ты меня за дуру держишь?
– Нет.
– Вы тоже сюда к девочкам пришли? За этим самым, да? Кто-то из этих – твоя подружка?
Мне отчего-то стало лестно, что она так подумала. Будто какая-нибудь красотка в доме и впрямь может быть моей подружкой. Хотя в обороте «кто-то из этих» звучало оскорбление. Я ее чем-то заинтересовал – хорошее начало полдела откачало. Да и объяснимо это любопытство. Что делает в такой глуши питерский мальчик – в двадцати километрах за немецкими позициями отдыхает в уютном домике для захватчиков?
Я вспомнил, что Коля мне рассказывал: надо охмурять женщину загадочностью.
– У нас приказ – как, я уверен, и у тебя. Не стоит об этом.
Несколько секунд Вика молча глядела на меня. Может, охмуреж и удался, трудно сказать.
– Эти фашисты в снегу с пробитыми банками? Это регулярная армия. Я бы сказала, что человек… прости, мальчик, работающий в НКВД, может отличить одно от другого.
– У меня не было времени проверить их знаки различия. Вы нас на мушке держали.
– Айнзацев мы сами ищем. По-крупному. Последние полтора месяца за этим трупоебом Абендротом гоняемся. Думали, он сегодня здесь будет.
«Трупоеб» – такого ругательства я раньше не слышал. Прозвучало грубо и вульгарно, но я почему-то улыбнулся. Должно быть, улыбка выглядела странно, беспричинно. В уме я представил Вику со спущенными штанами; образ был отчетливый и подробный, гораздо убедительнее моих обычных воображаемых ню. Может, действовали Колины порнографические карты.
– Абендрот в Кошкине, – сказал я. – У озера.
Эта информация, видимо, охмурила ее больше всего, что я сказал ей за вечер. Моя неуместная ухмылочка вкупе со знанием местоположения фашиста моментально прибавила мне загадочности.
– Кто тебе сказал?
Человек позагадочнее меня, конечно, знал бы, как увернуться от вопроса – по-боксерски, подтанцовывая, пригибаясь, чтобы сбить противнику прицел. Я знал то, что хотелось знать ей. Впервые у меня над нею было легкое преимущество. Название «Кошкино» придавало весомости моей связи с госбезопасностью, давало в руки рычаг…
– Лара, – ответил я, одним словом все и выдав.
– Которая из них Лара?
Я показал. Викин немигающий взгляд сместился на девушку, и мне показалось, что Лару я предал. Она была добра – пустила нас в дом, спрятала от холода, накормила горячим, выскакивала на мороз босиком, чтобы защитить нас перед подозрительными партизанами… А я выдал ее имя этой ухмыляющейся синеглазой убийце. Вика сбросила ноги с дивана, и ее пальцы в шерстяном носке задели мою штанину. Встала и подошла к Ларе, которая сидела на корточках перед огнем – подбрасывала дрова. Без сапог Вика выглядела совсем малышкой, но двигалась с ленивым изяществом – такое видишь у физкультурников, когда они расслабляются, уйдя со стадиона. «Это современная война, – подумал я, – здесь мышцы ничего не значат, и щупленькая девушка может расколоть фашисту голову с четырехсот метров».
Заметив, что снайперша улыбается ей сверху, Лара занервничала. Смахнула золу с рук, выслушала Вику. Их беседы я не разобрал, но увидел, что Лара кивнула и, судя по жестам, показала направление.
В комнату вместе с Корсаковым вошел Коля. Оба со стаканами в руках, они чему-то смеялись – ни дать ни взять лучшие друзья, вся вражда позабыта. Ничего другого я и не ожидал: Коля мог уболтать кого угодно, особенно когда рисовался. Он добрел до дивана и со вздохом плюхнулся на него, хлопнул меня по коленке. Залпом допил водку.
– Поел? – спросил он. – Пора двигаться.
– Мы уходим? Я думал, здесь переночуем.
В перестрелке все тело у меня напряглось и взбодрилось, но пули уже некоторое время не летали, и я чувствовал, как усталость гложет самые кости. Мы весь день шли по снегу, а спал я в последний раз у Сони.
– Ладно тебе, сам же должен соображать. Что, по-твоему, случится, когда фрицы обер-лейтенантов хватятся? Да сюда целый взвод отправят.
Вика добилась от Лары, чего хотела. Я видел, она тихо беседует с Корсаковым в углу: широкоплечий, заросший щетиной партизанский командир и его наемная убийца – в отблесках огня.
Остальные партизаны тоже засобирались – натягивали сухие носки, наматывали портянки, надевали валенки и сапоги, делали последние глотки водки на посошок перед долгим маршем. Девушки исчезли где-то в глубине дома – видимо, впопыхах хватали то, что могли унести с собой, и решали, куда же им теперь двигаться.
– Можем немецкие машины взять, – предложил я. Этот замысел меня вдохновил. – Девушек до Питера довезем… – Но, как и все мои вдохновенные замыслы, этот померк, не успел я договорить.
– Доехать на «кюбеле» до Ленинграда, – сказал – Гм… да, это, пожалуй, мысль. А когда наши скатают нас прямо по дороге, какой-нибудь дурачок с Поволжья вытащит дымящиеся трупы из обломков и скажет: «Ты гля! Фашисты – а совсем как мы!» Нет, львенок, в Питер мы пока не поедем. У нас дела в Кошкине.








