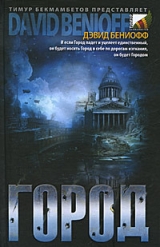
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Дэвид Бениофф
Город
Тимур Бекмамбетов представляет
Книга, которую вы держите в руках, мне особенно дорога. Ее автор – замечательный американский сценарист и писатель Дэвид Бениофф, известный российскому зрителю лишь как автор легендарных блокбастеров «Троя» и «Люди Икс». Мы встретились несколько лет назад в ресторане старинного по лос-анжелесским меркам отеля «Шато Мармон» после того, как я за одну ночь, взахлеб, прочитал рукопись еще ненапечатанной тогда книги. Влюбившись в героев романа о блокадном Ленинграде, я расчитывал получить права на его экранизацию, но, увы, автор мне отказал. «Это история моей семьи, – сказал он, – и надеюсь, когда-нибудь, когда освобожусь от монстров и суперменов, я сниму фильм о том, что меня действительно волнует…» Многие из наших дедушек и бабушек прошли через испытание той страшной войной, но не многим из них посчастливилось иметь такого талантливого и любящего внука, как Дэвид.
«Город» – книга о молодых и для молодых. Для сегодняшних молодых, которые сутками пропадают в Интернете и ни дня не могут прожить без мобильного телефона, которые любят 3D-кинофильмы и, к сожалению, мало что знают уже о Великой Отечественной войне. Главные герои «Города» тоже молоды: семнадцатилетний Лев Бенёв, сын репрессированного поэта, и двадцатилетний красавец балагур Николай, одаренный студент филологического факультета, мечтающий о литературной славе.
Нелепая случайность сводит героев в Ленинграде в первую блокадную зиму 1942 года. Вместе им суждено прожить странную и страшную неделю, которая определит их судьбы. Здесь нет налета пафоса, нет запланированного героизма, но есть искренняя авторская симпатия к героям – героям, которые спорят и подшучивают друг над другом даже в невыносимый мороз, даже на грани голодного обморока. При этом книга очень трогательная, в ней есть нежная история первой юношеской любви, окруженная страшными декорациями блокадного города.
Мальчишкой я часто приезжал в Питер (тогда еще Ленинград) к сестре на каникулы. Отец сестры – первый муж нашей мамы – ушел на Финскую войну прямо со школьной скамьи. А когда началась Великая Отечественная, ему был всего 21 год. Всю блокаду он провел в Ленинграде, где и встретил мою маму. Вскоре после войны они поженились, но всего через полгода после свадьбы он умер от ран. Трагедия, знакомая миллионам семей. А еще через полгода родилась моя сестра. Кстати, первой читательницей этой книги стала именно она – для меня было особенно важно ее мнение. Книга ей понравилась, хотя я ожидал услышать массу критических замечаний, ведь питерцы очень не любят, когда чужаки (особенно иностранцы) пишут об их городе. Тем более о блокаде.
И хотя история, рассказанная Дэвидом Бениоффом, не документальная, атмосфера блокадного города передана очень точно. Я как будто снова возвращаюсь в свое детство, слышу неспешные, почти всегда полушепотом, разговоры о 900 днях стояния Великого Города.
Тимур Бекмамбетов
и если Город падет и уцелеет единственный он будет носить Город в себе по дорогам изгнания он будет Городом
Наконец Шенк решил, будто все понял, и захохотал громче. А потом вдруг серьезно спросил:
– Думаешь, русские – гомосексуалисты?
– Узнаешь в конце войны, – ответил я.
Мой дед ножом убил двух немцев, когда ему еще и восемнадцати не сравнялось. Не помню, чтобы мне кто-нибудь об этом рассказывал. Мне кажется, я знал это всегда. Как, например, знал, что «Янки» на свое поле надевают полоски, а на выезды – серое. Но это знание у меня не от рождения. Кто рассказал мне? Отец – нет, он никогда со мной не секретничал. Мать тоже. Она вообще избегала говорить о неприятном – кровавом, раковом, уродливом. Да и бабушка вряд ли говорила. Она знала все русские народные сказки, почти без исключения – страшные: волки пожирают детишек, ведьмы сажают в печи. Но при мне бабушка ни разу не заговаривала о войне. И уж совершенно точно не рассказывал сам дед – улыбчивый хранитель самых ранних моих воспоминаний, тихий, черноглазый и щуплый. Он держал меня за руку, когда мы переходили проспекты, сидел в парке на лавочке и читал русскую газету, пока я гонял голубей и терзал веточками муравьев.
Вырос я в двух кварталах от деда с бабкой и виделся с ними почти каждый день. У них была своя маленькая страховая компания. Они работали дома в Бей-Ридже, прямо в комнатах-пеналах. Страховали в основном других русских иммигрантов. Бабушка вечно висела на телефоне – убалтывала клиентов. Перед ней никто не мог устоять. Она их очаровывала или пугала, но так или иначе страховки они покупали. Дед восседал за столом, вел все делопроизводство. Маленьким я сидел у него на коленях, не сводя глаз с обрубка указательного пальца у него на левой руке, округлого и гладкого. Две фаланги деду отсекли так чисто, что казалось, будто он вообще без них родился. Стояло лето, играли «Янки», по радио (папа только на семидесятилетие подарил деду цветной телевизор) передавали матч. Дед так и не избавился от акцента, не ходил на выборы, но стал преданным болельщиком «Янки».
В конце девяностых компании деда с бабкой сделала предложение страховая корпорация. Все говорили, что предложение хорошее, поэтому бабушка запросила вдвое больше. Торговались они, должно быть, люто. Но с моей бабушкой торговаться – только время тратить. В конечном итоге ей дали затребованную сумму, и они с дедом по традиции продали квартиру и переехали во Флориду.
Они купили домик на побережье Мексиканского залива. Это был шедевр с плоской крышей, построенный в 1949-м одним архитектором, который стал бы знаменит, если бы не утонул в том же году. Строгий и величественный дом – сталь и бетон – высился на одиноком утесе над заливом. Не таким обычно воображаешь себе жилище пары пенсионеров, но дед с бабкой переехали на юг отнюдь не увядать на солнышке. Дед почти все дни проводит за компьютером – играет онлайн в шахматы со старыми друзьями. Бабушка, которой бездеятельность надоела уже через пару недель после переезда, придумала себе занятие – в Сарасотском колледже преподает русскую литературу загорелым студентам, у которых, судя по тому единственному разу, когда я заглядывал к ней на уроки, явно не проходит стресс от ее сквернословия и сарказма, а также от ее идеальной памяти на стихи Пушкина.
Каждый вечер дед с бабкой ужинают на террасе, открытой темным водам залива, которые простираются до самой Мексики. Спят, не закрывая окон, и ночные мотыльки бьются крылышками о москитные сетки. Деда с бабкой, в отличие от других флоридских пенсионеров, не заботит преступность. Парадная дверь у них обычно не заперта, сигнализации нет. Они не пристегиваются в машине, на солнце не мажутся лосьонами. Они решили, что прикончить их может только Бог, а в Него они не верят.
Я живу в Лос-Анджелесе и пишу киносценарии о супергероях-мутантах. Два года назад один журнал для сценаристов попросил меня написать автобиографический очерк. Я дописал до половины, и вдруг понял, до чего же скучна моя жизнь. Нет, я не жалуюсь. Хотя конспект моего существования читать уныло – школа, колледж, случайные заработки, магистратура, случайные заработки, опять магистратура, супергерои-мутанты. В общем-то жаловаться не на что. Однако, мучаясь с этим очерком, я решил, что мне совсем не хочется писать о своей жизни. Даже пятьсот слов. Мне захотелось написать о Ленинграде.
Дед с бабкой встретили меня в аэропорту Сарасоты. Я нагнулся их поцеловать, а они мне снизу вверх заулыбались. Их всегда слегка озадачивало наличие огромного внука-американца (при росте шесть футов два дюйма я рядом с ними гигант). По пути домой на местном рыбном рынке мы купили помпано. Дед поджарил его на гриле без всяких добавок – только масло, соль и лимон. Как и все его блюда, приготовить эту рыбу вроде бы невероятно легко. Дело заняло десять минут, а на вкус она превосходила все, что я в том году ел в Лос-Анджелесе. Бабушка не готовит. У нас в семье она этим знаменита – ничего сложнее хлопьев на завтрак принципиально не делает.
После ужина бабушка закурила, а дед разлил по стаканам домашнюю черносмородиновку. Мы сидели и слушали хор цикад и сверчков, глядели на черный залив да изредка прихлопывали комаров.
– Я захватил магнитофон. Может, поговорим о войне?
Мне показалось, бабушка закатила глаза, смахивая пепел в траву.
– А что?
– Ты прожил сорок лет, и вдруг тебе интересно.
– Мне тридцать четыре. – Я посмотрел на деда, и он мне улыбнулся. – Что такое? Вы что, за Гитлера были? Скрываете нацистское прошлое?
– Нет, – ответил дед, продолжая улыбаться. – За Гитлера мы не были.
– Но вы думали, что мне сорок?
– Тридцать четыре, сорок… пшш. – Фыркая, бабушка всегда взмахивала рукой, как бы отгоняя глупость. – Какая разница? Женись. Найди себе жену.
– Все бабушки во Флориде так говорят.
– Ха… – ответила она. Ее чуточку задело.
– Мне интересно, как оно было. Что здесь ужасного?
Бабушка кивнула деду, тыча угольком сигареты в мою сторону:
– Ему интересно, как оно было.
– Душа моя, – ответил ей дед. И только, больше ничего не сказал, но бабушка кивнула и затушила окурок о стеклянную столешницу.
– Ты прав, – сказала она. – Хочешь написать о войне – значит, надо.
Она встала, поцеловала меня в макушку, деда – в губы и унесла посуду в дом. Несколько минут мы с дедом сидели тихо, только волны внизу разбивались. Он налил нам еще, довольный, что первую я допил.
– Подружка есть?
– Угу.
– Эта актриса?
– Ну.
– Мне нравится.
– Я знаю.
– Похожа на русскую, – сказал он. – Глаза у нее… Если хочешь про Ленинград, давай про Ленинград.
– Я не хочу про Ленинград сам. Я хочу, чтоб ты рассказал.
– Ладно, поговорим. Завтра?
Он не обманул. Всю неделю мы каждый день сидели с ним на бетонной террасе, и я записывал его рассказы. По нескольку часов утром, потом перерыв на обед, и всю вторую половину дня тоже. Мой дед, который не желал и лишнего слова молвить в компании – то есть в любом обществе, кроме собственной жены, – заполнял словами одну мини-кассету за другой. Слишком много слов для одной книги. Может, правда и страннее вымысла, но редактор ей нужен получше, чем я. Впервые в жизни я слышал, как мой дед матерится и прямо говорит о сексе. Он рассказывал о своем детстве, о войне, о приезде в Америку. Но главное – об одной неделе в 1942 году, о первой неделе года, когда он познакомился с моей бабушкой, встретил лучшего друга и убил двух немцев.
Когда он заканчивал, начинал я. Выспрашивал подробности: имена, места, какая была погода. Некоторое время дед терпел, но в конце концов надулся и нажал на магнитофоне кнопку «стоп».
– Столько лет прошло, – сказал он. – Не помню, в чем я был. Не помню, пасмурно тогда было или нет.
– Я просто хочу, чтобы все было правильно.
– Правильно не будет.
– Но это же ты рассказываешь. Я не хочу перевирать.
– Давид…
– Мне все равно вот еще что непонятно…
– Давид, – сказал он. – Ты писатель. Сочини.
1
Никогда не было так голодно; никогда не было так холодно. Во сне – если спали – мы видели трапезы, которые беспечно поглощали еще семь месяцев назад: весь этот хлеб с маслом, вареники с картошкой, колбасу. Все, что лопали, не думая, глотали, не распробовав, оставляя на тарелках куски, обрезки сала. В июне 1941-го, пока не пришли немцы, мы думали, что бедны. А к зиме июнь уже казался раем.
По ночам ветер выл так громко и протяжно, что, когда он стихал, мы вздрагивали. На мгновение прекращали скрипеть ставенные петли выгоревшей столовой на углу, будто подкрадывался хищник, и мы в ужасе съеживались, как испуганные зверюшки. Сами ставни в ноябре пустили на дрова. В Ленинграде не осталось ни щепочки. Все деревянные вывески, доски от парковых скамеек, половицы из разбитых домов – все сгорело в чьих-то буржуйках. И голубей не было. Их ловили и варили в растопленном льду с Невы. Подумаешь, голубю шею свернуть. С кошками и собаками трудней. В октябре ходили слухи: мол, кто-то зажарил домашнюю шавку и разрезал на четверых, поужинать. Мы смеялись и качали головами – не верили. А сами себя спрашивали: если с сольцой, вкусно ли? Соли еще хватало. Все уже закончилось, но соль у нас еще была. К январю про то, что собак едят, уже знали наверняка. Только тем, у кого где-то была «рука», удавалось кормить домашних животных.
Ходило две теории о толстых и худых. Кое-кто утверждал, будто у довоенных толстых сейчас больше шансов выжить: неделя без еды не сделает из толстяка скелета. Другие говорили: тощие больше привыкли мало есть, поэтому шок голодания перенесут легче. Я поддерживал последних – чисто из своекорыстия. Сам с рождения был недомерком. Носатый, черноволосый, на роже словно черти горох молотили. Скажем прямо, незавидный улов для девчонок. А от войны прямо похорошел. Другие усыхали вместе с остатками карточек: до гитлеровского нашествия выглядели цирковыми силачами, а теперь полчеловека осталось. Мне же терять было нечего – никакой мускулатуры. Как землеройка: вокруг динозавры валятся, а она знай себе промышляет. Так и я был сложен для лишений.
Перед Новым годом я сидел на крыше Дома Кирова. Я в нем жил с пяти лет. До 34-го, когда Кирова убили, названия у дома не было, а потом сразу полгорода в честь Сергей Мироныча переименовали. Я сидел на крыше и смотрел, как под низкими тучами роятся толстые серые аэростаты заграждения, ждут бомбардировщиков. В это время года солнце в небе – всего часов шесть, да и то скачет с востока на запад, поджав хвост. Каждую ночь по три часа мы вчетвером дежурили на крыше, вооружившись ведрами с песком, железными щипцами и лопатами, закутавшись во все рубашки, свитера и пальто – во все, что могли отыскать. Следили за небом. Мы были пожарниками. Немцы решили, что брать город штурмом выйдет накладно, поэтому нас окружили, собираясь уморить всех голодом, разбомбить нас, выжечь.
До войны в Доме Кирова жили тысяча сто человек. К Новому году осталось около четырехсот. Большинство мелюзги эвакуировали еще до того, как немцы в сентябре замкнули кольцо. Мать и сестренка Таисия уехали в Вязьму к нашему дядьке. Вечером накануне отъезда я поцапался с матерью – единственная наша с ней ссора… Вернее, это был тот единственный раз, когда я матери ответил. Она, само собой, требовала, чтобы я ехал с ними, подальше от войны, в самую глубь страны, куда не долетят фашистские бомбардировщики. Только я решил: из Питера – ни ногой. Я мужчина, я буду защищать свой город, стану Александром Невским двадцатого века. Ну, может, я думал не настолько нелепо. Но излагал я веско: если все годные и трудоспособные сбегут, Ленинград падет перед фашистами. А без Ленинграда, без Города Рабочих, которые делают танки и винтовки для Красной армии, – что Советскому Союзу останется?
Мать считала, что это глупо. Мне едва стукнуло семнадцать. Я не варю броню на Кировском, а в армию меня еще с год не возьмут. Оборона Ленинграда – вообще не мое дело, я – лишний рот, который надо кормить. Этими оскорблениями я пренебрег.
– Я пожарник, – сказал я матери.
Это была правда: горсовет распорядился создать десять тысяч пожарных команд, и я доблестно руководил командой пятого этажа Дома Кирова.
Матери не было и сорока, но седая вся. Она сидела напротив меня за кухонным столом, накрыв мою руку обеими ладонями. Очень щуплая была женщина, полтора метра с небольшим. Но я боялся ее с рождения.
– Ты болван, – сказала она. Может, грубовато, но мать всегда называла меня «мой болван», и я уже считал это ласковым прозвищем. – Город был и до тебя. И после тебя останется. Ты нужен нам с Тасей.
Она была права. Окажись на моем месте сын и брат получше – отправился бы с ними. Таська меня обожала – с разбегу напрыгивала, когда я возвращался из школы, читала мне вслух дурацкие стишки про мучеников революции, которые им задавали на дом сочинять, рисовала у себя в тетрадках карикатуры с моим носатым профилем. Вообще, конечно, мне иногда хотелось ее придушить. А сейчас тащиться через всю страну с матерью и сестренкой – вот еще! Мне семнадцать, меня переполняла вера в собственную героическую судьбу. Речь Молотова по радио в первый день войны (НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ) напечатали на тысячах плакатов и расклеили по всему городу. Я верил в правоту нашего дела. Я не стану драпать от врага и победу ни за что не прохлопаю.
Наутро мать с Таськой уехали. Часть пути они проделали на автобусе, потом их подвозили военные грузовики, а потом они еще много километров шли по проселкам в худой обуви. Добрались до места за три недели, но добрались. Благополучно. Мать прислала письмо, все рассказала – и как ужасно все было, и как они вымотались. Может, хотела, чтобы мне стало совестно, – мне и было совестно, я же их бросил, но все равно лучше, что они уехали. Надвигались бои, а на фронте им делать нечего. Потом седьмого октября немцы взяли Вязьму, и писем больше не было.
Хотел бы признаться, что скучал, когда они уехали. По вечерам иногда бывало одиноко, да и маминой стряпни недоставало. Но я еще в детстве фантазировал о том, как буду жить сам по себе. Больше всего я любил сказки, где были находчивые сиротки, которым удавалось пробраться через темный лес, любые опасности преодолеть, перехитрить врагов и в скитаниях обрести богатство. Не могу сказать, что я был счастлив – мы слишком голодали. Но я верил, что у меня наконец появилась Цель. Если падет Ленинград, падет СССР; если падет СССР, мир захватят фашисты. Мы все в это верили. Я до сих пор верю.
В общем, в армию мне было рано, а вот копать противотанковые рвы – в самый раз. Днем мы выходили рыть землю, а по ночам стерегли крыши. В бригаде у меня были друзья и знакомые с пятого этажа: талантливая виолончелистка Вера и рыжие близнецы Антокольские. У братьев имелся всего один значительный талант – они умели музыкально пукать. В первые дни войны мы курили на крыше – притворялись солдатами, храбрыми, крепкими, выставив подбородки вперед, мы следили за врагом в небесах. К концу декабря курева в Ленинграде уже не осталось – по крайней мере, из табака. Вконец отчаявшиеся души толкли листья, делали самокрутки и называли такое курево «Осенние костры», уверяя, будто правильные листья курятся хорошо. Но поблизости от Дома Кирова ни одного дерева не было, поэтому курить листья мы и не пробовали. В свободные минуты мы охотились на крыс. В городе исчезли коты. И эти твари, должно быть, решили, что крысиный бог ответил на их древние молитвы, пока не заметили, что даже на помойках им уже нечем поживиться.
После нескольких месяцев налетов мы уже различали немецкие бомбардировщики по вою моторов. Той ночью летели «Юнкерсы-88». Они уже несколько недель как заменили «хайнкели» и «дорнье», которые наши истребители так здорово навострились сбивать. При свете дня наш город был жалок, но когда темнело, в блокадном городе появлялась даже некая странная красота. С крыши Дома Кирова – если светила луна – весь Ленинград был виден как на ладони: Адмиралтейская игла, заляпанная серой краской, чтоб не заметили бомбардировщики, Петропавловка, чьи шпили затянули маскировочной сеткой, купола Исаакия и луковицы Спаса на Крови. Мы видели, как на соседних крышах работают расчеты ПВО. В Неве на якоре гигантскими серыми часовыми стояли корабли Балтфлота. Из своих огромных судовых орудий они расстреливали артиллерийские позиции фашистов.
Красивее всего были воздушные бои. «88-е» и «ишаки» кружили над городом, снизу их было не разглядеть, если не попадались в лучи мощных прожекторов. У «ишаков» на крыльях были нарисованы большие красные звезды, чтобы наши зенитки не подбили. Не каждую ночь, но частенько мы видели: небо освещено, как сцена, и на ней тяжелые, неповоротливые немецкие бомбардировщики закладывают виражи, чтобы стрелки получше целили в юркие советские истребители. Когда сбивали «юнкерс» и горящая туша его фюзеляжа рушилась с небес, будто поверженный ангел, с крыш по всему городу неслись торжествующие вопли. И все зенитчики и пожарные махали летчику-победителю.
На крыше у нас была своя маленькая радиотарелка. В новогоднюю ночь мы слушали перезвон Спасских курантов в Москве. Они играли «Интернационал». Вера где-то раздобыла пол-луковицы. Мы разрезали это лакомство на четыре части и разложили на тарелке, смазанной подсолнечным маслом. Когда лук доели, все масло вымакали пайковым хлебом. Он вообще не был похож на хлеб. Едой даже не пах. Когда немцы разбомбили Бадаевские склады, городские пекарни стали выкручиваться из положения. В муку добавляли все, что можно, лишь бы не отрава была. Голодал целый город, еды не хватало никому, но все равно хлеб материли: и что на вкус он как опилки, и что на морозе быстро каменеет. Об него зубы ломали. Даже сегодня, когда и лица любимых людей забылись, я помню тот хлеб на вкус.
Пол-луковицы и 200 граммов хлеба на четверых – ничего так поели. Завернувшись в одеяла, мы растянулись на крыше, смотрели, как на длинных тросах дрейфуют по ветру аэростаты заграждения, и слушали метроном по радио. Когда не было музыки или новостей, радиостанция передавала стук метронома, и его неумолчное тик-тик-тик говорило нам: город до сих пор не покорен, враг еще у ворот. Метроном по радио – то билось сердце Питера, и немцам так и не удалось его заглушить.
Вера первой увидела, как с неба падает человек. Закричала, показала, и мы вскочили, чтобы разглядеть получше. В луч прожектора попал парашютист – он спускался прямо в город, а шелковый купол над ним светлел, как луковица тюльпана.
– Фриц, – определил Олежа Антокольский, и не ошибся.
Мы разглядели светлый комбинезон люфтваффе. Откуда он взялся? Никаких воздушных боев мы не слышали, зенитки не стреляли. Бомбардировщики не летали над нами уже с час.
– Может, началось? – сказала Вера. Несколько недель по городу ходили слухи, что немцы готовят массированный десант – последнюю попытку выдернуть эту жалкую занозу Ленинграда из тыла наступающих полчищ. В любую минуту башку задерешь – а на город летят тысячи фашистов, метель белых парашютов на все небо. Однако сейчас десятки прожекторов вспарывали тьму, а никаких врагов не было и в помине. Только один, да и он, судя по тому, как беспомощно тело болталось на стропах, уже мертвый.
Застыв в луче прожектора, он подлетал ближе. Он был уже так низко, что стало видно: на нем нет одного черного сапога.
– К нам спускается, – сказал я. Ветер нес его к улице Воинова. Близнецы переглянулись.
– «Люгер», – сказал Олежа.
– Люфтваффе не носят «люгеры», – ответил Гришка. Он был на пять минут старше – и большой знаток фашистского оружия. – «Вальтер ППК».
Вера улыбнулась мне:
– Немецкий шоколад.
Мы кинулись к двери на лестницу, побросав свои пожарные причиндалы, – и бегом вниз по черному колодцу. Дураки, что скажешь. Поскользнешься на стертом бетоне – и падения не смягчит ни жир, ни мускулы: их нет. А значит, что-нибудь себе сломаешь, а если так – наверняка умрешь. Но нам было все равно. Мы совсем еще зеленые, а тут дохлый фриц на улицу Воинова падает, подарки из фатерлянда с собой несет.
Мы перебежали двор и перелезли через запертые ворота. Фонари не горели. Весь город стоял темный – отчасти чтоб бомбардировщикам не светить, отчасти потому, что все электричество шло на оборонные заводы. Но луна светила ярко – все видать. Улица Воинова раскинулась пустынная, шесть часов как «комендантский час». Машин не было. Бензин выдавали только военным и начальству, а обычные машины реквизировали еще в первые месяцы войны. На окнах – полосы бумаги крест-накрест: по радио сказали, что так стекла будут целее при налетах. Может, и правда, только в Ленинграде я видел много разбитых витрин, где на раме болтались одни эти полоски.
На улице мы осмотрели небо, но нашего фрица не увидели.
– Куда он делся?
– Может, на крышу упал?
Прожекторы обшаривали небо, но все они стояли на высоких домах, ни один на Воинова не заглядывал. Вера дернула меня за воротник шинели – огромной, флотской, не по росту, отцово наследство; я в ней еще утопал, но теплее у меня ничего не было.
Я обернулся: нашего немца тащило по улице, черный сапог скреб обледенелую мостовую, а белый купол парашюта еще не опал на ветру. Несло его прямо к воротам Дома Кирова. Подбородок парашютиста упирался в грудь, в темных волосах снег, а лицо в лунном свете – бескровное. Мы стояли очень тихо и смотрели, как он приближается. Той зимою мы навидались такого, что никому не пожелаешь, думали, нас уже ничем не удивить, а оказалось – очень даже удивить. Если б немец выхватил «вальтер» и стал палить, мы бы просто к месту примерзли. Но мертвяк оставался мертвяком. И тут ветер наконец утих, парашют сдулся, и немец осел на мостовую. Еще несколько метров его протащило лицом вниз – последнее унижение.
Мы обступили летчика. Высокий, крепкий. Если бы мы встретили его на питерской улице в гражданском, сразу бы заподозрили, что лазутчик: слишком упитанный, сразу видно – мясо ел каждый день.
Гришка встал на колени и расстегнул ему кобуру.
– «Вальтер ППК». Я же говорил.
Мы перекатили немца на спину. Бледное лицо его было все исцарапано об асфальт, но ссадины бескровные, как и кожа. У мертвых синяков не бывает. По лицу никак не скажешь – боялся ли он, когда умирал, злился ли? Или со всем смирился? В этом лице уже не было ни характера, ни жизни – труп и труп, и родился трупом.
Олежа стянул с него черные кожаные перчатки, а Вера размотала шарф и сняла очки-консервы. На лодыжке у летчика я нашел ножны и вытащил отлично сбалансированный нож с серебряной гардой и лезвием в пятнадцать сантиметров. Гравировку при луне прочесть не смог. Нож я вложил обратно в ножны, а их пристегнул к своей лодыжке – и впервые за много месяцев ощутил себя настоящим бойцом.
Тем временем Олежа вытащил у трупа бумажник и, ухмыляясь, сосчитал рейхсмарки. Вера забрала себе хронометр вдвое больше обычных наручных часов: немец носил его поверх рукава летной куртки. Гришка нашел складной бинокль в кожаном чехле, две запасные обоймы к «вальтеру» и тонкую изогнутую фляжку. Отвинтил колпачок, понюхал и передал мне:
– Коньяк?
Я отхлебнул и кивнул:
– Коньяк.
– Когда ты успел коньяк попробовать? – спросила Вера.
– Пришлось.
– Когда?
– Дайте сюда, – сказал Олежа, и фляжка пошла по кругу. Мы вчетвером сидели на корточках вокруг с неба свалившегося летчика, отхлебывая по глотку – может, коньяк, может, бренди, может, арманьяк. Разницы мы не понимали. Что бы там ни было, в животе от него теплело.
Вера не сводила глаз с лица немца. Смотрела без жалости, без страха. В ее глазах читались только любопытство и презрение: оккупант прилетел бросать свои бомбы на наш город, а вместо них рухнул сам. Сбили его не мы, но мы все равно торжествовали. Никому из Дома Кирова раньше не попадался труп врага. Утром про нас только и будет разговоров.
– Как, по-твоему, он умер? – спросила Вера. Его тело не уродовали пулевые отверстия, ни кожа куртки, ни волосы не были опалены – вообще ничего не видно. Кожа слишком белая, у живых такой не бывает, но кровь ниоткуда не текла.
– Замерз, – ответил я.
Веско так ответил, потому что знал, что так оно и было, хоть и доказать нечем. Летчик выбросился с высоты нескольких тысяч метров над ночным Ленинградом. Даже у земли мороз такой, что костюмчик его бы не спас, что говорить про заоблачные выси, где тепло только в кабине.
Гришка поднял фляжку и торжественно провозгласил тост:
– За мороз.
Коньяк опять пошел по кругу. До меня он в этот раз не добрался. Шум мотора мы бы услышали за два квартала. Город в комендантский час был тих, как сама луна, только мы слишком увлеклись трофейной выпивкой. Мы сообразили, что нам светит лишь когда «газик» свернул на Воинова. По асфальту застучали цепями тяжелые колеса, а в нас уперлись лучи фар. Нарушение комендантского часа без пропуска каралось расстрелом на месте. Уход с пожарного поста карался расстрелом на месте. Мародерство каралось расстрелом на месте. Без суда и следствия. Всю милицию забрали на фронт, в полупустых тюрьмах заключенных становилось все меньше. Зачем кормить врагов народа? Если ты преступник и тебя поймали, ты – покойник. Не время цацкаться с тобой в судах.
И мы побежали. Дом Кирова мы знали как свои пять пальцев. Забежим во двор за ворота, нырнем в промозглую тьму ветвящихся коридоров – нас и три месяца не найдут. Солдаты орали нам вслед, приказывали стоять, но куда там! Голосов мы не боялись, остановить могла только пуля, но курок пока никто не спустил. Гришка первым добежал до ворот – он у нас был самый спортивный, – подпрыгнул, уцепился за железную перекладину и подтянулся. От него не отставал Олежа, я бежал следом. Мы все очень ослабели, мускулы растаяли от нехватки белка, но страх подгонял, и мы карабкались изо всех сил.
На самом верху я оглянулся: Вера поскользнулась на замерзшей луже. Она смотрела на меня, глаза круглые от ужаса. Стояла на льду на четвереньках, а у немецкого трупа уже затормозил «газик» и выпрыгнули четыре бойца. До них было метров шесть, в руках – винтовки, но мне бы хватило времени кулем перевалиться на другую сторону и юркнуть в дом.
Хотел бы я сейчас тебе сказать, что у меня и мысли тогда не возникло бросить Веру: мол, раз друг в опасности, я кинусь на выручку без промедления. Но если говорить правду, в тот миг я ее ненавидел. За то, что неуклюжая так не вовремя, за то, что панически глядела на меня этими своими карими глазищами, словно бы назначила своим спасителем меня, хотя целовалась только с Гришкой. Я знал, что не смогу жить и помнить этот умоляющий взгляд. И она это знала. Я ненавидел ее, спрыгивая с ворот обратно, ненавидел, когда подымал ее на ноги и тащил к железным прутьям. Я ослаб, но в Вере было не больше сорока кило. Я подсадил ее – солдаты орали, топали по асфальту сапоги, клацали затворы винтовок.
Вера перевалилась на другую сторону, и я стал карабкаться за ней, наплевав на солдат. Послушайся я их приказов, они бы столпились вокруг, обозвали врагом народа, поставили на колени и шлепнули. Выстрелом в затылок. На воротах я был хорошей мишенью. Но, может, они были пьяные, может – из города, такие же, как я сам, и ни одного выстрела в жизни еще не сделали. А может, специально мазали бы, потому что понимали: я тоже патриот и защитник города. А из дома высунулся лишь потому, что на мою улицу с высоты свалился немец, а какой мальчишка устоит и не пойдет поглазеть на дохлого фашиста?
Подбородком я уже зацепился за верхнюю перекладину, и тут меня за лодыжки ухватили руки в рукавицах. Крепкие руки, армейские, а в армии кормили два раза в сутки. Вера вбежала в дом и ни разу не оглянулась. Я изо всех сил вцепился в прутья, но солдаты стащили меня вниз, швырнули на панель и встали вокруг, тыча мне в щеки дулами «Токаревых». На вид им всем было не больше девятнадцати; любой бы не задумываясь вышиб мне мозги.








