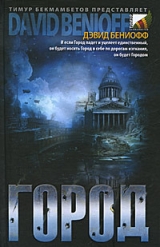
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
– Гля, счас обосрется.
– Пирушку себе тут устроили? Шнапсом разжились?
– Как раз капитану. Пускай с фрицем прокатится.
Двое нагнулись, подхватили меня под мышки, рывком поставили на ноги, довели до урчавшего вхолостую «газика» и пихнули на заднее сиденье. Еще двое за ноги и за руки подняли немца и швырнули в машину ко мне.
– Ты его там погрей, – сказал один, и все захохотали. Умереть не встать. Потом сами набились в машину и захлопнули дверцы.
Я решил, что еще не сыграл в ящик только потому, что им хотелось расстрелять меня прилюдно – в назидание прочим мародерам. Всего несколько минут назад я себя чувствовал гораздо сильнее мертвого летчика. Но сейчас, когда мы мчались по темной улице, объезжая воронки и кучи битого кирпича, немец как будто ухмылялся мне: шрам его белых губ раскалывал мерзлое лицо. У нас с ним одна дорога.
2
Если рос в Питере – боялся «Крестов», этой мрачной кирпичной кляксы на берегу Невы, жестокого и сурового склада потерянных душ. В мирное время здесь содержали, наверно, тысяч пятнадцать заключенных. Сомневаюсь, чтобы к январю осталась хотя бы тысяча. Сотни мелких преступников отправили в Красную армию – прямо в мясорубку германского блицкрига. Еще сотни умерли от голода в камерах. Каждый день охрана выволакивала из «Крестов» обтянутые кожей скелеты и сваливала на сани штабелями по восемь.
Маленьким меня больше всего пугала тамошняя тишина. Идешь мимо, и кажется: вот-вот услышишь вопли головорезов или шум драки. А за толстыми стенами – ни звука. Будто заключенные, большинство из которых ждали суда, этапа в ГУЛАГ или пули в затылок, отчекрыжили себе языки в знак протеста против своей судьбы. «Кресты» были крепостью навыворот: враг там содержался внутри. И все мальчишки Ленинграда не раз слышали: «Вот будешь так себя вести – в "Кресты" загремишь».
Камеру свою я едва успел рассмотреть: охрана впихнула меня внутрь, на миг высветив фонарями некрашеные каменные стены и четыре койки в два этажа, все пустые. Два на четыре метра. Я перевел дух, потому что сперва боялся: вдруг придется делить это пространство с каким-нибудь чужаком, у которого наколки на костяшках? Но через некоторое время – несколько минут? часов? – черное молчание стало физически давить, забираться в легкие. Словно тонешь.
Тьма и одиночество меня, в общем, не пугали. В Питере в те дни электричество было такой же редкостью, как свиная грудинка, а квартира наша в Доме Кирова, когда уехали мать с Таськой, стояла пустой. Долгие ночи были темны и тихи, но всегда откуда-то доносился шум. С немецких позиций громыхали минометы; по бульвару дребезжал армейский грузовик; стонала соседка сверху – старуха умирала, уже не вставала с постели. Не звуки, а кошмар, само собой, но хоть что-то раздавалось– и подтверждало, что мир вокруг никуда не провалился. В «Крестах» другое дело – здесь было по-настоящему тихо, раньше я в таких местах не бывал. Вообще ничего не слышно, и не видно вообще ничего. Меня заперли в приемной смерти.
До ареста я верил, что блокада меня закалила, хотя на самом деле в январе мужества у меня было не больше, чем в июне. Вопреки распространенному мнению, ужас храбрости не способствует. Хотя, возможно, если все время боишься, легче скрыть страх.
Что бы такого спеть или прочесть наизусть? Я сосредоточился, но все слова в голове слиплись, как соль в окаменевшей солонке. Я лежал на верхней койке и надеялся хоть на какое-нибудь тепло, что ни есть в «Крестах». Лишь бы оно сюда поднялось и меня отыскало. Утром мне светила только пуля в голову, но все равно хотелось, чтобы внутрь уже просочилась капелька дневного света. Когда меня втолкнули в камеру, я, кажется, успел заметить под самым потолком щель зарешеченного окна, хотя точно вспомнить уже не получалось. Я попробовал считать до тысячи, чтобы скоротать время, но всякий раз сбивался где-то на четырехстах. Тюфяк скребли призрачные крысы – оказалось, мои же пальцы. Казалось, ночь никогда не кончится. Словно фашисты сбили это драное солнце. Они так могут, чего б не смочь? У них ученые лучшие в мире, найдут способ. Время вот остановили. Я ослеп и оглох. Лишь холод и жажда напоминали, что я еще жив. Так одиноко, что хоть бы охранник появился, шаги бы чьи-нибудь услышать, перегаром бы пахнуло.
Множеству великих моих соотечественников приходилось подолгу сидеть в тюрьмах. А я той ночью понял, что мне великим русским никогда не стать. Несколько часов в одиночке, где даже пыток нет, только тьма, тишина и холод, – и я уже почти сломался. Те пламенные души, что по многу зим проводили в Сибири и выживали, – у них было такое, чего нет у меня: великая вера в прекрасное будущее – царствие небесное, справедливый рай на земле или просто возможность отомстить. А может, их забивали до того, что они превращались в животных – ходили на задних лапах, служили хозяевам, жрали помои, спали по приказу, и снилась им только могила.
Наконец, что-то послышалось. Шаги, несколько пар тяжелых сапог. В замке повернулся ключ. Я вскочил на койке и треснулся головой о низкий потолок – так сильно, что до крови прокусил губу.
Два охранника – у одного в руках коптилка, и огонька красивее я в жизни не видал, гораздо лучше рассвета, – ввели в камеру нового зэка. Молодой военный в форме. Он оглядел камеру так, словно квартиру себе снимал. Высокий, держится очень прямо – высится над охранниками, и, хотя у тех пистолеты, а он стоит безоружный, казалось, командовать ими будет он. Каракулевую шапку он держал в одной руке, кожаные перчатки – в другой.
Пока охранники выходили, захлопывали за собой дверь и запирали, пока от нас уносили свет, военный смотрел на меня. Перед возвращением тьмы я разглядел его лицо, потому и запомнил: высокие казацкие скулы, губы слегка кривятся в усмешке, соломенные волосы, а глаза такие голубые, что любой арийской невесте понравятся.
Я сидел на верхней койке, а он стоял на каменном полу, и по тишине я понимал, что с места он не сдвинулся. В темноте мы по-прежнему разглядывали друг друга.
– Еврей? – спросил военный.
– Что?
– Ты еврей? Похож на еврея.
– А вы на фашиста.
– Я знаю. Ich spreche ein bisschen Deutsch [3]3
Немного по-немецки говорю (нем.).
[Закрыть], к тому же. Просился в разведку, да разве послушают? Так ты, значит, еврей?
– А вам какое дело?
– Нечего стыдиться. Мне нравятся евреи. Эмануил Ласкер у меня второй любимый шахматист. На одну ступеньку ниже Капабланки… А Капабланка – это Моцарт, чистый гений. Нельзя любить шахматы и не любить Капабланку. А вот в эндшпиле никто не сравнится с Ласкером. Еда есть?
– Нет.
– Руку протяни.
Наверняка ловушка. Мы так в детстве играли, ловили дураков. Он сейчас меня по ладони шлепнет или я так и буду сидеть с протянутой рукой, пока не пойму, что меня облапошили. Но раз предлагают еду, отказываться нельзя, хоть и поверить трудно. Я вытянул руку во тьму и стал ждать. Через секунду у меня на ладони лежал ломтик чего-то холодного и жирного. Не знаю, как он отыскал мою руку, но как-то нашел, причем сразу, не шарил.
– Колбаса, – сказал он. Помолчал. – Не переживай. Не свиная.
– Я ем свинину. – Понюхав колбасу, я отгрыз кусочек. От мяса она отличалась так же, как пайковый хлеб от настоящего, но в ней был жир, а жир – это жизнь. Я жевал этот ломтик как мог медленно, чтобы хватило на подольше.
– Чавкаешь, – раздалось замечание из тьмы. Скрипнуло – военный сел на нижнюю койку. – И полагается говорить «Спасибо».
– Спасибо.
– На здоровье. Как зовут?
– Лев.
– А фамилия?
– А вам какое дело?
– Да просто вежливость, – сказал он. – Например, если я с кем-нибудь знакомлюсь, я говорю: «Добрый вечер, меня зовут Николай Александрович Власов, друзья называют меня Коля».
– Да вам просто хочется узнать, еврейская у меня фамилия или нет.
– А еврейская?
– Да.
– Ага. – Он удовлетворенно вздохнул: инстинкт его не подвел. – Спасибо. Даже не знаю, чего ты так боишься ее называть.
На это я не ответил. Если он не знает чего, нет смысла и объяснять.
– И за что ты здесь? – спросил он.
– Поймали. Дохлого фрица обирал на Воинова.
Военный встревожился:
– Фрицы уже на Воинова? Началось?
– Ничего не началось. Он летчик с бомбовоза. Выбросился с парашютом.
– Наши сбили?
– Мороз его сбил. А вас за что?
– Да по глупости. Думают, я дезертир.
– Чего не расстреляли?
– А тебячего не расстреляли?
– Не знаю, – признался я. – Сказали, что я «как раз капитану».
– А я не дезертир. Я студент. Я диплом защищал.
– Да ну? Диплом? – Никогда у дезертиров не бывало глупее предлога.
– «Трактовка "Дворовой псины" Ушакова сквозь призму современного социологического анализа». – Он подождал, что я на это отвечу, но мне сказать было нечего. – Знаешь такую книгу?
– Нет. Ушаков?
– Образование в школах стало ни к черту. Из нее куски надо заучивать наизусть. – Говорил он, как брюзгливый старый профессор, хотя даже с первого взгляда мне стало понятно, что ему от силы лет двадцать. – «На бойне, где мы поцеловались впервые, воздух еще смердел кровью агнцев». Первая строка. Есть мнение, что это величайший русский роман. А ты про него ни разу не слышал.
Он притворно вздохнул. Минуту спустя я услышал, как что-то странно царапается. Словно крыса точит когти о тюфяк.
– Это что? – спросил я.
– Хм?..
– Не слышите?
– Это я пишу в дневник.
С открытыми глазами в такой тьме я видел не больше, чем с закрытыми, а этот сидит и пишет в дневник. Ну да, карандаш по бумаге царапает. Через несколько минут дневник захлопнулся, и мой сокамерник, судя по шороху, сунул блокнот в карман.
– Я умею писать в темноте, – сказал он и легонько рыгнул. – Есть у меня такой талант.
– Заметки к «Дворовой псине»?
– Именно. Чудно, а? Глава шестая: Радченко на месяц попадает в «Кресты», потому что его бывший лучший друг… Нет, не стану ничего выдавать. Но должен признаться, сюда меня, похоже, привела судьба. Я побывал везде, где был Радченко, – во всех ресторанах, театрах, на кладбищах… по крайней мере, тех, что сохранились. А вот здесь еще не доводилось. Критики утверждают, что пока не проведешь ночь в «Крестах», не поймешь и Радченко.
– Вот вам повезло.
– Угу.
– Так, думаете, утром нас шлепнут?
– Сомневаюсь. Нас бы не держали всю ночь, чтобы утром расстрелять. – Говорил он довольно беспечно, словно мы обсуждали футбольный матч, чей исход большого значения не имел, как бы ни решилось дело. – Не срал восемь дней, – признался мой сокамерник. – Заметь, я не говорю: не просирался, – потому что не просирался я уже несколько месяцев. Я про то, что вообще последние восемь дней не срал. – Мы оба помолчали, раздумывая над этим сообщением. – Как считаешь, сколько человек может прожить, не сря?
Вопрос интересный, мне и самому было любопытно, но ответить я не мог. Потом услышал, как сосед лег, довольно зевнул – расслабленный, счастливый, надо полагать; как будто зассанный соломенный тюфяк ему – что пуховая перина. Еще с минуту висело молчание, и я решил, что сокамерник уснул.
– Стены здесь, наверное, толщиной больше метра, – вдруг сказал он. – Хоть выспимся – здесь нас уж точно никто не тронет. – С этим он и уснул; слова перешли в храп так быстро, что я было решил – притворяется.
Я всегда завидовал тем, кто быстро засыпает. Надо полагать, у них мозг чище, половицы в черепе лучше выметены, а все мелкие чудища надежно заперты в пароходном кофре в изножье кровати. А вот я родился с бессонницей, без сна и умру, истратив тысячи часов на томление по забытью, по резиновой кувалде, которая дерябнула бы меня по башке – не сильно, не насмерть, а только так, чтобы отрубиться на всю ночь. Только этой ночью мне спать не придется. Я пялился во тьму, пока та не стала сереть, пока у меня над головой не проступил потолок, а свет с востока не просочился в узкую зарешеченную бойницу, которая все-таки существовала. И лишь тогда я сообразил, что к ноге у меня до сих пор пристегнут немецкий нож.
3
Где-то через час после рассвета дверь в камеру открыли два новых охранника, подняли нас и надели наручники. На мои вопросы не отвечали, но Коля попросил у них чашку чая и омлет, и это их, похоже развеселило. Должно быть, шутили в «Крестах» нечасто, потому что шуточка была неудачная, но охранники все равно заухмылялись, выталкивая нас в коридор. Где-то кто-то стонал – тихо и нескончаемо, как судовая сирена вдалеке.
Я не знал, на виселицу нас ведут или на допрос. Ночь прошла без сна; кроме глотка из немецкой фляжки, я не пил ничего с самого дежурства на крыше Кирова. Там, где я лбом стукнулся о потолок, выросла шишка с младенческий кулачок. Утро не задалось. Хуже, наверное, и не бывало, но жить все равно хотелось. Я хотел жить и знал, что не смогу достойно встретить смерть. Упаду перед палачом или расстрельной командой на колени, взмолюсь, чтобы пощадили, ведь я так молод, кинусь описывать, сколько часов проторчал на крыше в ожидании вражеских бомб, расскажу, сколько баррикад помогал строить, сколько рвов выкопал. Мы все это делали, все сражались за правое дело, но я же истинный сын Питера, смерти я не заслужил. Что я такого сделал, а? Ну, выпили мы трофейного коньячку, что ж меня за это теперь – к стенке? Петлю на шею мне, грубую пеньку на цыплячью мою шейку, чтоб мозг навсегда отключился, – только за то, что ножик с дохлого фрица снял? Не надо, товарищи. Нет во мне ничего хорошего, но не настолько же.
Охранники провели нас вниз по каменной лестнице – ступени были стерты сотнями тысяч сапог. За железной решеткой, отсекавшей нижнюю площадку, сидел старик. На шее у него был толстый серый шарф в два слоя. Старик ухмыльнулся нам, показав беззубые десны, и отпер калитку. Через минуту перед нами открылась тяжелая деревянная дверь, и мы вышли на свет. Вышли из «Крестов», живые и невредимые.
Явная отсрочка исполнения смертного приговора не произвела на Колю впечатления. Он нагнулся, скованными руками зачерпнул горсть чистого снега, поднес к лицу и стал лизать. Я позавидовал его дерзости – и у себя во рту ощутил вкус холодной воды. Но злить охрану не хотелось. Выход из «Крестов» казался странной ошибкой, и я рассчитывал, что меня запихнут обратно, если сделаю что-то не то.
Охранники довели нас до «газика». Мотор урчал, из выхлопной трубы шел вонючий дым, а впереди сидели два бойца и без всякого любопытства смотрели на нас из-под ушанок, натянутых на самые лбы.
Коля заскочил на заднее сиденье, не дожидаясь команды.
– Господа, в оперу!
Охранники хохотнули опять. Видимо, за долгие годы работы в «Крестах» перестали различать, что смешно, а что нет. А вот солдаты не засмеялись. Один повернулся и оглядел Колю.
– Еще слово, курва, скажешь, и я тебе руку сломаю. Я б тебя вообще пристрелил, дезертира. Ты… – Он повернулся ко мне: – Залезай.
Коля уже открыл было рот, и я понял, что драки не избежать: не похоже, чтобы солдат блефовал, а Коля, судя по всему, не понимал простых угроз.
– Я не дезертир, – сказал он. Скованными руками он сумел подтянуть левый рукав шинели, рукав армейского свитера, рукава двух гимнастерок под ним и протянул голую руку бойцу на переднем сиденье. – Хочешь сломать мне руку – ломай, но я не дезертир.
Долго-долго никто ничего не говорил: Коля взирал на солдата, тот пялился на него, а мы стояли и смотрели на них обоих. Поединок воль впечатлял, и нам было интересно, кто победит. Наконец солдат признал поражение – отвернулся и рявкнул на меня:
– Полезай в машину, гаденыш.
Охранники ухмыльнулись. Утренний цирк с конями. Пытать никого не надо – зубы выдирать, ногти выдергивать, слушать вопли жертвы. Можно просто посмотреть, как я, этот самый, на букву «п», карабкаюсь на заднее сиденье «газика» к Коле.
Поехали мы очень быстро – водитель плевать хотел на обледенелую дорогу. Мы гнали по берегам замерзшей Невы. У меня был поднят воротник, в лицо хотя бы не дуло ветром, рвавшим брезентовую крышу. Колю же, казалось, холод не волновал. Он смотрел на шпиль Иоанна Предтечи на том берегу и ничего не говорил.
Свернули на Каменноостровский мост – его стальные пролеты заиндевели, на фонарях висели сосульки. С него – на Каменный остров и лишь чуточку притормозили, объезжая воронку прямо посреди дороги, потом заехали на длинную аллею, обсаженную липами, от которых остались только пни, и остановились перед роскошным деревянным особняком с белыми колоннами.
Коля осмотрел здание.
– Здесь жили Долгоруковы, – произнес он, выбираясь из машины. – Про Долгоруковых вы, наверное, и не слыхали.
– Всем «господам» еще в 17-м шеи посворачивали, – отозвался один солдат, тыча стволом винтовки, чтоб мы двигались к парадным дверям.
– Некоторым – да, – подтвердил Коля. – А некоторые спали с государями-императорами.
При свете дня Коля выглядел, как на агитплакате – их расклеили по всему городу: лицо героя, волевой подбородок, прямой нос, на лоб падают светлые волосы. Дезертир что надо.
Солдаты завели нас на крыльцо, где на метр с лишним были навалены мешки с песком – пулеметное гнездо. У пулемета сидели двое бойцов, курили одну самокрутку на двоих. Коля принюхался и с тоской посмотрел на хабарик.
– Табак настоящий, – сказал он, когда конвоиры вталкивали нас в двери. Раньше я во дворцах не бывал – только читал про них. В романах описывались балы с танцами на паркете, слуги разливали суп из серебряных супниц, строгий отец семейства среди книжных шкафов в кабинете предупреждал рыдающую дочь, чтоб не связывалась с безродным мальчишкой. Однако старый особняк Долгоруковых величественно смотрелся только снаружи; внутри же по нему прошлась революция. Мраморный пол испакостили тысячи грязных сапог – полы здесь не мыли уже много месяцев. У плинтусов отставали закопченные обои. Никакой старой мебели не сохранилось, никаких картин или фарфоровых ваз – стены и полки красного дерева были голы.
Из комнаты в комнату сновали десятки офицеров в мундирах, бегали вверх-вниз по двойной лестнице – уже без перил, которые, видимо, пустили на растопку вместе с балясинами. Форма у всех офицеров была не красноармейская. Коля заметил, куда я смотрю:
– НКВД. Наверное, думают, что мы шпионы.
И без Коли было понятно, что НКВД. С малых лет я знал, как выглядят их мундиры – синие фуражки с малиновыми околышами, пистолеты «ТТ» в кобурах. Я научился опасаться их «паккардов», что стояли у ворот Дома Кирова, урча моторами, «черных воронков», в которых из дому увозили какого-нибудь несчастного. Только на моей памяти НКВД арестовало у нас в доме человек пятнадцать. Иногда арестованные через несколько недель возвращались – обритые наголо, лица бледные и безжизненные; при встречах на лестнице отводили взгляды и ковыляли к своим дверям. Сломленные, возвращались домой и понимали, должно быть, как им повезло, хотя отнюдь не радовались, что выжили. И они знали, что случилось с моим отцом, – потому и не смотрели в глаза.
Конвойные подталкивали нас и дальше, до застекленной террасы в самой глубине. Из высоких двустворчатых окон до полу открывался прекрасный вид на Неву и мрачные бесстрастные жилые дома на Выборгской стороне. За простым деревянным столом посреди этой веранды сидел пожилой человек. Плечом он держал возле уха телефонную трубку и что-то записывал карандашом в блокноте.
Мы остановились в дверях, а он на нас посмотрел. Похож на бывшего боксера – шея толстая, нос свернут набок и сплющен. Веки набрякшие, под глазами черные круги, а на лбу глубокие морщины. Седые волосы подстрижены очень коротким ежком. На вид ему было лет пятьдесят, но он запросто мог бы встать со стула и избить нас до смерти, даже не помяв мундира. В петлицах у него виднелось три шпалы. Я точно не знал, что они означают, но трех шпал во дворце больше ни у кого не было.
Человек отбросил блокнот на стол, и я увидел, что ничего он не записывал – просто рисовал крестики, снова и снова, и так изрисовал всю страницу. Меня это почему-то перепугало больше, чем его мундир или боксерская физиономия. Рисовал бы девушек или собачек – я бы понял. А тут – одни кресты.
Он смотрел на нас с Колей, и я знал – оценивает. Выносит приговор за наши преступления, приговаривает к смерти, а сам слушает голос в трубке.
– Ладно, – сказал он наконец. – Исполните к полудню. Без разговоров.
Повесил трубку и улыбнулся нам. Улыбка на его роже смотрелась так же нелепо, как и сам этот человек и его некрашеный деревянный стол на шикарной веранде старого роскошного дворца. У капитана госбезопасности – а я уже сообразил, что это, должно быть, тот самый, о ком ночью говорили солдаты, – была чудесная улыбка, зубы удивительно белые, и грубое лицо его все осветилось. Оно уже не грозило – оно приглашало.
– Дезертир и мародер! Ближе, ближе подходите, и наручники нам ни к чему. По-моему, ребятки буянить не станут. – Он махнул конвойным, те с неохотой достали ключ и сняли с нас оковы.
– Я не дезертир, – сказал Коля.
– Да? Свободны, – сказал капитан солдатам, на них даже не глянув. Те отдали честь и вышли.
Мы с капитаном остались одни. Он встал и подошел к нам. Кобура на поясе хлопала его по ноге. Коля стоял очень прямо, словно по стойке смирно перед офицером на смотру, и я, не зная, что делать, тоже выпрямился. Капитан подходил, пока едва не столкнулся с Колей нос к носу:
– Не дезертир, однако твоя часть сообщила, что ты пропал, а взяли тебя в сорока километрах от того места, где ты должен был находиться.
– Ну, объяснить это просто…
– А ты… – капитан повернулся ко мне, – на твою улицу опустился немецкий парашютист, а ты не сообщил органам. Решил сам поживиться за счет государства. Тоже можешь просто объяснить?
Мне хотелось воды. Во рту так пересохло, что он будто весь в чешуе был, как ящеричная кожа, а перед глазами уже скакали искорки.
– Ну?
– Извините.
– Извините? – Он пристально посмотрел на меня и рассмеялся: – Ну что ж, просишь прощения – тогда ладно, тогда все хорошо. Раз попросил прощения, это самое главное. Знаешь, парень, сколько народу я расстрелял? Не по моему приказу кто-то кого-то шлепнул, а я сам, вот из этого «ТТ»?.. – Он хлопнул по кобуре. – Угадай. Не вышло? Это правильно, потому что я сам не знаю. Сбился со счета. А я из тех, кто предпочитает все знать. Я за всем слежу. Я точно знаю, сколько баб выеб – достаточно, уж поверь мне. Вот ты симпатичный парнишка, – сказал он Коле, – но попомни мои слова, у тебя столько не будет, хоть до ста лет доживи. Что вряд ли.
Я глянул на Колю – сейчас сморозит какую-нибудь глупость, и нас обоих шлепнут. Но Коле в кои-то веки сказать было нечего.
– «Извините» – так учителю в школе говорят, когда мелок сломают, – продолжал капитан. – Извинения от мародеров и дезертиров не принимаются.
– Мы думали, у него еда найдется.
Капитан долго на меня смотрел.
– Нашлась?
– Коньяку чуть-чуть. Или бренди… а может, шнапс.
– Каждый день за подделку продовольственных карточек мы расстреливаем десяток человек. И знаешь, что они нам говорят перед расстрелом? Что они хотели есть. Само собой, они хотели есть! Все хотят есть. Но воров мы все равно будем расстреливать.
– Я ж не у наших крал…
– Ты крал государственную собственность. Что взял?
Я мялся, сколько мог.
– Ножик.
– Ага. Честный вор.
Я присел и отстегнул ножны от лодыжки. Отдал нож капитану. Тот осмотрел немецкую кожу.
– И у тебя это было с собой всю ночь? Никто не обыскивал? – Он выматерился на выдохе – видимо, устал от всеобщей бестолковости. – Чего тут удивляться, что мы проигрываем войну. – Он вытащил нож и присмотрелся к гравировке: – «Кровь и честь». Ха… Ебать их в жопу, блядиных сынов. Умеешь?
– Что?
– Ножом пользоваться. Резать сплеча, – он показал, вспоров сталью воздух, – лучше, чем колоть. Труднее защититься. Цель в горло, а если не получится – в глаза или живот. В бедро тоже неплохо: там артерии. – Наставление сопровождалось живой демонстрацией. – И не останавливайся, – сказал капитан. Танцуя, он подошел почти вплотную; сталь сверкала. – Не прекращай – пусть нож все время движется, противник тогда перейдет к обороне. – Он сунул нож обратно в ножны и кинул мне: – Оставь себе. Пригодится.
Я воззрился на Колю, а тот пожал плечами. Все так странно, что не поймешь, как мозги ни напрягай, все равно ничего не поймешь. Я опустился на колено и снова пристегнул ножны к лодыжке.
Капитан подошел к окну; за окном ветер нес вчерашний снег по замерзшей Неве.
– У тебя отец поэт был.
– Да, – подтвердил я, не сводя глаз с капитанского затылка. Никто из родных отца не поминал уже четыре года. То есть прямо вот так. Ни словом.
– Хорошо писал. То, что с ним произошло… неудачно.
Что тут скажешь? Я смотрел в пол и чувствовал, как Коля щурится, глядя на меня, – соображает, что это за бессчастный поэт меня породил.
– Вы сегодня еще не ели, – сказал капитан. Он не спрашивал. – Крепкий чай с хлебом – как вам? А может, и ухи раздобудем. Боря!
На веранду заглянул адъютант с карандашом, заткнутым за ухо.
– Накорми ребят завтраком.
Боря кивнул и так же быстро скрылся.
Уха.Ухи я с лета не ел. Такая же дикая экзотика, как, например, голая девчонка на острове в Тихом океане.
– Идите сюда, – сказал капитан. Он открыл створку окна и шагнул на мороз. Мы с Колей двинулись за ним по гравийной дорожке через замерзший сад, к берегу.
По Неве на коньках каталась девушка в лисьей убке. Обычной зимой на выходных по Неве катались сотни девушек, но теперь-то зима была необычная. Лед крепкий уже много недель как, но у кого хватало сил выписывать восьмерки? Стоя на замерзшем грязном берегу, мы с Колей глазели на девушку, будто на обезьянку, что катается по улице на одноколесном велосипеде. Девушка была чудовищно прекрасна: темные волосы разделены посередине пробором, а сзади собраны в свободный узел, упитанные щеки разрумянились от ветра. Я не сразу сообразил, что в ней странного, а через несколько секунд понял: даже издали было видно, что девушку хорошо кормят. Ее лицо не осунулось, в нем не было отчаяния. Двигалась она небрежно и легко, как физкультурница. Пируэты делала быстро и четко и не задыхалась. Ноги у нее, должно быть, превосходные – длинные, белые, сильные. И член у меня отвердел впервые за много дней.
– В следующую пятницу она выходит замуж, – сказал капитан. – За кусок мяса, я бы сказал, но это ничего. Он партийный, может себе позволить.
– Ваша дочь? – спросил Коля. Капитан усмехнулся, на битом лице сверкнули белые зубы.
– Что, не похожа? Да уж, тут ей повезло. Лицом она в мать, а в меня характером. Еще мир завоюет.
Только сейчас я понял, что зубы у капитана вставные – мост чуть ли не на всю верхнюю челюсть. Наверняка его пытали. Ну да. Загребли в одну из чисток, назвали троцкистом, белым прихвостнем или фашистом, повыдергивали зубы изо рта, а били так, что кровь из глаз, ссал и срал кровью, а потом из какого-нибудь кабинета в Москве пришел приказ: мы этого человека реабилитируем, выпускайте, он опять наш.
Я себе это представил, потому что часто думал о последние днях отца. Ему не повезло: еврей, поэт, к тому же относительно известный, когда-то дружил с Маяковским и Мандельштамом, смертельно враждовал с Обрановичем и прочими – считал их рупорами бюрократии, революционными рифмачами, а они его – агитатором и паразитом, поскольку он писал о ленинградском дне, хотя официально никакого дна у Ленинграда не было. Больше того, отцу хватило безрассудства назвать свою книгу «Питер» – так звали город все его жители, но из советских текстов это слово вымарывали, поскольку имя «Санкт-Петербург» было наследием царского ига.
Однажды осенью 1937 года отца забрали прямо из редакции литературного журнала, где он работал. И не вернули. Звонка из Москвы не поступило. Реабилитации отец не подлежал. Офицер контразведки обществу еще мог пригодиться, а поэт-декадент – нет. Может, отец умер в «Крестах» или где-нибудь в Сибири, а то и на этапе; этого мы так и не узнали. Если его похоронили, памятника никто не поставил. Если его сожгли, то без всякой урны.
Я долго злился на отца за то, что он писал так опасно. Ну глупо же! Что – книга важнее, чем жить рядом и отвешивать мне подзатыльники, если я ковыряюсь в носу? Но потом я решил, что он не нарочно оскорбил партию – не сознательно, как Мандельштам (тот, прямо как башибузук какой-то, взял и написал, что у Сталина пальцы жирные, как черви, а усища тараканьи). Отец просто не знал, что «Питер» – это опасно. Пока не напечатали официальные рецензии. Он-то думал, что напишет книжку, ее прочтут пятьсот человек – может, и прав был. Да только один из этих пятисот пошел и на него донес.
А вот капитан выжил, и я, глядя на него, думал: ему самому не странно, что он вырвался из акульей пасти, сумел-таки выплыть, что когда-то он ждал от кого-то пощады. А теперь сам решает, казнить или миловать? Хотя капитана такие соображения, похоже, не волновали: он смотрел, как дочь катается на коньках, а когда девушка сделала еще один пируэт, захлопал в ладоши. Костяшки у него были сбиты.
– Ну вот, свадьба в пятницу. Но даже сейчас, посреди всего этого… – капитан обвел рукой чуть ли не весь Ленинград, голод, войну, – ей хочется настоящую свадьбу, как у людей. Это хорошо, жизнь должна продолжаться, мы сражаемся с фашистскими варварами, но сами должны оставаться людьми, советскими людьми. Поэтому у нас будет музыка, танцы… Торт будет.
Он посмотрел на нас по очереди, как будто в слове «торт» была некая важность и он хотел, чтобы мы ее осознали.
– Традиция такая, говорит моя жена. Нужен торт. Если на свадьбе торта не будет – очень плохая примета. А я со всеми этими крестьянскими суевериями всю жизнь борюсь. Ими попы народу мозги запудривали, дурачили народ, но жена моя… ей подавай торт. Ладно, ладно, будет тебе торт. Она уже сколько месяцев сахар экономит, мед, муку – все копит.
Я представил себе: мешки сахара, бочки меда… Мука – должно быть, настоящая, а не плесень с разбомбленной баржи. На одном тесте к такому торту полдома Кирова могло бы жить две недели.
– У нее теперь все есть. Все, кроме яиц. – И вновь многозначительный взгляд. – Яйца, – продолжил капитан, – найти трудно.
Несколько секунд мы молчали и смотрели, как кружится на льду капитанская дочь.
– Может, на флоте? – произнес Коля.
– Нет. У них нету.
– Тушенка же есть. Я у одного моряка банку на колоду карт сменял…
– Нет у них яиц.
Я, наверное, не дурак, но сообразить, о чем говорит капитан, не мог долго. А еще дольше собирался с духом спросить напрямую:
– Так вам, что ли, яйца найти?
– Дюжину, – ответил капитан. – Ей надо десяток, но мало ли – одно разобьется, пара тухлых. – Он заметил наше смятение и просиял своей чудесной улыбкой. Обхватил нас за плечи, и я невольно выпрямился. – Мои люди говорят, что в Ленинграде нет яиц, да только я вот думаю, что в Ленинграде есть все – даже теперь. Мне просто нужны правильные ребята. Пара воров.








