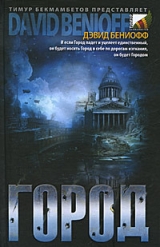
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
7
– Заходите, – сказала она. – Заходите же, вы совсем замерзли.
Сразу было видно, до блокады Колина подруга была очень красивой. Ее светлые волосы, теперь немытые, спускались на спину, губы еще не утратили полноты, а на левой щеке была ямочка полумесяцем – проступала, когда девушка улыбалась. На правой щеке ямочки не было, что странно. И я поймал себя на том, что дожидаюсь этих ее улыбок, только чтобы еще раз посмотреть на ямочку.
Коля расцеловал девушку в обе щеки, когда она открыла дверь, и девушка залилась румянцем. На секунду показалось, что она здорова.
– Говорили, ты умер!
– Пока нет, – ответил Коля. – Это мой друг Лев. Ни отчества, ни фамилии не сказал, но, может, тебе скажет. У меня такое чувство, что ты как раз в его вкусе. Лев – Софья Ивановна. Одна из моих первых побед и по-прежнему дорогой друг.
– Ха! Ненадолго же ты меня покорил, а? Как Наполеон Москву.
Коля усмехнулся мне. Он по-прежнему обнимал Софью Ивановну за талию и от себя не отпускал. На ней были мужская шинель и три-четыре свитера, но и под одеждой заметно было, как она исхудала.
– Классическое соблазнение. Познакомились на истории искусства. Я ей все объяснил про извращения мастеров живописи – от мальчиков Микеланджело до ног Малевича… А ты не знал? По утрам он делал наброски с ног своей домработницы, а по вечерам на них дрочил.
– Какое вранье. Эту историю больше никто во всем мире не знает, – сообщила мне девушка.
– Так она узнала про похотливых художников, ее растормошило, потом пара стопок водки – и с концом. Пришел, увидел, победил.
Софья Ивановна подалась ко мне поближе, коснулась рукава моей шинели и доверительным театральным шепотом произнесла:
– Ну, пришел-то он точно с концом. Этого у него не отнимешь.
Я не привык к тому, что женщины говорят о плотской любви. Знакомые мальчишки насчет нее не затыкались, хотя среди них, похоже, настоящих знатоков не было. А вот девчонки говорили только где-то между собой. «Интересно, – подумал я, – Гришка Веру уже завалил?» И тут вспомнил, что и Гришка, и Вера погибли и похоронены под надгробиями из битого цемента. Соня заметила, должно быть, каким жалким стало у меня лицо, и решила, что меня смутил их откровенный треп. Тепло улыбнулась мне – опять этот полумесяц ямочки.
– Не волнуйся, милый. Мы не такая уж и богема, как нам самим кажется. – Она повернулась к Коле: – А он приятный. Где ты его нашел?
– Он жил в Кирове. На Воинова.
– В Кирове? Это который вчера разбомбили? Ох, миленький…
Она обняла меня. Как будто обхватило руками огородное пугало – тела под одеждой не чувствовалось вообще, одни слои дымчатой шерсти. Но все равно мне стало хорошо – женская забота. Пускай из вежливости, все равно хорошо.
– Пойдем, – сказала она, беря меня за руку – варежкой за варежку. – Теперь твой дом здесь. Надо переночевать или пожить – живи. Завтра поможешь мне воды с Невы принести.
– Завтра у нас работа, – сказал Коля, но Соня не обратила внимания и ввела нас в гостиную. Вокруг буржуйки, в которой горели дрова, полукругом сидели шестеро. По виду – студенты. У парней – причудливые бачки и усы, у девушек – короткие волосы и цыганские серьги. На всех было по нескольку толстых одеял, все прихлебывали жидкий чай из кружек и глядели на нас, новоприбывших, без единого слова привета. Я понимал, чем они недовольны. Чужаки теперь в лучшем случае раздражали, в худшем – были опасны. Если и не хотели ничего дурного, есть они хотели всегда.
Соня всех познакомила – назвала сидевших по именам, – но никто не заговорил, пока Коля в знак дружбы не развернул свою «библиотечную карамельку» и не передал ее по кругу. Удовольствия ноль, но хоть какая-то еда, хоть что-то разгоняет кровь. Вскоре завязался разговор.
Сонины друзья оказались хирургами и медсестрами, а никакими не студентами. Они только вернулись с суточной смены – ампутировали руки и ноги, выколупывали пули из раздробленных костей, пытались залатать изувеченных бойцов. Без наркоза, без крови для переливания, без электричества. Им не хватало даже кипятка стерилизовать скальпели как положено.
– Лев жил в Кирове, – объяснила Соня, сочувственно показав на меня. – Тот дом на Воинова, в который вчера попало.
Кто-то пробормотал соболезнования, кто-то просто покивал.
– А ты там был, когда бомба прилетела?
Я покачал головой. Посмотрел на Колю – он что-то царапал огрызком карандаша у себя в дневнике, на нас внимания не обращал. Я перевел взгляд на врачей с медсестрами – те ждали ответа. Чужие люди. Зачем вываливать на них правду?
– Я у друзей был.
– Нескольким удалось выбраться, – сказал хирург, которого звали Тимофей. Похож на художника, в очках без оправы. – В госпитале рассказывали.
– Правда? Много спаслось?
– Не знаю. Я не прислушивался. Извини, просто… жилые дома каждую ночь бомбят.
Известие о выживших меня приободрило. Убежище в подвале было вроде крепкое – если жильцы успели, могли и выжить. Домашние Веры и близнецов хватали детей в охапку и всегда стремглав неслись в подвал, едва звучала сирена. А вот бандит Заводилов – напротив. Его я вообще в убежище не помню. Тревогу он обычно просыпал – так же он спал по утрам: на лбу холодная тряпка, рядом голая девушка. По крайней мере, так мне рисовалось. Нет, он бы в убежище не успел, хотя, с другой стороны, дома он часто и не ночевал. Занимался где-то своими таинственными делишками или пьянствовал с другими бандитами.
Соня налила нам с Колей по стакану «блокадного чая». Я снял варежки – впервые после завтрака у капитана. Горячий стакан у меня в ладонях был как живой – будто зверушка, у которой бьется сердце, есть душа. Пар окутывал мне лицо, я наслаждался им и не сразу сообразил, что Соня что-то у меня спросила.
– Что, простите?
– Я спрашиваю – у тебя родные там остались?
– А… нет – они еще в сентябре уехали.
– Это хорошо. Мои тоже. Младшие братья у меня в Москве.
– А сейчас и туда немец подошел к самым воротам, – сказал Павел. У него было личико хорька; он не сводил глаз с буржуйки, а больше никуда не смотрел. – И нас возьмут через неделю-другую.
– Да пускай берут, – отозвался Тимофей. – Мы им покажем Ростопчина – все сожжем, а сами уйдем. Где им тут жить будет? Что есть? Зима о них позаботится.
– «Ростопчина покажем»… фу. – Соня скривилась, будто чем-то гадко запахло. – Нашел героя, тоже мне.
– А он и есть герой. Историю-то не по Толстому учить надо.
– Да-да, граф Ростопчин, друг народа…
– Политику сюда не путай, а? Мы о военном деле говорим, а не о классовой борьбе.
– Не путай политику? А чего ее путать? Война тебе что – не политика?
Спор прервал Коля – заговорил, глядя себе в стакан, который держал обеими руками:
– Немцы Москву не возьмут.
– Кто сказал? – осведомился Павел.
– Я. В начале декабря фрицы были в тридцати километрах от города. А теперь – в ста. Вермахт раньше не отступал. Они не умеют. Они учились только наступать – так у них в учебниках написано. Атаковать, атаковать, только атаковать. А сейчас катятся назад и не остановятся, пока не опрокинутся на спину в Берлине.
Все долго молчали. Девушки смотрели на Колю, глаза на их изможденных лицах блестели. Все они были в него немного влюблены.
– Можно вопрос, товарищ? – Павел сделал ироническое ударение на слове «товарищ». – Если вы в армии такой важный человек и в курсе всех стратегических планов – почему ж вы тогда тут с нами сидите?
– Свои приказы я обсуждать не могу, – ровно ответил Коля. Его не смутило оскорбление.
Он отхлебнул кипяток, подержал во рту. Соня не сводила с него глаз, и он ей улыбнулся. Больше никто не сказал ни слова. Даже не шевельнулся, но что-то вокруг изменилось. Коля и Соня словно бы вышли на сцену, в лучи прожекторов, а мы все превратились в безмолвных зрителей. Оголится ли кто-нибудь перед нами? Прелюдия уже началась, хотя они сидели поодаль друг от друга, а сверху на них было по многу слоев теплой одежды. Я пожелал себе, чтобы когда-нибудь девушка так посмотрела и на меня, хоть и понимал, что случится это вряд ли. Узкоплечий, вообще весь тщедушный, взгляд осторожный и боязливый, как у грызуна, – никаких плотских чувств такие не вызывают. Хуже всего у меня был нос – этот ненавистный клюв, этот шнобель, мишень тысяч оскорблений. Быть евреем в России и без того скверно. Но если у тебя нос, как на антисемитской карикатуре, поневоле станешь себя презирать. Нет, я по большей части гордился тем, что я еврей, – я просто не хотел выглядеть евреем. Выглядеть мне хотелось арийцем – светловолосым, голубоглазым, широкоплечим и с волевым подбородком. Короче, мне хотелось походить на Колю.
А тот подмигнул Соне и допил чай. Вздохнул, глядя в пустой стакан:
– А знаете, я ведь девять дней не срал.
Ночевали мы все в гостиной – все, кроме Коли и Сони. Они встали, будто по незримому сигналу, и скрылись в спальне. Остальные расположились на полу, в одеялах. Сбились поплотнее друг к дружке для тепла, поэтому когда где-то среди ночи погас огонь в буржуйке, я не очень замерз. Мешал спать мне не холод, а приглушенные Сонины вскрики из другой комнаты. В них слышалось невозможное счастье, словно Коля уничтожал в ней все горе последнего полугода, отметал весь голод, холод, все бомбы и всех немцев. Соня – милая и добрая, но слушать, как ей хорошо, было выше моих сил. Мне самомухотелось бы унести симпатичную девушку подальше от блокады. А я вместо этого лежал на полу в чужой квартире рядом с незнакомым парнем, который подергивался во сне, и от него воняло вареной капустой.
Не думаю, что длилось у них долго – у кого найдется столько сил? Только мне казалось, что Сонины вскрики не стихали полночи. Коля разговаривал с ней – тихо, через тонкую стену не слышно, голос звучал размеренно, словно Коля читал ей передовицу. Что же он ей рассказывает, интересно? О чем вообще разговаривать с девушкой, когда с ней спишь? Мне это было очень важно. Может, он ей цитирует того автора, про которого мне столько пел. Может, рассказывает, как мы дрались с людоедом и его женой… Хотя это вряд ли. Я лежал в темноте и слушал их, а ветер тряс окна в рамах, да в буржуйке потрескивали последние угольки. Слушать, как люди любят друг друга, – нет ничего хуже на свете.
8
Наутро мы стояли возле дома в двух кварталах от Нарвской заставы и глядели на плакат, в гигантское лицо Иосифа Виссарионовича Сталина.
– Наверное, здесь, – сказал Коля, притопывая ногами, чтобы не замерзнуть окончательно. Сегодня было холоднее, чем вчера, хотя, казалось бы, куда уж холоднее. На бескрайнем бледно-голубом небе торчала лишь одна рыбья кость облачка. Мы подошли к парадному. Дверь, само собой, оказалась заперта. Коля постучал кулаком, но никто не открыл. Мы стояли как идиоты, хлопая руками, чтобы не замерзнуть, до носов закутавшись в шарфы.
– И что теперь?
– Кто-нибудь рано или поздно зайдет или выйдет. Да что с тобой такое сегодня? Ты чем-то недоволен.
– Со мной все хорошо, – ответил я, но даже сам услышал недовольство в собственном голосе. – Час мы сюда перлись, еще час простоим под дверью, а никакого старика с курятником не будет.
– Нет-нет, тебя что-то еще мучает. Про Киров думаешь?
– Ну конечно, я думаю про Киров, – рявкнул я, разозлившись, что он спросил, потому что я вовсе не думал ни про какой Киров.
– У нас в конце лета был старшина по фамилии Беляк. Вояка до мозга костей, мундир всю жизнь носил, с белыми воевал и все такое. И вот как-то вечером видит – парнишка один, Левин его звали, сидит, письмо из дому читает, а сам плачет. Дело было в окопах под Териоками – еще до того, как их финны опять заняли. Левин даже сказать ничего не мог, только сидел и ревел. Кого-то у него там немцы убили. Не помню кого – мать, отца, может, всю семью… не знаю. В общем, Беляк взял у Левина это письмо, очень аккуратно сложил и сунул ему в карман гимнастерки. А сам говорит: «Ладно, поревел – и хватит. Но чтоб я от тебя больше ни мява не слышал, пока Гитлер на суку не повиснет».
Коля уставился вдаль, задумавшись над словами старшины. Ему, видимо, казалось, что в них есть мудрость, а по мне – так одна искусственность. Таких доводов мой отец терпеть не мог – журналисты-партийцы сочиняли их для статеек «Герои Гражданской» в «Пионерской правде».
– И он перестал?
– Тогда – перестал. Только пару раз носом хлюпнул. А ночью опять за свое. Только дело не в этом.
– А в чем?
– Не время слезы лить. Нас хотят уничтожить фашисты. Тут слезами не поможешь – драться надо.
– А кто льет? Никто не льет.
Но Коля меня не слушал. У него что-то застряло в зубах, и он пытался выковырять ногтем.
– А через несколько дней Беляк наступил на мину. Противопехотные – они мерзкие. От человека такое остается…
Он умолк, не договорив, словно бы увидел перед собой останки своего командира, а мне стало стыдно от того, что я плохо подумал про старшину. Может, изъяснялся он казенно, однако хотел ведь помочь бойцу, отвлечь от трагедии дома, а это важнее того, какие слова подбираешь.
Коля опять постучал в дверь. Немного подождал, вздохнул, поглядел на одинокое облачко в небе:
– Хорошо бы годик-другой пожить в Аргентине. Я океана не видел. А ты?
– Не-а…
– Ты что-то хмур, о мой семит. В чем дело-то?
– Пошел ты к свиньям сношаться.
– Ага! Вот оно что! – Он чуть подтолкнул меня и отскочил, подняв руки к груди, как боксер перед спаррингом.
Я сел на ступеньку парадного. От малейшего движения у меня перед глазами танцевали искры. Проснувшись у Сони, мы только выпили чаю – еды не было, а остаток «библиотечной карамельки» я берег на потом. Я посмотрел на Колю – в глазах его читалось участие.
– О чем ты говорил вчера? – спросил я. – Когда… ну, в общем, когда ты с нею был?
Коля прищурился – вопрос его озадачил.
– С кем? С Соней? А что я говорил?
– Ты с ней все время разговаривал.
– Когда мы… любовь крутили?
Вышло неловко. Я кивнул. Коля нахмурился:
– А я разве что-то говорил?
– У тебя рот не закрывался!
– Да все как обычно, по-моему. – И вдруг его лицо осветилось улыбкой. Он подсел ко мне. – Ах, ну конечно же – ты никогда не бывал в этой стране и, вероятно, не знаешь обычаев. Хочешь понять, о чем нужно говорить.
– Я просто спросил.
– Да, но тебе же любопытно. А почему тебе любопытно? А потому, что ты волнуешься. Тебе хочется все сделать правильно, когда выпадет случай. Очень разумно. Нет, я серьезно! Ну хватит хмуриться. Разве так принимают комплименты? Ладно, слушай. Женщинам молчаливые любовники не нравятся. Они тебе отдают самое драгоценное, им приятно знать, что ты это ценишь. Кивни, если слушаешь.
– Слушаю.
– У каждой женщины есть любовник-мечта – и есть любовник-кошмар. Кошмар просто лежит на ней, навалившись всем пузом, сует в нее своим аппаратом – туда-сюда, пока не закончит. Зажмурился, ни слова не говорит; по сути, просто дрочит ей в вагину. А вот любовник-мечта…
Но тут мы услышали шорох полозьев по смерзшемуся снегу, повернулись и увидели двух девушек – они волокли за собой санки с ведрами речного льда. Направлялись они прямо к нам, и я встал, отряхнув шинель. Хорошо, что они прервали эту лекцию. Коля тоже поднялся:
– Дамы! Вам помочь?
Девушки переглянулись. Обе моих лет – сестры или родственницы, одинаковые широкие лица, пушок на верхней губе. Питерские, сразу видно, – чужим не доверяют, однако тащить вверх по лестнице четыре ведра льда…
– А вы к кому? – спросила одна с чопорной прямотой библиотекаря.
– Нам бы хотелось поговорить с одним господином о его курах, – ответил Коля, отчего-то предпочтя сказать правду. Я рассчитывал, что девушки в ответ засмеются, но они не засмеялись.
– Он вас пристрелит, если поднимитесь, – сказала вторая. – Он к этим курам никого и близко не подпускает.
Мы с Колей посмотрели друг на друга. Он облизнул губы и опять повернулся к девушкам. Улыбался он при этом весьма и весьма соблазнительно.
– Так давайте мы вам ведра донесем. А со стариком и сами разберемся.
К пятому этажу, весь вспотев под слоями одежды, едва держась на дрожащих от напряжения ногах, я начал жалеть, что мы на это пошли. В дом наверняка можно было проникнуть и как-нибудь попроще. На каждой площадке мы подолгу отдыхали. Я переводил дух, сжимал и разжимал кулаки и, сняв варежки, рассматривал глубокие рубцы на ладонях, оставшиеся от ведерных дужек. Коля выпытывал у девушек, что они читают и помнят ли наизусть начало «Евгения Онегина». Мне они показались вялыми, чуть ли не жвачными. В глазах – никакого озорства, в речи – никакой живинки. А Коле все было трын-трава. Он с ними болтал так, словно существ восхитительней не носила земля, – то одной заглядывал в глаза, то другой. И ни на миг не умолкал. К пятому этажу стало ясно, что обе девушки им увлеклись, и у меня возникло ощущение, что между ними даже зародилось некоторое соперничество.
Во мне опять всколыхнулась зависть – со мной обошлись несправедливо, – смешанная со злостью и презрением к себе: ну почему он им всем нравится? Трепач залетный! И почему я так на него злюсь? Мне ж эти девчонки до лампочки. Ни та, ни другая ни капельки не нравится. Ведь этот человек вчера спас мне жизнь, а сегодня я костерю его за то, что девчонки при нем начинают суетиться, к лицам у них приливает кровь, они пялятся в пол и крутят пуговицы у себя на пальто?
Только вот Соня мне понравилась. Соня – ямочка полумесяцем – пригласила меня к себе, жить пригласила, если понадобится. Хотя еще неделя без еды – и она умрет… Кожа на лице прозрачная, череп просвечивает. Может, мне она так понравилась потому, что мы с нею встретились всего через полчаса после того, как я увидел могильные руины Кирова. Может, потому, что, когда я смотрел на нее, я вообще перестал думать про соседей, заваленных бетонными блоками.
Все это промелькнуло у меня в голове, но не задержалось, не зацепилось никакими колючками, и я опять вспомнил капитанскую дочь, и самого капитана, и верзилу, что гнался за нами по лестнице с железной трубой, и тетку на Сенном, что продавала стаканами «бадаевскую землю». О Доме Кирова если и думал, то лишь о самом доме, о площадке, на которой играл в детстве, о длинных коридорах, по которым так здорово было бегать взапуски, о лестничных колодцах, где окна в толстых переплетах заросли такими слоями пыли, что хоть автопортрет пальцем рисуй, о дворе, куда с первым снегом обычно высыпала вся соседская ребятня биться на снежках – этажи с первого по третий против этажей с четвертого по шестой.
Мои друзья и соседи – Вера, Олежа, Гришка, Любовь Николаевна, Заводилов – уже казались нереальными, будто смерть стерла сами их жизни. Может, я всегда догадывался, что настанет день – и они исчезнут, а потому не подпускал их близко, смеялся, когда шутили, слушал, когда они делились планами, однако по-настоящему не верил, что они есть. Защищаться я выучился хорошо. Когда арестовали отца, я был совсем бестолочью. Я не понимал, как это человек – такой волевой, такой яркий – может вдруг перестать быть. По щелчку пальцев неведомого чинодрала, словно отец мой – клуб махорочного дыма, который выдувает заскучавший часовой на вышке где-нибудь в Сибири. Стоит себе и думает, не изменяет ли ему девчонка дома, оглядывает продутые ветрами леса и не сознает, что эта огромная синяя пасть небес над головой только и ждет, чтобы проглотить этот вьющийся дымок, а с ним вместе – и самого часового, и все, что на земле растет.
Коля уже прощался с девушками – опустил ведра на пол, зайдя в прихожую, и жестом велел мне сделать то же самое.
– Вы там осторожнее, – сказала та девушка, что, похоже, была посмелее. – Ему восемьдесят лет, но глаз меткий – не промахнется.
– Я на фронте фрицев бил, – подмигнув и улыбнувшись, заверил ее Коля. – Со вздорным стариком-то уж справлюсь.
– Если проголодаетесь на обратном пути – мы суп варим, – сказала вторая девушка. Бойкая быстро глянула на нее, и я вяло подумал: чего она злится? Что ее товарка парня приманивает или что разбазаривает еду?
Мы с Колей поднялись на последний пролет к двери на крышу.
– План такой, – сказал он. – Говорю я. Со стариками я хорошо лажу.
Я толкнул дверь, и на нас обрушился ветер – он хлестал нам по лицам льдом и пылью, городской сажей. Мы вжали головы и двинулись наперекор ему, как два бедуина в самум. Перед нами был мираж – только мираж это и мог быть: сараюшка, сбитая из досок и толя, щели заткнуты паклей и старыми газетами. Я до кончиков ногтей городской мальчишка – в деревне никогда не был, коров живых не видал, – но я сразу понял, что это курятник. Коля посмотрел на меня. У нас от ветра слезились глаза, но мы щерились друг другу, как полоумные.
С одной стороны у сарайчика была кривая дверь с откинутым крючком снаружи. Коля тихонько постучал. Никто не ответил.
– Эй? Не стреляйте! Ха-ха… Э-э… мы просто хотели в гости зайти. Эй? Ладно, я открою дверь, если думаете стрелять, предупредите сразу.
Коля шагнул вбок и показал мне, чтобы я тоже отошел в сторону. Носком сапога он пнул дверь. Мы ждали крика, выстрела – но ничего не прозвучало. Выждав, мы заглянули в курятник. Внутри было темно, с крюка на стене свисала тусклая коптилка. На полу – гнилая солома, вонявшая пометом. Вдоль стены выстроились пустые сетчатые ящики, как раз на курицу. В дальний угол курятника забился мальчишка – сидел под самой стенкой, подобрав колени к груди. На нем была дамская кроличья шубка. Нелепо, зато тепло.
А на соломе, привалившись спиной к ящикам, застыл покойник – руки-ноги вразлет, точно выброшенная кукла. Длинная седая борода – как у анархистов XIX века, – кожа цвета топленого воска. На коленях остался лежать древний дробовик. Судя по виду, старик умер много дней назад.
Мы с Колей долго рассматривали мрачную картину. Наткнулись на чужое горе. Нам было неловко. Ну по крайней мере – мне. Коле же такой стыд был, очевидно, неведом. Он вошел в курятник, присел перед мальчишкой, потрогал его за колено:
– Ну что, боец? Пить хочешь?
Мальчишка на него даже не глянул. Синие глаза на худющем лице казались огромными. Я отломил уголок «библиотечной карамельки», тоже вошел в курятник и протянул мальчику. Глаза медленно обратились на меня. Казалось, он заметил и меня, и еду у меня на ладони, но потом все равно отвернулся. Он уже был не в себе от голода.
– Это твой дедушка? – спросил Коля. – Его на улицу надо вынести. Нехорошо тут тебе с ним одному сидеть.
Губы мальчишки шевельнулись, но даже это далось ему с трудом. Они запеклись, будто их склеили.
– Он от птиц уходить не хочет.
Коля глянул на пустые клетки:
– Мне кажется, уже можно. Пойдем, внизу есть приятные девушки, они тебя супом накормят, воды дадут.
– Я не хочу есть, – ответил мальчишка, и я понял, что дни его сочтены.
– Все равно пошли, – сказал я. – А то холодно. Мы тебе теплого дадим, воды.
– Мне за птицами надо смотреть.
– Нету здесь уже никаких птиц, – сказал Коля.
– Еще есть.
Я сомневался, что мальчишка протянет до завтра, но не хотелось, чтобы он умер здесь, в одиночестве, по соседству с бородатым трупом и пустыми клетками. Мертвые в Питере были повсюду: их складывали огромными кучами за городским моргом, сжигали на кирпичном заводе, сваливали в траншеи у Пискаревского кладбища, разбрасывали по льду Невы – будет чем поживиться чайкам, если они еще остались, эти чайки. Но здесь умирать – как-то совсем уж одиноко.
– Смотри, – сказал Коля и потряс одну клетку. – Никого нет дома. Ты хорошо сторожил, ты птичек защищал, а теперь они улетели. Пойдем с нами.
Он протянул руку в перчатке, но мальчишка не двинулся с места:
– Дед Руслан бы тебя застрелил.
– Дед Руслан? – Коля глянул на труп старика. – Злой он был дед, а? Сразу видно. Хорошо, что ты мирный.
– Он говорил, у нас в доме все на птичек наших зарятся.
– И правильно говорил.
– Говорил, придут сюда и глотки нам перережут. Им только волю дай, говорил. Курей украдут, суп из них сварят. Поэтому кто-то все время должен быть на часах, ружье из рук не выпускать.
Мальчишка говорил безжизненно, на нас не глядел, невидящие глаза его подернулись пеленой. Видно было, как он дрожал. А когда говорил, у него клацали зубы. По щекам и шее у него расплылись пятна светло-бурого пуха – словно само тело отчаянно пыталось спастись от холода.
– Говорил, на них мы всю блокаду продержимся. Пара яиц в день да карточки – нам хватит. А мы их согреть не могли.
– Да хватит уже про этих клятых кур. Пошли, давай мне руку.
Мальчишка по-прежнему не обращал внимания на Колю, и тот в конце концов поманил меня, чтобы я помог. Но я кое-что заметил – движение там, где никакого движения не полагалось: под шубкой у мальчишки что-то шевельнулось, словно его гигантское сердце забилось так громко, что стало видно.
– Что у тебя? – спросил я.
Мальчишка погладил себя по шубке спереди, словно успокаивая то, что было под ней. Впервые он посмотрел мне в глаза. Хоть он и был слаб, хоть до финиша ему оставались считаные миллиметры, я видел в нем крепость – упрямство, доставшееся по наследству от старика.
– Дед Руслан бы тебя застрелил.
– Да, да, ты уже сказал. Ты одну курицу спас, что ли? Это последняя. – Коля посмотрел на меня. – Сколько яиц курица в день откладывает?
– А я знаю?
– Слушай, малец, я тебе за эту курицу триста рулей дам.
– Нам тыщу предлагали. Дед всегда отказывался. Куры нам всю зиму продержаться помогут – так говорил. А с рублями что делать?
– Еды себе купишь. Курица помрет, как все остальные, если ее тут держать.
Мальчишка покачал головой. Разговоры его утомили, глаза уже закрывались.
– Ладно, а если так? Дай-ка мне. – Коля выхватил у меня из руки «библиотечную карамельку», добавил к ней последний ломтик своей колбасы и триста рублей. Все это положил мальчишке на колени. – У нас больше ничего нет. Теперь послушай меня. Если не будешь шевелиться, ты сегодня здесь умрешь. Тебе нужно поесть и слезть с этой крыши. Мы отведем тебя к девушкам на пятом этаже…
– Они мне не нравятся.
– Тебе ж не жениться на них. Мы им отдадим эти деньги, а они тебя накормят супом. Поживешь у них несколько дней – силы вернутся.
А сил у мальчишки хватило лишь слабо качнуть головой, но смысл был ясен. Он никуда не пойдет.
– Ты здесь птичку защищать останешься? А чем ты ее кормить будешь?
– Я с дедом Русланом буду.
– Пусть уж мертвые тут сами разбираются, а ты пойдешь с нами.
Мальчишка принялся расстегивать шубку. Бурую птицу он прижимал к груди, как новорожденного. Такого убогого зрелища я не видел давно – курица была грязная, оцепенелая. Здоровый воробей в уличной драке заклевал бы ее как пить дать.
Он протянул птицу Коле, а тот воззрился на нас обоих, не очень понимая, что сказать, что сделать.
– Бери, – произнес мальчишка.
Коля еще раз глянул на меня, потом – на него. Не помню, чтобы раньше он так терялся.
– Не живут они у меня, – сказал мальчишка. – В октябре у нас было шестнадцать. А сейчас только эта осталась.
Нам эта курица нужна была как воздух – но мальчишка отдавал ее за так, здесь что-то не то.
– Забирай, – повторил он. – Я от них устал.
Коля принял птицу из его рук, но не разглядывал, вообще к лицу подносить не стал – опасался, что глаза ему выцарапает. Однако никакого буйства в курице уже не было. Она сидела у Коли на руках вяло, дрожа от холода и тупо глядя в никуда.
– Держи в тепле, – сказал мальчишка.
Коля расстегнул шинель и сунул птицу за пазуху – в слоях теплой одежды еще оставалось место дышать.
– Теперь уходите, – сказал мальчишка.
– Пойдем с нами. – Я сделал последнюю попытку, хоть и знал, что все бесполезно. – Тебе сейчас не надо одному.
– Я не один. Идите.
Я посмотрел на Колю, и он кивнул. Мы двинулись к покосившейся двери. Выходя, я обернулся и бросил последний взгляд на мальчишку. Он сидел безмолвно, закутавшись в свою дамскую шубку.
– Тебя как зовут?
– Вадик.
– Спасибо, Вадик.
Мальчишка кивнул – глаза слишком синие, слишком огромные на этом бледном отощалом лице. Мы оставили его в курятнике с мертвым стариком и пустыми клетками. В коптилке догорал фитилек. На коленях, укрытых кроличьим мехом, лежали триста рублей и еда, которой уже не наешься.








