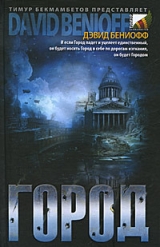
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Бородач ждал нас на краю рынка, руки по-прежнему сложены на груди. Пока мы подходили, он оценивал Колю взглядом – словно боксер противника на ринге.
– Всего двое?
– А сколько надо? – парировал Коля, улыбнувшись. – Я слышал, вы яйца продаете.
– Я все продаю. Что дадите?
– Деньги есть, – ответил я, отчетливо припомнив, что мы с ним это уже обсуждали.
– Сколько?
– Хватит, – сказал Коля. – Нам дюжина нужна.
Бородач присвистнул:
– Вам везет. У меня как раз столько.
– Вот видишь? – Коля стиснул мое плечо. – Не так уж трудно.
– Пошли, – сказал здоровяк и двинулся через дорогу.
– Мы куда это? – спросил я, приноравливаясь к его шагу.
– Я все внутри держу. Снаружи опасно. Что ни день, солдаты приходят, отбирают товар подчистую. А кто вякнет – пулю в лоб.
– Ну солдаты же город защищают, – сказал Коля. – Война войной, а обед по расписанию.
Великан оглядел Колину пехотную шинель, сапоги:
– А ты чего ж не защищаешь?
– Я на задании. Капитан дал. Не твое дело, в общем.
– Этот капитан тебя с пацаном за яйцами, что ли, послал? – Верзила ухмыльнулся. Зубы сверкнули в черной бороде чистыми игральными костями. Он, разумеется, не поверил Коле. Да и кто бы поверил?
Мы шли вдоль перемерзшей Фонтанки. На льду валялись брошенные трупы, некоторые – под дерюгой, придавленной камнями, с каких-то уже сняли все теплое. Их белые лица уставились в темневшие небеса. Просыпался вечерний ветер – одной мертвой женщине он намел на лицо длинные светлые волосы. А ведь она ими когда-то гордилась, мыла их дважды в неделю, перед сном по двадцать минут расчесывала. И вот теперь они пытались защитить ее, мертвую, от посторонних взглядов.
Великан привел нас к кирпичному пятиэтажному дому – все окна забиты фанерой. На гигантском – в два этажа – плакате молодая мать несла мертвого ребенка из горящего дома. «СМЕРТЬ ДЕТОУБИЙЦАМ!» – кричали буквы. Порывшись в кармане, бородатый извлек ключ и отпер парадное. Придержал перед нами дверь. Я схватил Колю за рукав.
– А чего сюда яйца не вынести? – спросил я великана.
– Я умею дела делать, потому и жив еще. И на улице дел не веду.
У меня сжалась мошонка – робкие мои яички стремились заползти поглубже в тело. Но я родился и вырос в Питере, я был отнюдь не дурак и постарался, чтобы голос меня не выдал:
– А я не веду дел в чужих квартирах.
– Господа, господа. – Коля широко улыбнулся. – К чему нам эти подозренья? Дюжина яиц. Говори свою цену.
– Тыща.
– Тысяча рублей? За дюжину яиц? – Я рассмеялся. – Не иначе Фаберже?
Чернобородый гигант, не отпуская дверь, глянул на меня так, что я сразу умолк.
– На рынке за стоху грязь стаканами продают, – сказал он. – Что лучше, яйцо или стакан грязи?
– Послушай, – произнес Коля. – Ты здесь весь день можешь стоять и торговаться с моим маленьким еврейским другом – или же мы уладим все, как честные люди. У нас есть триста. Больше нет. Договорились?
Верзила не спускал с меня глаз. Я ему с самого начала не понравился; а теперь он знал, что я еврей, и просто свежевал меня глазами. А Коле протянул лапищу: мол, деньги давай.
– О нет, сейчас я вынужден встать на сторону своего компаньона, – покачал головой Коля. – Сначала яйца, потом деньги.
– Я их сюда не потащу. Все жрать хотят, у всех оружие.
– Ты же здоровый такой, чего тебе бояться? – подначил его Коля.
Великан оглядел Колю с неким, я бы сказал, любопытством, будто ушам своим не поверил. И, видимо, плюнув на оскорбление, улыбнулся, опять сверкнув игральными зубами.
– Вон мужик лежит мордой вниз. – Он мотнул головой в сторону Фонтанки. – Не от голода подох и не от мороза. Ему череп кирпичом проломили. Спросишь, откуда я знаю?
– Я и так понял, – покорно ответил Коля и вгляделся во тьму парадного. – Как ни верти, а кирпичом быстрее.
Похлопал меня по спине и шагнул внутрь. Во мне все орало: беги. Здоровяк вел нас прямо в капкан. Он сам, считай, признался, что убийца. Коля глупо выложил, сколько у нас с собой денег. Их немного, но еще карточки – мужик ведь наверняка считает, что они у нас есть. За это в наши дни можно легко убить.
А выбор есть? Переться к Нарвской заставе искать старика с его курятником? Заходя в этот дом, мы рисковали жизнью, но если не найдем капитану яйца, мы все равно покойники.
Я двинулся следом за Колей. За нами закрылась дверь парадного. Внутри было темно и мрачно, света нет, только сквозь щели в фанере на окнах сочились остатки дня. Великан шел за мной, и я припал на одно колено – вытащить немецкий нож. Мужик обогнул меня и зашагал через две ступеньки по лестнице. Мы с Колей переглянулись. Черная Борода скрылся, а я вытащил нож и сунул в карман шинели. Коля поднял брови – может, восхитился моей предусмотрительностью, а может, в насмешку. Мы тоже двинулись по лестнице – ступенек не пропускали, но все равно ко второму этажу задыхались.
– Откуда яйца? – окликнул Коля великана, который уже опередил нас на один пролет. Казалось, восхождение верзиле нипочем. Людей в такой хорошей форме, как они с капитанской дочкой, я не видел в Питере уже много месяцев. Интересно, опять подумал я, где он силы берет?
– Крестьянин знакомый есть, у него хозяйство под Мгой.
– Я думал, Мга под немцами.
– Ну да. Немцы ж тоже яйки любят. Каждый день приходят и забирают, только он чуток прячет. Немного, иначе заподозрят.
Здоровяк остановился на четвертом этаже и постучал в дверь.
– Кто?
– Я, – ответил он. – И пара клиентов.
Проскрежетал засов, дверь открылась. На нас с Колей, моргая, воззрилась женщина в мужской ушанке и окровавленном мясницком фартуке. Вытерла варежкой нос.
– Я вот чего уточнить хотел, – сказал Коля. – Вы яйца-то не морозите? Потому что мерзлые, я боюсь, нам ни к чему.
Женщина уставилась на Колю так, будто он заговорил по-японски.
– У самовара держим, – ответил здоровяк. – Проходите, давайте уж дело закончим.
Он повел рукой в квартиру. Безмолвная женщина отступила, давая нам пройти, и Коля шагнул вперед, беззаботнее некуда, оглядываясь с такой улыбкой, словно это новая девушка его домой к себе пригласила. Я задержался у входа, но великан положил мне лапу на плечо. Не подтолкнул, нет, но лапа у него была такая, что я не устоял на месте.
Квартира освещалась коптилками, и четыре наши долгие тени ползли по стенам, по ветхим половикам, по латунному самовару в углу и по белой простыне, что отгораживала дальний угол. За ней, предположил я, спали. Когда верзила закрыл дверь, простыня всколыхнулась, как женские юбки на ветру. И не успела опуститься, как я заметил, что было за ней – не кровать, вообще не мебель. С трубы парового отопления свисали тяжелые цепи, на цепях были крюки, а на крюках – куски белого мяса. На полу была расстелена клеенка – собирать то, что капает. Может, с полсекунды я думал, что это свиные туши – видимо, рассудок отказывался признать то, что увидели мои глаза. Освежеванное бедро, которое могло быть только женским… грудная клетка ребенка… рука без одного пальца – безымянного…
Нож оказался у меня в кулаке, не успел я сообразить, что надо вооружиться. У меня за спиной кто-то дернулся, я развернулся и полоснул, вскрикнув – но не слово, а что-то. В горле сжалось. Великан выхватил из-под пальто обрезок железной трубы, где-то с полметра, и отпрыгнул, как танцор. Гораздо быстрее, чем полагается человеку таких габаритов. От германской стали он увернулся.
Жена его извлекла из кармана фартука мясницкий тесак – тоже быстро. Но проворнее всех оказался Коля – крутнулся на пятке и двинул ей в челюсть справа. Женщина рухнула.
– Беги! – крикнул Коля.
Я побежал. Думал, дверь успели запереть, но нет. Думал, на голову мне обрушится труба, но не обрушилась. Я уже был на площадке: летел по лестнице вниз – перепрыгнул чуть ли не целый пролет. Сверху донесся вопль бессловесной ярости, по половицам загрохотали гигантские подкованные сапоги. Я остановился, держась за перила. Не мог отдышаться, не хотел бежать дальше, не мог вернуться по темной лестнице в логово к людоедам. Раздался ужасный стук – сталь ударила в фанеру. Или в череп.
Я предал Колю – бросил его, безоружного, хотя у самого отличный нож. Я пытался пошевелить ногами, чтоб они вернули меня в бой, но меня трясло так, что нож в руке дрожал. Опять крики, опять грохот железной трубы. Обо что? С потолка посыпались хлопья штукатурки. Я весь сжался – Колю наверняка убили, а мне от великана не убежать, и его жена разделает меня парой взмахов своего тесака, она опытная. И мои куски вскоре повиснут на тяжелых цепях, и вся кровь стечет на клеенку.
Крики не смолкали, стены подрагивали – Коля еще не умер. Я стиснул нож обеими руками и поставил ногу на первую ступеньку. Можно тихонько пробраться в квартиру, пока людоед занят другим, и воткнуть нож ему в спину – только клинок теперь казался мне тоненьким и хрупким. Не такой мелочью великанов убивают. Ну уколю я его, ну кровь пойдет – а он развернется, цапнет меня за лицо и выдавит глаза.
Я сделал еще один шаг – и тут из квартиры вылетел Коля, сапоги пошли юзом по плитке, и он чуть не промахнулся мимо лестницы. Но вписался в поворот и просто кинулся вниз, успев схватить меня за шиворот и дернуть за собой:
– Беги, дурень! Чего ждешь?
Мы побежали – и всякий раз, когда я оскальзывался на ступеньке или спотыкался и чуть не падал, Колина рука удерживала меня. Где-то выше орали, чудовищная туша громыхала по лестнице следом, но я не оглядывался. Быстрее бегать мне еще не приходилось. И посреди всего этого ужаса, в криках, в грохоте сапог, я слышал что-то еще. Странное. Коля смеялся.
Мы выскочили из парадного на темную улицу. Ночное небо уже расчерчивали бродячие лучи прожекторов. На панели – ни души; нам никто не поможет. Мы выскочили на середину улицы, промчались три квартала, то и дело озираясь, не бежит ли за нами верзила, но так его и не увидели. И ни разу не сбавили ход. Наконец где-то на перекрестке показался военный грузовик, мы выбежали на дорогу перед ним и замахали руками. Водитель дал по тормозам, на льду завизжали колеса.
– Куда прешь, говно сиротское? – заорал он.
– Товарищи офицеры, – сказал Коля, миролюбиво подняв руки. Говорил он спокойно, с этим своим неизменным чудовищным самообладанием. – Вон в том доме – людоеды. Мы еле от них сбежали.
– Здеся во всех домах людоеды, – отозвался шофер. – Добро пожаловать в город Ленина. Вали с дороги.
– Минуточку, – раздался из кабины голос. Вышел офицер. Он больше походил на преподавателя математики, чем на военного: аккуратно подстриженные седые усы, хрупкая шейка. Оглядел Колину форму, посмотрел ему в глаза.
– Почему не в части? – спросил он.
Коля вынул из кармана записку капитана и протянул офицеру. У того изменилось лицо. Он кивнул Коле и жестом велел нам забираться в машину:
– Показывайте.
Через пять минут мы с Колей опять вошли в людоедскую квартиру – на сей раз в сопровождении четверых солдат с «Токаревыми». Они обводили стволами углы, но даже с вооруженным эскортом страх меня едва не утопил. Опять детские ребрышки на крюке, опять ляжка с содранной кожей, рука без пальца – мне хотелось зажмуриться и больше не открывать глаза никогда. Бойцы, хоть и привычные выносить с поля боя изувеченные трупы павших товарищей, и те отвернулись от цепей.
Великан и его жена исчезли. Всё оставили – коптилки еще горели, в самоваре не остыл чай, – а сами сбежали куда-то в ночь. Осмотрев квартиру, офицер покачал головой. В стенах голодными распахнутыми ртами зияли дыры – туда попадало железной трубой.
– Внесем в список, отменим паек, конечно, только вряд ли поймаем. Разве что по чистой случайности. Милиции, считайте, нету.
– Где ж ему прятаться? – спросил Коля. – Таких здоровенных лбов в Питере больше нет.
– Тогда лучше будьте начеку, – отозвался один солдат, возя пальцем по рваному краю дыры в стене.
6
– Ну ты ее и завалил, – сказал я Коле, пока мы плелись мимо часовой башни Витебского вокзала – самого роскошного в Ленинграде. Даже сейчас роскошного, хотя поезда не ходили почти четыре месяца, а витражи забили фанерой.
– Крепко вышло, а? Ни разу до этого женщину не бил. Но вышло вроде уместно.
Мы с ним будто условились так разговаривать – легко и беззаботно, два молодых человека просто обсуждают бокс. Только так ведь и можно. Нельзя впитать слишком много правды, нельзя признать ртом то, что видели глаза. Приоткроешь дверь хоть на сантиметр – учуешь гниль, услышишь крики. Поэтому дверь и не открывалась. Умом лепишься к задачам на день – как найти еду, воду и хоть какое-нибудь топливо, – а все остальное будет после войны.
Комендантский час еще не объявили, но он вот-вот начнется. Заночевать мы решили в Доме Кирова: я знал, что щепок на приличный огонь мне хватит, а в чайнике еще была вода из реки. Идти не очень долго, но паника моя рассосалась, и я себя ощущал дряхлым стариком. От бега ныли ноги. Завтрак у капитана был чудесен, но от него растянулся желудок, и муки голода уже давали о себе знать. Только сейчас к ним примешивалась тошнота – из головы никак не шли детские ребра. Я погрыз мерзлую «библиотечную карамельку», но на вкус она была как высохшая кожа, и проглотил я ее с усилием.
Коля хромал рядом – ноги не держали и его. Однако в лунном свете он выглядел беззаботно, как всегда, – тягостные мысли, похоже, его не мучили. Может, на душе ему было спокойнее от того, что он повел себя храбро и решительно, а я… я трясся на темной лестнице и ждал, когда же меня спасут.
– Слушай, мне… я хочу сказать – извини. Я убежал, прости меня, пожалуйста. Ты спас мне жизнь.
– Я же сам тебе сказал: беги.
– Да, но… Надо же было вернуться. Нож-то был у меня.
– Был, это правда, – рассмеялся Коля. – А толку-то? Посмотрел бы на себя со стороны, когда им размахивал. Давид и Голиаф, ха… Да он бы живьем тебя слопал.
– Я бросил тебя одного. Думал, тебя убили.
– Ну, они тоже так думали. Но я ж говорю, у меня быстрые кулаки.
И он пару раз ударил воздух перед собой, крякая, как настоящий боксер: х-ха! х-ха!
– Я не трус. Нет, я знаю, похоже, что там я струсил, но я не трус.
– Послушай меня, Лев, – произнес он, приобнимая меня за плечи так, чтобы я приноровился к его широкому шагу. – Ты не хотел заходить в эту квартиpy. Это я, как деревенский дурачок, настоял. Поэтому нечего извиняться. Больше того, я тебя трусом нe считаю. Оттуда сбежал бы любой, у кого хоть чайная ложка соображения есть.
– Ты же не сбежал.
– Quod erat demonstrandum [4]4
Что и требовалось доказать (лат.).
[Закрыть], – ответил он, явно гордясь своей латынью.
Мне полегчало. Коля действительно велел мне бежать. Да верзила пробил бы мне в черепе дыру. Ему это – как ребенку пальцем вишневый пирожок проткнуть. Может, я и не сгеройствовал, но ведь и родину не предал.
– А заехал ты ей здорово.
– Не скоро она опять детишек жевать сможет.
И Коля сам ухмыльнулся своей шуточке, только ухмылка продержалась недолго. У нас обоих перед глазами светились куски бледного мяса, клеенка, вся мокрая от крови… Мы жили в городе, где по улицам бродят ведьмы, Баба-яга с Кощеем Бессмертным – они хватают маленьких детей и кромсают их на куски.
Завыла сирена – долгий одинокий вой. Вскоре его подхватили все сирены в городе.
– А вот и фрицы, – сказал Коля, и мы прибавили шаг, заставляя усталые тела шевелиться. На юге начали рваться снаряды – дальний грохот литавр: это немцы принялись за свой вечерний обстрел огромного Кировского завода, где строили половину советских танков, самолетных двигателей и тяжелых орудий. Большинство рабочих ушли на фронт, и к токарным и сверлильным станкам встали женщины. Завод не сбавлял оборотов, в печах не гас огонь, красные кирпичные трубы дымили. Производство ни на день не прекращалось, хотя на крыши цехов падали бомбы, а мертвых девушек уносили от конвейера, и окоченевшие руки их не выпускали инструментов.
Мы спешили мимо красивых старых зданий Литовского проспекта – белые каменные фасады, с фронтонов щерились головы сатиров с бараньими рогами, высеченные еще при императорах. В каждом доме здесь было свое бомбоубежище в подвале. Жильцы набивались туда десятками, поближе к единственной коптилке, ждали отбоя воздушной тревоги. Снаряды рвались близко – мы уже слышали их вой на подлете. И ветер дул сильнее – ныл в оконных проемах брошенных квартир. Словно господь бог сговорился с немцами сдуть наш город с лица земли.
– На фронте, – рассказывал на ходу Коля, – учишься точно определять, куда снаряд упадет. – Он сунул руки в карманы шинели: шли мы против ветра, который лишь миг назад дул нам в спину. – Слышишь эту дуру и знаешь – упадет в ста метрах слева. А этот – в реку.
– А я сразу «юнкерс» от «хайнкеля» отличу.
– Да уж надеюсь. «Юнкерс» ревет как лев, а «хайнкель» зудит комаром.
– Ну тогда «хайнкель» от «дорнье». Я пожарной бригадой командовал у нас в…
Коля поднял руку, чтоб я замолчал. Остановился. Я тоже.
– Слышишь?
Я прислушался. Кроме зимнего ветра – ничего: он, казалось, дул со всех сторон сразу, набирал силу над Финским заливом и стонал во всех переулках. Я решил, что Коля услышал вой подлетающего снаряда, и посмотрел в небо, словно можно было разглядеть несшуюся к нам смерть, словно я бы успел увернуться. Вдруг ветер стих – всхлипы его успокоились, как истерика у ребенка. Снаряды рвались к югу, судя по гулу – в нескольких километрах от нас, но все равно так близко, что мостовая сотрясалась под ногами. Однако слушал Коля не ветер и не грохот разрывов. В старом доме кто-то играл на пианино. Света в окнах не было, не горели ни лампы, ни свечи. Жильцы, должно быть, спустились в убежище – если не ослабли от голода, если им было уже не все равно, – и в доме остался только этот неведомый пианист. Играл во тьме, бесстыдно и точно, словно выставляя напоказ свои громоподобные форте фортиссимо, которые сменялись хрупкими пианиссимо. Он будто спорил сам с собой, свирепый муж и робкая жена в одном лице.
Все мое детство прошло под музыку – и по радио, и в концертных залах. Родители были страстными поклонниками; таланта играть у нас в семье не водилось, но слушать мы умели – и гордились этим. Я на слух различал все двадцать семь этюдов Шопена по нескольким первым тактам; знал всего Малера – от «Lieder eines fahrenden Gesellen» [5]5
«Песни странствующего подмастерья» (нем.).
[Закрыть]до незаконченной Десятой. Но того, что мы с Колей услышали в тот вечер, я ни разу не слышал – ни раньше, ни потом. Мелодия глушилась стенами и расстоянием, мешал ветер – но в этой музыке чувствовалась мощь. То была музыка войны.
Мы стояли под давно обесточенным уличным фонарем, опутанным паутиной инея. На юге грохотали огромные пушки, луна таилась за муслиновыми облаками – а мы слушали. Слушали все до последней ноты. А когда музыка стихла, что-то вдруг стало не так: слишком хорошо играл, слишком умело – и никаких аплодисментов. Мы постояли еще немного в тишине, глядя в черные окна. И наконец, выждав почтительную паузу, двинулись дальше по проспекту.
– Повезло, что рояль ему на дрова не порубили, – сказал Коля.
– Да кто бы он ни был, такому музыканту нельзя без инструмента. Может, это сам Шостакович. Может, он здесь и живет где-нибудь.
Коля презрительно глянул на меня и сплюнул на панель:
– Шостаковича три месяца назад эвакуировали.
– Неправда. Он во всех газетах на снимках в пожарной каске.
– Ну еще бы – герой. Только он в Куйбышеве, насвистывает себе мелодии, которые у Малера спер.
– Ничего он не пер у Малера.
– Я думал, ты за Малера горой. – Коля искоса глянул на меня, иронично скривив губу. Я уже привык к этой его манере – сейчас скажет колкость. – Разве еврей тебе не ближе поляка?
– Они же не воюют. Малер писал великую музыку. И Шостакович пишет великую музыку…
– Великую? Ха… Он бездарь и вор.
– А ты болван. И ничего не смыслишь в музыке.
– Зато я слышал, как в сентябре Шостакович по радио выступал. И рассказывал, что наш великий патриотический долг – драться с фашизмом. А через три недели он уже в Куйбышеве, кашку кушает.
– Он же не виноват. Они ж не хотели, чтобы он погиб, вот и заставили. Сам подумай, как было бы скверно для боевого…
– Ой, ну еще бы, какая трагедия. – В голосе Коли зазвучали профессорские нотки, которые он приберегал для самого ядовитого сарказма. – Великие не должны умирать. Дайте мне власть – я все бы сделал наоборот. Самых известных – на передовую. Шостакович пулю в голову получил? Зато какая в народе ярость всколыхнется! По всему миру! «Фашисты убили прославленного композитора». И Ахматова по радио выступала, помнишь? Все ленинградки должны быть мужественны, надо учиться стрелять… Ну и где она сейчас? В немцев палит? Да нет, что-то не верится. На Кировском гильзы точит? Куда там, в Ташкенте она, стишки про себя, любимую, кропает, которыми и прославилась.
– У меня мать с сестрой тоже уехали. Что ж они теперь, предатели?
– Твои мать с сестрой по радио не выступали, не рассказывали, какими мужественными нам всем надо быть. Слушай, я не рассчитываю, что все поэты и композиторы будут смельчаками. Я лицемеров не люблю.
Он потер перчаткой нос и посмотрел на юг, где небо освещали всполохи взрывов.
– Ну где уже этот твой чертов дом?
Мы только что свернули на Воинова, и я показал. Но не Дом Кирова, а пустоту. Однако сразу опустить руку мне в голову не пришло. Там, где раньше стоял Киров, высилась только груда битого камня, крутая гора цементных разломанных блоков, осыпи щебня и кладки, торчали гнутые прутья арматуры да под луной посверкивало битое стекло.
Будь я один, глядел бы на эти руины часами – и не понимал. В Доме Кирова прошла вся моя жизнь. В нем были Вера, Олежа и Гришка. Любовь Николаевна, старая дева с четвертого этажа, – она гадала по руке и штопала всем платья. Однажды летним вечером увидела, что я на лестнице читаю Герберта Уэллса и на следующий день подарила мне целую коробку книг: Стивенсон, Киплинг, Диккенс. Дворник Антон Данилович – он жил в подвале и орал на нас, когда мы во дворе кидались камнями или плевали с крыши, лепили неприличных снеговиков и снеговиц – морковки вместо писек, стерки вместо сосков. Заводилов… говорили, что он бандит, на левой руке у него не хватало двух пальцев, и он вечно свистел проходившим девушкам, пускай и дурнушкам. Дурнушкам он свистел даже громче, чтоб не унывали, наверно… У Заводилова пьянки-гулянки длились до зари, всегда играли самые новые джазовые пластинки – Варламов с его «Семеркой», Эдди Рознер… В коридор с хохотом вываливались танцующие мужчины и женщины в расстегнутых блузках, старики на него злились, а все детишки хотели, когда вырастут, стать такими, как Заводилов…
Мерзкий старый дом – в нем всегда воняло хлоркой, но это был мой дом, и я даже помыслить не мог, что когда-нибудь его не станет. Я побрел среди обломков, нагибаясь и отбрасывая куски цемента. Коля схватил меня за руку:
– Лев… Пойдем. Я еще место знаю, где можно переночевать.
Я вывернулся из его хватки. Я разгребал мусор руками. Коля опять схватил меня – и уже не отпускал.
– Здесь никого в живых не осталось.
– Откуда ты знаешь?
– Вон смотри, – тихо ответил он и показал на колышки с красными лоскутами, тут и там торчавшие из щебня. – Здесь уже раскапывали. Наверное, бомба упала еще вчера ночью.
– Я тут был вчера ночью.
– Вчера ночью ты был в «Крестах». Пошли. Пойдем со мной.
– Но люди же выживают. Я читал. Иногда по многу дней в завалах.
Коля еще раз оглядел руины. Ветер нес смерчики цементной пыли.
– Если кто и жив, голыми руками их не выкопать. А если будешь рыть всю ночь, до утра не доживешь. Давай. У меня друзья тут рядом. Нам надо переночевать.
Я покачал головой. Ну как мог я бросить свой дом?
– Лев… Ты сейчас главное – не думай. Ты просто за мной иди. Понял меня? Иди со мной.
Он за рукав стащил меня с горы битого камня, а я вдруг так ослаб, что даже не сопротивлялся. Усталость одолела во мне и скорбь, и злость, и отчаяние. Мне хотелось согреться. Хотелось есть. Мы брели от развалин Дома Кирова, и я не слышал своих шагов. От меня остался только призрак. Во всем этом городе больше никто не знал моей фамилии. Но себя мне жалко не было – на меня навалилось тупое любопытство: почему это я еще не умер? Вот пар изо рта идет, а рядом со мной шагает этот казацкий сын, то и дело поглядывает на меня, чтоб я не отставал, да смотрит в небо, не летят ли бомбовозы.








