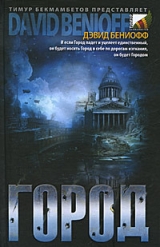
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
9
На Васильевском острове разбомбили детский сад, и Соня собрала корзину щепок от расколотых балок. Буржуйка жарко горела, а мы сидели вокруг, пили «блокадный чаек» и смотрели на немощную курицу. В старую жестянку мы нарвали газет и устроили ей гнездо. Курица нахохлилась, прижав голову к груди, и не обращала внимания на толченое просо, которое ей чайной ложечкой рассыпали по передовице. В газете москвичи умоляли нас стоять до победного конца. Драная Москва. В Питере вообще думают, что раз уж случилась блокада, то хорошо, что с нами, мы что угодно переживем, а эти свиньи-чинуши в столице сдадут город первому же обер-лейтенанту, если им еженедельный паек стерляди не принесут. «Хуже французов», – говаривал Олежа, хоть и знал, что длинный язык до добра не доведет.
Коля прозвал курицу Дорогушей, но когда она пялилась на нас, тупо и подозрительно, никакой нежности в глазах у нее не было.
– А ей не надо это… любовью позаниматься перед тем, как класть яйца? – спросил я.
– По-моему, нет, – ответила Соня, отрывая высохшую кожицу с губы. – Мне кажется, петухи яйца оплодотворяют, а несет она их сама. У меня дядя был директором птицеводческого совхоза подо Мгой.
– Так ты в курах понимаешь?
Соня покачала головой:
– Я и во Мге-то ни разу не была.
Все мы – городские дети. Я никогда не доил корову, не сгребал навоз, не ворошил сено. В Доме Кирова мы вечно посмеивались над колхозниками – как скверно они подстрижены, как у них солнцем обожжены шеи. А сейчас над нами смеются и – едят свежатинку, кроликов там или кабанчиков, а мы жрем пайковый хлеб с плесенью.
– Ко вторнику она не снесет двенадцать яиц, – сказал я. – Она и не доживет до вторника.
Коля устроился на железной табуретке, вытянув перед собой длинные ноги, и что-то карябал в дневке. Огрызок карандаша у него стачивался.
– Не стоит заранее махать на нее рукой, – сказал он, оторвавшись от блокнота. – Она ленинградка. Крепче, чем кажется. Немцы тоже думали, что летом банкет в «Астории» устроят.
Фашисты вроде бы напечатали тысячи пригласительных билетов на свой триумфальный банкет, который Гитлер хотел устроить, завоевав, как он выразился в речи перед своими штурмовиками-факелоносцами, «колыбель большевизма, этот город воров и червей». Наши солдаты находили их на трупах офицеров вермахта. Их перепечатывали в газетах, даже, говорят, листовки делали и расклеивали по стенам. В Политбюро не придумали бы лучшей пропаганды. Мы ненавидели фашистов – за глупость, как и за все остальное: если город падет, не оставим же мы немцам гостиниц, где они станут пить свой шнапс у рояля и спать в роскошных номерах. Если пойдем ко дну, город мы заберем с собой.
– Может, стесняется? – высказалась Соня. – Может, не хочет класть яйца, когда на нее смотрят?
– Может, ей попить нужно?
– Это мысль. Дадим ей воды.
Никто не пошевелился. Мы все хотели есть, мы все устали. Мы надеялись, что кто-нибудь другой встанет и принесет чашку. На улице свет в небе гас. Уже слышалось, как гудят, нагреваясь, близкие прожектора, медленно светлели их толстые нити накаливания. Над городом барражировал одинокий «ишак», его пропеллер жужжал неумолчно – успокаивал.
– Вот же говняшка, а?
– А по-моему, симпатичная, – сказала Соня. – На мою бабушку похожа.
– Может, потрясти – вдруг выпадет?
– Ей воды надо.
– Да, принесите ей воды.
Прошел еще час. Наконец Соня зажгла коптилку, включила репродуктор и плеснула немного речной воды из кувшина в блюдце, а его поставила Дорогуше в гнездо. Птица злобно глянула на нее, но пить не стала.
Соня опять села и вздохнула. Минуту спустя силы возвратились к ней, она повернулась к столику с шитьем, взяла прохудившийся носок, вдела нитку иглу и натянула носок пяткой на колодку – разгладить ткань. Я смотрел, как мелькают ее худенькие пальчики. Симпатичная девушка, а руки – как у Костлявой, бледные и бесплотные. Но штопала она умело. Игла посверкивала, ныряя в ткань и выныривая, снова и снова… У меня начали слипаться глаза.
– Вот знаешь, кто настоящая мерзкая сучка? – ни с того ни с сего раздался вдруг Колин голос. – Наташа Ростова.
Имя я смутно откуда-то знал, но припомнить не удалось.
Соня нахмурилась, но от штопки не оторвалась:
– Из «Войны и мира», что ли?
– Терпеть эту тварь не могу. Все в нее влюбляются, ну просто все подряд, а она ни рыба ни мясо.
– Может, в этом и смысл, – сказала Соня.
Я уже полуспал, но улыбнулся. Коля меня, конечно, раздражал, но нельзя не проникнуться симпатией к человеку, который так страстно ненавидит литературную героиню.
Проворными костлявыми пальцами Соня быстро заштопала носок. Коля постукивал себя по ноге и хмурился, размышляя о Наташе Ростовой и всеобщей несправедливости. А Дорогуша по-прежнему дрожала, хотя в комнате было тепло. Теперь курица пыталась засунуть клюв себе в тело, словно ей снилось, что она черепаха.
По радио выступал драматург Герасимов:
– Смерть трусам! Смерть паникерам! Смерть распространителям слухов! Под трибунал. Дисциплина. Мужество. Твердость. И помните, товарищи: Ленинград не боится смерти. Это смерть боится Ленинграда.
Я фыркнул, и Коля посмотрел на меня:
– Что такое? Не любишь старика Герасимова?
– За что его любить?
– Ну он же патриот. С нами, в Питере, а не где-то с Ахматовой и ей подобными.
– А я за Льва, – сказала Соня, подбросив щепок в буржуйку. Светлые волосы у нее порозовели от света углей, а ушки на секунду стали малиновыми и прозрачными. – Герасимов – рупор партии, вот и все.
– Хуже, – сказал я и сам удивился: голос у меня зазвенел от злости. – Он называет себя писателем, но писателей ненавидит. Он же читает их лишь для того, чтобы посмотреть, чего опасного они написали, как оскорбили партию. И если он решит, что это крамола, всё – выступает на бюро Союза писателей, громит их в печати, на радио. В одном комитете кто-то как-то даже сказал: «Ну, Герасимов говорит, что это человек опасный, а Герасимов – наш, значит, он и впрямь опас…»
Я умолк на полуслове. Мне показалось, мой наряженный голос зазвенел на всю квартиру: я быстро смутился от того, что выболтал слишком много и слишком не вовремя. Соня и Коля смотрели на меня: она – встревоженно, а он – вроде бы даже с почтением, как будто прежде считал меня глухонемым, а сейчас вдруг понял, что я умею произносить слова.
– Твой отец – Абрам Бенёв.
Я ничего не ответил, но Коля и не спрашивал. Он сам себе кивнул, словно ему вдруг все стало ясно.
– Мог бы и раньше сообразить. Не понимаю, зачем тебе это скрывать. Он был поэт – настоящий поэт, таких немного. Ты должен гордиться.
– Ага, расскажи еще мне про гордость, – рявкнул я. – Сперва задаешь дурацкие вопросы, а я не желаю на них отвечать. Это мое дело. Я с чужими о родственниках вообще не разговариваю. Но ты меня будешь учить, чтоб я отцом гордился…
– Ладно, ладно. – Коля поднял руки. – Хорошо, извини. Я не в этом смысле. Я просто к тому, что мы ведь уже не чужие.
– Я одна сижу тут как дура, – сказала Соня. – Лев, прости меня… я даже не слыхала о твоем отце. Он писал стихи?
– Великие стихи, – сказал Коля.
– Второй сорт не брак, как он сам обычно говорил. И не раз. Дескать для его поколения есть Маяковский – и есть все остальные. Так вот, он – как раз посередке этих всех остальных.
– Нет-нет, не слушай его. Он был замечательный писатель. Честно, Лев, я не льщу. «Зашел в кафе поэт, когда-то знаменитый…» Изумительное стихотворение.
Ну да, его печатали во всех сборниках – по крайней мере, тех, что выходили до 37-го. Я перечитывал его сотни раз после того, как отца забрали, но вот так, вживую, голосом… Вслух этих строк давно никто не произносил.
– И он… его… – Соня дернула подбородком – мол, «туда». Значить могло что угодно – сослали в Сибирь, застрелили в затылок, ЦК заткнуло рот. В точности никто не знал – что. «Его убрали?» – вот что спросила она, и я кивнул.
– Я наизусть помню, – сказал Коля, но, спасибо ему большое, читать целиком не стал.
Дверь открылась, вошел Тимофей – тот хирург, которым мы познакомились накануне. Сразу подошел к буржуйке, стал греть над ней руки. Заметил Дорогушу в жестянке, присел над ней, осмотрел, уперев руки в колени:
– Это откуда?
– Ребята с Нарвской заставы принесли. У какого-то мальчишки взяли.
Тимофей выпрямился и усмехнулся. Из кармана пальто достал две луковицы:
А я в госпитале вот разжился. Делиться не хотел, но у нас, похоже, сегодня чудесный супчик получится.
– Дорогуша не в суп, – сказал Коля. – Нам яйца нужны.
– Яйца? – Тимофей обвел нас всех взглядом, посмотрел на Дорогушу, опять на нас. С таким видом, словно мы пошутили.
– На Дорогушу все рукой махнули, – продолжал Коля, – а по-моему, она справится. Ты про кур что-нибудь знаешь? Сможет она снести дюжину яиц ко вторнику?
– Что ты мелешь?
Казалось, хирург все больше злится. Коля раздраженно посмотрел на него: с чего вдруг такой тон?
– Ты по-русски не понимаешь? Мы ждем яйца.
Мне вдруг почудилось, что сейчас они подерутся. Тогда Красной армии придется худо – хирурги нам нужны, а Коля уложил бы этого задохлика одним ударом. Но Тимофей вдруг расхохотался, качая головой и явно рассчитывая, что мы подхватим.
– Да смейтесь сколько влезет, – сказал я. – А курицу не троньте.
– Это не курица, дубина. Это петух.
Коля замялся: вдруг хирург водит нас за нос, чтобы только сварить из Дорогуши суп? Я придвинулся к гнезду и присмотрелся к птице. Не знаю, с чего я решил, будто что-нибудь в ней разгляжу. Что я, пипиську у нее хотел найти?
– Значит, говоришь, яйца она класть не будет? – переспросил Коля, не сводя глаз с Тимофея.
Хирург ответил медленно, словно разговаривал с умственно отсталыми:
– Во-первых, это он. А во-вторых, да – шансов у него маловато.
10
Той ночью суп был – как в июне, совсем как наши доблокадные обеды. Сонин поклонник, военный летчик, подарил ей не гнилую картофелину. Коля возмутился: не станет он есть подарок от другого ухажера. Но протесты его, как он и рассчитывал, проигнорировали, и суп из Дорогуши получился наваристый: картошка, лук и побольше соли. К счастью для нас, остальные хирурги ночевали где-то в другом месте. На крылышко и чашку бульона Соня выменяла у соседки бутылку хорошей водки. Немцы лениво шмальнули по городу всего несколько снарядов, словно бы напомнить о своем существовании, но, видимо, в тот вечер им было чем заняться. К полуночи мы все напились, набили себе животы, Коля с Соней ушли в спальню, а мы с Тимофеем при свете буржуйки резались в шахматы.
В середине второй игры я сделал ход конем, Тимофей долго смотрел на доску, потом слегка отрыгнул и сказал:
– Ого. Недурно.
– До тебя только дошло? В прошлый раз я поставил тебе мат за шестнадцать ходов.
– А я думал, это от выпивки. Ну мне тогда кранты, наверно?
– Ты пока жив. Но это ненадолго.
Он опрокинул короля и опять рыгнул – довольный тем, что может это сделать, раз у него в животе хоть что-то есть.
– Бессмысленно. Ладно. Курицу от петуха ты не отличаешь, а в шахматах сечешь.
– Я раньше лучше играл. – Я снова поставил короля и сделал ход за Тимофея. Интересно, насколько удастся отсрочить эндшпиль?
– Раньше – лучше? Когда у мамки в животе, что ли, был? Тебе сколько вообще, четырнадцать?
– Семнадцать!
– Бреешься?
– Ну да.
Тимофея, похоже, не убедило.
– Я просто усы сбрил… А зимой растет медленней.
В соседней комнате тихо ахнула Соня, потом засмеялась, и я представил себе, как у нее запрокинута голова, горло открыто, торчат соски на маленьких грудях…
– И где только люди силы берут, – сказал Тимофей, потянувшись и откидываясь на одеяла, постеленные в несколько слоев. – Кормите меня супом каждый вечер – и никакая баба не нужна.
Он закрыл глаза и вскоре заснул. Хорошо им, быстрым таким. А я остался один – слушать любовников за стенкой.
Коля разбудил меня перед зарей, сунул мне в руку чашку кипятка. Сам он разглядывал нашу вчерашнюю шахматную доску. Тимофей спал на спине, раскрыв рот и закинув руки за голову – словно врагу сдавался.
– Кто черными играл?
– Я.
– Ты бы его за шесть ходов разгромил.
– За пять. А если б он ошибся – за три.
Коля нахмурился и сгорбился над доской, пока не вычислил.
– Да. Могёшь.
– Спорить еще не передумал? Что там у тебя? Голые француженки?
Он улыбнулся, протирая заспанные глаза:
– Могу просто подарить. Как услугу. Покажу, где у них что. Ладно, давай обувайся.
– Мы куда?
– Во Мгу.
Может, Коля и дезертир, только голос у него властный по самой природе своей, и ботинки мои зашнуровались сами чуть ли не до конца, не успел я усомниться в директиве. Он уже надел шинель и кожаные перчатки, дважды обернул шею шарфом и проверил зубы в зеркальце над тумбочкой с чайником.
– Так, до Мги пятьдесят километров.
– Прогулка на день. Вчера мы плотно поужинали – доберемся.
До меня медленно доходило все безумие такой пропозиции.
– Это же за линией фронта. Зачем нам вообще туда идти?
– Сегодня суббота, Лев. Яйца нам нужны ко вторнику, а в Питере мы их не найдем. У Сониного дяди был этот совхоз, так? Скорее всего, немцам он не помешает. Они ведь тоже яйца любят.
– У нас такой план? Пройдем полсотни километров, переползем линию фронта, найдем птицеферму, которую, может быть, не сожгли, стырим дюжину яиц и вернемся?
– Таким тоном все нелепо звучит.
– Каким еще тоном? Да я просто спрашиваю! У нас план такой, что ли? Там даже Соня не бывала ни разу! Как мы найдем этот совхоз?
– Так Мга же! В ней разве заблудишься?
– Я вообще не знаю, где она!
– О! – сказал Коля, нахлобучивая шапку. – Это как раз просто. На Московской линии. Пойдем по шпалам.
Тимофей хрюкнул во сне и перевернулся на бок. Я уже знал, что врачи и солдаты способны проспать любой шум, если он не угрожает их жизни. Наша с Колей перебранка, должно быть, только убаюкивала Тимофея. По крайней мере, такое у него было мирное и счастливое лицо. Я смотрел на хирурга и ненавидел его – за то, что быстро заснул на этих одеялах, за то, что ему тепло, удобно, он сыт, никакой донской пустозвон не гонит его ни в какую Мгу, никакой капитан госбезопасности не шлет незнамо куда за яйцами для свадебного торта.
Я повернулся к Коле – глядя в зеркальце, тот ухарски заламывал шапку на голове. Колю я ненавидел еще больше. Бодрый и наглый пижон, свеженький и всем довольный в шесть утра, будто вернулся из отпуска на Черном море. Наверняка от него еще пахнет… ею, хотя, если честно, никаких запахов я в эту рань вообще не чуял: квартира за ночь выстыла. Шнобель мой служил главным образом для показухи и как мишень для насмешек, а запахи различал скверно.
– Ты думаешь, я сбрендил, – сказал Коля. – Но все крестьяне, которые на Сенном торгуют картошкой по двести рублей, добыли ее за городом. Люди каждый день переходят линию фронта. А мы почему не можем?
– Ты пьяный?
– С четверти бутылки? Вряд ли.
– А поближе Мги ничего не найдем?
– Например?
Он уже совсем утеплился перед выходом. На подбородке у него топорщилась светлая четырехдневная щетина. Он стоял и ждал моих предложений, любой альтернативы своему дурацкому плану, но секунды тикали, и я понял, что мне сказать нечего.
Он улыбнулся, словно какой-нибудь краснофлотец с плаката:
– Все это несерьезно, согласен. Но шуточка уж больно хороша.
– Изумительная просто шуточка. А самое смешное – что мы там погибнем, у капитанской дочки не будет торта, а никто даже не догадается, на кой мы поперлись в эту Мгу.
– Успокойся, мой хмурый семит. Я не дам гадким дядям…
– Пошел ты в жопу.
– Но нам пора шевелиться. Если хотим засветло успеть.
Можно было плюнуть на него и завалиться спать дальше. Щепки догорели, буржуйка за ночь остыла, но под горой одеял было бы тепло. Спать разумнее, чем тащиться во Мгу, где нас ждут тысячи немцев. Кур воровать, ага. Да что ни сделай – выйдет разумнее. Но все равно, как ни противна была мне эта мысль, я знал, что сейчас встану и пойду за Колей. Потому что он прав: в Ленинграде никаких яиц мы не найдем. Но не только поэтому. Коля – хвастливое казацкое отродье, любит дразнить евреев, но уверенности ему не занимать, и она так чиста и цельна, что уже не кажется самонадеянностью. Как будто этому человеку на роду написано быть героем, и он не идет поперек судьбы. Свои приключения я себе представлял совсем не так, но жизнь на мои пожелания плевать хотела с самого начала. Тело мне досталось такое, что ему под стать только книжки на полки в библиотеке ставить, а страху в венах у меня столько, что случись драка – могу только на лестнице отсиживаться. Может, со временем руки-ноги у меня окрепнут, мускулы нарастут, а страх куда-нибудь сольется, как грязная вода из ванны. Поверить бы в это… Я не верил. На мне поставило свою печать проклятие всех русских и евреев – пессимизм. Это самые унылые племена на свете. Но если во мне и нет ни грамма величия, талантом различать его в других я располагал. Даже в тех, кто меня очень раздражает.
Я встал, подхватил с полу шинель, надел и вышел за Колей к двери. Он с подчеркнутой любезностью ее передо мною распахнул.
– Только погоди, – сказал он, не успел я переступить порог. – Перед дорожкой надо присесть.
– Надо же, какой суеверный.
– Люблю традиции.
Сесть было некуда, и мы опустились на пол прямо у открытой двери. В квартире стояла тишина. У буржуйки похрапывал Тимофей. Позвякивали оконные стекла; из репродуктора доносился неумолчный стук метронома – знак того, что Ленинград не покорен. На улице кто-то быстро и умело приколачивал плакаты к забитым досками окнам. Но мне помстился не человек с плакатами, а гробовых дел мастер, ладивший гроб из сосновых досок. Да так наглядно представился, в подробностях: я видел даже мозоли у него на ладонях, меж густых бровей на лбу торчали отдельные черные волоски, потные руки были припорошены опилками.
Я вздохнул поглубже и посмотрел на Колю. А он как раз смотрел на меня.
– Не беспокойся, друг мой. Я не дам тебе умереть.
Мне было семнадцать. Дурень, я ему поверил.
11
Железную дорогу на Москву перерезали всего четыре месяца назад, но рельсы уже ржавели. Шпалы по большей части выкорчевали и покололи на дрова, хоть они и пропитаны креозотом, а жечь его опасно. Коля шел по рельсу, как гимнаст по бревну, – балансируя руками. Я трюхал за ним между рельсами – в такую игру мне играть не хотелось. Я на него злился, а кроме того, знал, что все равно не удержусь.
Рельсы бежали на восток мимо кирпичных жилых кварталов, трехэтажных магазинов, мимо трампарка, брошенных фабрик, которые выпускали то, что в военное время без надобности или просто не по карману. Бригада девушек в ватниках под командой сапера превращала районную почту в огневую точку. Угол старого крепкого здания снесли, чтобы устроить пулеметное гнездо.
– Отлично сложена, – заметил Коля, показывая на девушку в синем платке. Она таскала мешки с песком с грузовика, урчавшего мотором.
– Ты почем знаешь?
Издевается, наверное. До нее метров пятьдесят; ватник толстый, а под ним еще одежда в несколько слоев.
– Видно. У нее выправка балерины.
– А-а…
– Ты мне тут не акай. Я знаком с балеринами. Ты уж мне поверь. После войны как-нибудь проведу тебя в Кировский, за сцену. Меня, скажем так, знают.
– Тебя послушать, так тебя везде знают.
– На этом свете самая большая моя радость – бедра балерины. Вот Галина Уланова…
– Ой, хватит.
– Чего? Она достояние республики. Ее ноги надо в бронзе отлить.
– Ты не спал с Улановой.
Он мне слегка, с лукавинкой улыбнулся. И улыбка эта говорила: мне известно многое, друг мой, но всему свой черед.
– Я жесток, – признал он. – Говорить с тобой о вещах такой природы – садизм. Все равно что о Веласкесе со слепым. Давай сменим тему.
– Как? Следующие тридцать девять километров ты не хочешь говорить о балеринах, с которыми не спал?
– Трое мальчишек пошли кур воровать, – начал Коля таким тоном, каким рассказывают анекдоты. Когда их рассказывал он, у него появлялся странный акцент, хоть я и не мог понять чей и почему Коля считает, что с акцентом смешнее. – Крестьянин их услышал и побежал в птичник. Поэтому мальчишки прыгнули в три мешка для картошки и спрятались.
– Длинный будет анекдот?
– Крестьянин пинает первый мешок, а мальчишка: «Мяу!» Котом, значит, прикинулся.
– О… котом, значит, прикинулся?
– Я же сказал. – Коля обернулся ко мне: не собираюсь ли я с ним спорить?
– А я и так понял, что он прикинулся котом. Раз говорит «мяу» – значит, котом прикидывается.
– Ты на меня опять дуешься из-за того, что я с Соней переспал? Да ты никак в нее влюблен? А с этим… как его… тебе разве плохо было? С хирургом? Вы с ним так трогательно смотрелись возле печки, свернулись калачиками…
– А что у тебя за акцент? Хохляцкий, что ли?
– Какой еще акцент?
– Ну, ты когда анекдоты рассказываешь, у тебя каждый раз дурацкий акцент.
– Послушай, Лев, львенок мой маленький, прости меня. Я знаю, тебе нелегко лежать всю ночь, зажав свой уд в кулаке, и слушать, как она счастлива…
– Что дальше-то было в анекдоте?
– …но я тебе слово даю. Тебе еще не исполнится восемнадцати, как… Когда у тебя день рождения, кстати?
– Да пошел ты.
– Я познакомлю тебя с девушкой. Рассчитанное пренебрежение! Не забывай.
Все это время он шел по рельсу, одну ногу ставя точно перед другой, ни разу не оступился, вниз не посмотрел. И шел он при этом быстрее, чем я по земле.
– На чем я остановился? Ах да, крестьянин. Пинает первый мешок – «Мяу!» и так далее. Пинает второй, а оттуда – «Гав!». Мальчишка сделал вид, что он…
Коля ткнул в меня пальцем, чтобы я закончил:
– Корова.
– Собака. И вот пинает он третий, а мальчишка изнутри: «Картошка!»
Повисло молчание.
– А другим, – произнес наконец Коля, – смешно.
На городских окраинах жилые дома больше не лепились друг на дружку. Между грудами цемента и кирпича тянулись мерзлые болота и заснеженные пустыри, где до войны собирались строить дома. Но не успели. Чем дальше уходили мы от центра, тем меньше людей нам попадалось. Мимо громыхали военные грузовики с цепями на колесах, усталые солдаты смотрели на нас из кузовов без интереса. Их везли на фронт.
– Знаешь, почему Мга – Мга? – спросил Коля.
– Сокращение какое-нибудь?
– Инициалы Марии Григорьевны Апраксиной. Один персонаж в «Дворовой псине» списан с нее. Наследница древнего семейства фельдмаршалов, казнокрадов и царских лизоблюдов. Убеждена, что муж хочет ее убить, чтобы жениться на ее сестре.
– А он?
– Сначала – нет. У нее просто мания преследования. Но она все время об этом твердит, и он по-маленьку начинает влюбляться в ее сестру. И до него доходит, что жизнь без такой жены была бы лучше. Поэтому он и приходит к Радченко за советом – только не знает, что эту младшую сестренку тот приходует уже много лет.
– А что он еще написал?
– Кто?
– Ушаков. Какие книги у него еще есть?
– «Дворовая псина», всё. Это же известная история. Книга вышла – и провалилась. На нее была только одна рецензия, и критик разнес роман в пух и прах. Отвратительно, вульгарно и прочая, и прочая. Книгу никто не читал. А Ушаков писал ее одиннадцать лет. Одиннадцать, ты можешь себе представить? И канула бесследно, точно ее в океан бросили. Но Ушаков начинает все сызнова – пишет новый роман. И те его друзья, которые читали куски, утверждали, что это шедевр. Вот только сам Ушаков все дальше уходил в богоискательство, все больше времени проводил со старцем, и тот помаленьку убедил его, что литература – козни дьявола. И вот однажды ночью Ушаков окончательно поверил, что гореть ему в аду, поддался панике. И швырнул рукопись в огонь. Ф-фух – и все.
Отчего-то мне все это показалось подозрительно знакомым.
– Но то же самое было и с Гоголем.
– Ну нет, не вполне. Детали очень разные. Но параллель интересная, согласен.
Рельсы свернули прочь от шоссе, рядом потянулся березовый молодняк – слишком тоненький, чтоб на дрова. В белом снегу ничком лежали пять бледных тел. Семейство зимних покойников: мертвый отец по-прежнему сжимает руку мертвой жены, а мертвые дети распластались чуть в отдалении. Возле трупов валялись два выпотрошенных кожаных чемодана; в них виднелись только треснувшие рамочки для фотоснимков.
Семью раздели и разули целиком. И срезали ягодицы, где самое мягкое мясо – из него легче делать котлеты и колбасу. Я так и не понял, отчего они погибли – застрелили их, зарезали, немецкий ли снаряд их прикончил или русские людоеды. Да и не хотелось мне знать. Мертвыми они пролежали долго, с неделю, и тела их уже сливались с пейзажем.
Мы шли дальше на восток, в сторону Вологды. Анекдотов Коля в то утро больше не рассказывал.
Незадолго до полудня мы добрались до рубежей обороны Ленинграда: чащобы колючей проволоки, трехметровые рвы, противотанковые надолбы, пулеметные гнезда, зенитные батареи и танки «КВ» под маскировочными сетями. Раньше солдаты не обращали на нас внимания, но так далеко на восток гражданские не заходят, и тут мы уже смотрелись странной парочкой. Бойцы, стаскивавшие брезент с шестиколески, обернулись и воззрились на нас.
Их сержант направился к нам. Винтовкой он нам не грозил, но и не убирал ее. Судя по виду – военная косточка, татарин: скуластый, глаза узкие.
– Документы есть?
– Есть, – ответил Коля и полез во внутренний карман. – У нас прекрасные документы.
Он вручил сержанту капитанское письмо и подбородком мотнул на грузовик:
– Новая «катюша»?
Брезент уже скинули на землю, и нам открылась рама с рядами направляющих – они торчали в небеса. Ждали реактивных снарядов. Если верить нашему радио, немцы боялись «катюш» больше другого советского оружия. Звали их «сталинскими органами» за то, что они так скорбно и ужасно
Сержант глянул на реактивный миномет, потом перевел взгляд на Колю:
– Не ваше дело. В какой армии?
– В Пятьдесят четвертой.
– Пятьдесят четвертая? Вы должны быть в Киришах.
– Так точно, – ответил Коля, загадочно улыбнувшись сержанту и кивнув на письмо. – Но приказ есть приказ.
Сержант развернул письмо и стал читать. Мы с Колей смотрели, как расчет накатывает пернатые снаряды на направляющие.
– Вжарьте им как следует! – крикнул Коля.
Солдаты посмотрели на него, но ничего не сказали. Похоже, не спали они уже много суток. Не уронить снаряд – вот что было главное. А тут еще психи какие-то шастают…
Коле не понравилось, что на него не обращают внимания, и он запел. У него оказался сильный, уверенный баритон.
…Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла…
Сержант дочитал и аккуратно сложил письмо. Мандат НКВД явно произвел на него впечатление – он смотрел на Колю с искренним уважением и кивал в такт песне:
– То, что надо. Я в Зимнюю войну слышал, как ее сама Русланова пела. Руку ей подал, когда сходила с помоста, – думал, она лишку хлебнула. И знаешь, что она мне сказала? «Спасибо, – говорит, – боец, знаешь, как руки к делу пристроить». Ты подумай, а? Вот бесовка же, Русланова эта. Но песня все равно хорошая… – Он хлопнул Колю письмом по груди шинели и улыбнулся нам обоим: – Простите, что задержал, ребята, но сами знаете… Говорят, в Ленинграде триста диверсантов орудуют, и с каждым днем забрасывают новых. Но раз вы по линии НКВД… – Он подмигнул. – Я ж понимаю – партизан подымать. То, что надо. Мы гадам спереду врежем, а вы с тылу. Летом насрем у них в Рейхстаге.
Когда мы только получили капитанское письмо, Коля прочел его вслух. Про партизан в нем ничего не было – говорилось только, чтобы нас не задерживали, поскольку мы выполняем распоряжения капитана госбезопасности. Но в газетах печатали очерки о том, как народ в тылу врага берется за оружие, а специалисты из НКВД готовят кадры.
– Пускай они тут попляшут под шарманку, – ответил сержанту Коля. Уж не знаю, специально он подстроился под сержантский говорок или нет. – А мы к ним там штрудель из фатерлянда не пропустим.
– Вот это разговор, я понимаю. Перекрыть им подвоз продовольствия, пускай в наших лесах поголодают. Как в тысяча восемьсот двенадцатом.
– Но Эльба Гитлеру не светит.
– Не-не, Эльба точно не светит! Сержант, по-моему, вряд ли знал, что такое Эльба, но был тверд: никакой Эльбы Гитлер не получит.
– Мы ему штыком по яйцам, а не Эльбу!
– Нам пора, – сказал Коля. – До темна во Мге надо быть.
Сержант присвистнул:
– Далековато. Лучше лесов держитесь. Фриц дорогами овладел, а русскому разве дорога нужна? Ха! Хлеб есть с собой? Нет? Можем выделить. Иван!
Подбежал молоденький заморыш из тех, что возились у пусковой установки.
– Найди ребятам хлеба. На ту сторону идут.








