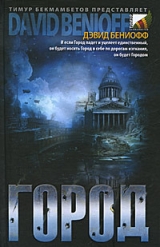
Текст книги "Город"
Автор книги: Дэвид Бениофф
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
22
Наутро немцы разбудили нас, выдирая гвозди, которыми накануне забили дверь. В щели пробивался солнечный свет, крохотными прожекторами высвечивая чей-то сальный лоб, кожаный сапог, просивший каши, роговые пуговицы чьего-то пальто. Вика уже сидела рядом и грызла ногти. Методично грызла – но не истерично, а так, словно мясник точит нож. Где-то под утро она от меня отодвинулась, а я и не почувствовал. Поймав мой взгляд, она тоже посмотрела на меня, и никакой нежности в ее глазах не было. Никакого теплого воспоминания о том общем, что, как я думал, у нас с ней зародилось в темноте.
Открылась дверь, немцы заорали, чтобы мы выходили, и клубок человеческих тел начал постепенно распутываться. Я увидел старого Ваську: он зажал ноздрю узловатым пальцем и сморкнулся. Сопля едва не попала в лицо другому колхознику.
– Ах, – буркнул Коля, наматывая на шею шарф. – Иногда жалеешь, что не живешь одной большой крестьянской семьей с товарищами колхозниками, верно?
Пленные потянулись из сарая, но тут кто-то вскрикнул в дальнем углу. Стоявшие ближе повернулись глянуть, что его так напугало, и тревожно зашептались. Из нашего угла мы видели только их спины. Мы с Колей тоже встали и вытянули шеи. А Вика равнодушно направилась к дверям.
Мы пробились в тот угол сарая сквозь недовольно бормочущих крестьян и увидели, что один человек еще не встал. Шпак, выдавший немцам Маркова, – у него было перерезано горло, кровь давно вытекла, и лицо побелело как мел. Зарезали его, надо полагать, во сне, иначе мы бы услышали возню и крики. Но когда нож вошел в шею, глаза у дядьки открылись и дико вытаращились, едва не выскочив из глазниц. Сейчас он как будто с ужасом рассматривал лица тех, кто смотрит на него сверху.
Один крестьянин уже стаскивал с мертвеца сапоги, другой – овчинные рукавицы, третий вытягивал ремень тисненой кожи из штанов. Коля быстро присел и сдернул стеганую ушанку, опередив всех. Я обернулся: в дверях сарая Вика натягивала свою шапку поглубже. На секунду задержала на мне взгляд, затем шагнула за порог. В следующее же мгновение в сарай, стаскивая с плеча автомат, вошел немецкий солдат. Злой – пленные мешкали. Увидел труп, раззявленное горло, кровавое пятно, расплывшееся на полу парой чудовищных черных крыльев. Солдат рассвирепел – об убийстве нужно было докладывать офицерам. Он что-то спросил по-немецки – больше самого себя, чем пленных вокруг, от них он никакого ответа и не ждал. Коля откашлялся и что-то ему сказал. Насколько грамотно, я судить не мог, но солдат, похоже, изумился.
Немец покачал головой, коротко ответил Коле и большим пальцем ткнул в сторону двери – выходите, мол, все. Снаружи я спросил у Коли, что он сказал.
– Что крестьяне жидов ненавидят больше, чем немцы.
– А он что?
– «Есть заведенный порядок». Очень по-немецки. – Коля старался натянуть на голову добытую шапку: она была маловата, но ему удалось опустить уши и затянуть завязки.
– Думаешь, стоило им показывать, что ты говоришь по-немецки? После того, что вчера было?
– Не стоило – это опасно, да. Но теперь, по крайней мере, лишних вопросов не будут задавать.
Пленных выстроили гуськом, и все побрели вперед, щурясь от утреннего солнца, – к огромному похмельному солдафону. Он, даже толком не умывшись, выдавал каждому пленному по единственной круглой галете, жесткой, как уголь.
– Добрый знак, – пробормотал Коля, пощелкав по галете ногтем.
Вскоре мы плелись дальше под охраной эсэсовских автоматчиков, вжимая головы в плечи на ветру. Шли по дороге, хоть и заснеженной, – идти было легче, потому что ее укатали десятки колес. В нескольких километрах от школы нам попался дорожный указатель: Мга. Я показал на него Коле.
– О… А какой сегодня день?
Вопрос застал меня врасплох. Я мысленно сосчитал.
– Понедельник. Завтра мы яйца должны принести.
– Понедельник… Значит, я не срал уже тринадцать дней. Тринадцать… И куда только все девается? Я же что-то ел. Колбаса, суп из Дорогуши, картошка с маслом у девушек, хлеб пайковый… И что оно все – просто комом в животе копится?
– Просраться не можешь? – осведомился бородатый Васька – он услышал Колины жалобы и повернулся с непрошеным советом. – А ты кору крушины завари, отвару выпей – всегда помогает.
– Чудесно. Ты здесь крушину где-нибудь видишь?
Васька оглядел придорожные ельники и покачал головой:
– Проходить будем – свистну.
– Премного благодарен. А может, и кипяточку заодно спроворишь?
Но Васька уже встал на место и шагал дальше, стараясь не отставать, – охранники на него поглядывали.
– Приезжает Сталин в подмосковный колхоз, – начал Коля голосом записного анекдотчика. – Хочет, значит, проверить, как пятилетка выполняется. «Вот скажите мне, товарищ, – спрашивает у одного колхозника, – как у вас в этом году картошка уродилась?» «Очень хорошо уродилась, товарищ Сталин, – отвечает колхозник. – Такую гору навалили, что до самого господа бога подняться можно». «Так а бога ж нету, товарищ колхозник», – Сталин ему говорит. «Так и картошки нету, товарищ Сталин».
– Бородато.
– Только у хороших анекдотов растет борода, – назидательно сказал Коля. – Ибо только их все время рассказывают.
– Такие зануды, как ты?
– Ну что я сделаю, если тебе никогда не смешно? А вот девчонки смеются, и это главное.
– Думаешь, это она? – спросил я. Коля искоса глянул на меня, на миг смешавшись, а потом увидел, что я смотрю в спину Вике. Сегодня она шла отдельно от нас, ближе к голове колонны.
– Конечно.
– Я просто… Она прижималась ко мне ночью. Когда я засыпал, она мне голову на плечо положила.
– Видишь, у тебя уже началась половая жизнь. На полу же. А все потому, что меня послушал. И научился.
– А потом она улизнула, хоть я сплю очень чутко, и пошла в другой угол по тридцати телам в непроглядной темноте, перерезала ему горло и вернулась. И никого при этом не разбудила.
Коля кивнул, не спуская с Вики глаз. Та шла, ни с кем не разговаривая, словно бы считала технику, следила за перемещениями солдат.
– Она убийца талантливая.
– Особенно для астронома.
– Ха! Не верь всему, что тебе говорят.
– Думаешь, врет?
– Нет, в институт-то она ходила. Там их и набирают. Но сам подумай, львенок, – так стрелять она в обсерватории у телескопа научилась? Она из НКВД. У них свои люди в каждом партизанском отряде.
– Почем ты знаешь?
Коля остановился и постукал один сапог о другой, стряхивая налипший снег, а для равновесия уцепился за мою руку:
– Я ничего не знаю. Может, и тебя не Львом зовут. Может, ты величайший любовник в Советском Союзе. Но я смотрю на факты и вывожу умозаключения. Все партизаны – местные. Поэтому им так хорошо все удается – они знают свою территорию лучше любого немца. У них здесь друзья, семьи, им дают еду, пускают ночевать в безопасные места. А теперь скажи мне – сколько отсюда до Архангельска?
– Не знаю.
– И я не знаю. Семьсот километров, восемьсот? Да немецкая граница, наверное, ближе. По-твоему, местные партизаны стали бы доверять какой-то девчонке, которая незнамо откуда взялась? Нет, ее к ним заслали.
Вика брела по снегу впереди, поглубже засунув руки в карманы комбинезона. Сзади она походила на двенадцатилетнего пацана, укравшего робу механика.
– Интересно, у нее титьки есть? – задумчиво спросил Коля.
Грубость его меня раздражала, хотя сам я думал про то же самое. Оценить ее тело под этими слоями мешковатой одежды вообще невозможно, но угадывалось, что она худенькая и стройная, как травинка.
Коля заметил, какое у меня стало лицо, и улыбнулся:
– Я тебя обидел? Извини. Она же по правде тебе нравится, да?
– Не знаю.
– Больше не буду о ней так говорить. Ты меня прощаешь?
– Говори, как хочешь.
– Нет-нет. Я все понял. Но послушай меня – поймать эту рыбку не так-то просто.
– Опять будешь советы давать из этой твоей придуманной книжки?
– Нет, ты послушай. Острить можешь сколько влезет, но про такие дела я знаю больше тебя. Вот моя догадка: она была немножко влюблена в Корсакова. А он мужик покрепче тебя, поэтому силой ее не поразишь.
– Ничего она не была в него влюблена.
– Самую малость.
– И ничем я ее не собирался поражать. Что я, дурак?
– Значит, весь вопрос в том, чем же тогда ее поразить.
Коля надолго умолк – весь нахмурился, обдумывая мои достоинства, даже глаза, кажется, прижмурил. Но придумать ничего не успел – позади раздались крики, охрана стала сгонять нас в кювет. По дороге шла колонна полугусеничных «маультиров»: кузова затянуты брезентом, моторы рычат. Они везли провиант и боеприпасы на передний край. Мы стояли на обочине и смотрели на них минут пять – колонна все не кончалась, медленно ползла мимо. Фашистам было, конечно, плевать, какое впечатление это произведет на пленных, но на меня вот произвело, и немалое. В Питере топливо выдавали по карточкам, в день на улицах увидишь не больше четырех-пяти машин. А сейчас я уже насчитал сорок таких грузовиков: впереди колеса, обутые в резину, позади гусеницы, хищные решетки радиаторов, а сзади белым обведены черные кресты.
За полугусеничными грузовиками шли восьмиколесные бронемашины, тяжелые минометы на гусеничном ходу и легкие грузовики с личным составом. Солдаты сидели на параллельных скамьях, усталые, небритые, все нахохленные в своих белесых куртках, за спиной – автоматы.
Спереди донеслась ругань. Из окон стали высовываться водители – посмотреть, что стряслось. Оказалось, у самоходки слетела гусеница и, пока ее чинили, орудие перегородило всю дорогу. Пехота воспользовалась заминкой – все повыскакивали из кузовов облегчаться. Вскоре уже вдоль дороги выстроилась шеренга из нескольких сот артиллеристов, солдат и водителей: все топали сапогами, орали, подпрыгивали на месте, стараясь разглядеть, кто пустит струю дальше всех. От вмиг пожелтевшего снега на обочине валил пар.
– Вот мудачье, на нашу землю ссыт, – пробормотал Коля. – Ладно, поглядим, как они посмеются, когда я сяду срать у них посреди Берлина. – Эта мысль его приободрила. – А может, и неспроста я ничего из себя выдавить не могу. Кишки победы дожидаются.
– Какие патриотичные у тебя кишки.
– Я весь патриот. У меня залупа свистит «Широка страна моя родная», когда я кончаю.
– Я вас как ни послушаю, у вас одно на уме, – раздался вдруг рядом знакомый голос. Вика подкралась к нам по обыкновению бесшумно. Я даже вздрогнул от неожиданности. – Вы б разделись уже да и оприходовали друг друга.
– Так он не меня раздеть хочет, – гадко осклабился Коля.
Я почувствовал, что весь заливаюсь жарким румянцем злости и стыда, но Вика не обратила на колкость внимания. Она следила только за охраной, которая следила за нами, и посматривала на прочих пленных, сама же тихонько совала нам по пол-ломтя своего настоящего черного хлеба.
– Вы офицерские машины в хвосте колонны видите? – спросила она, глядя в ту сторону, но рукой не показывая.
– В последний раз я такой хлеб летом ел, – с набитым ртом произнес Коля. Он уже все сжевал.
– Видите «коммандерваген» со свастиками? Это машина Абендрота.
– Откуда ты знаешь? – спросил я.
– Потому что мы его выслеживаем уже три месяца. Под Будогощью чуть его не подстрелила. Это он.
– Что делаем? – спросил Коля, выковыривая крошку из зубов.
– Колонна тронется, я дождусь, когда он поравняется с нами, и рискну. Должно получиться.
Я оглядел дорогу – и впереди, и за спиной. Вокруг нас – чуть ли не целый батальон. Сотни вооруженных немцев, и пеших, и на бронемашинах. Викино решение означало, что через несколько минут мы будем покойниками вне зависимости от того, попадет она или нет.
– Стрелять буду я, – сказал Коля. – Вы со Львом отойдите к этим кретинам колхозным. Нет смысла всем подставляться.
Вика скривила губу в подобии улыбки и покачала головой:
– Я лучше стреляю.
– Ты меня в деле не видела.
– Это правда. И я стреляю лучше.
– Неважно, – сказал я. – Кто бы из вас ни стрелял, какая разница? Думаете, нас оставят после этого в живых?
– Парнишка дело говорит, – заметил Коля. Он кинул взглядом неграмотных колхозников вокруг – они переминались с ноги на ногу, похлопывали руками для сугреву… Обычные крестьяне, ничего, кроме родного колхоза, не видели в жизни. К ним затесалось несколько рядовых красноармейцев. Из них парочка, я был уверен, умела читать не хуже меня. – Сколько, они сказали, пленных? Тридцать восемь?
– Уже тридцать семь, – сказала Вика. Она перехватила мой взгляд, ни на миг от нее не отлипавший. Уставилась на меня безжалостными синими глазами. – Как ты думаешь, крестьяне скоро заметят, что тебе кой-чего там не хватает? – Она показала подбородком куда-то мне в низ живота. – И выдадут тебя за миску похлебки?
– Тридцать семь… – задумчиво произнес Коля. – Многовато за одного немца.
– Тридцать семь человек для мартенов? Эти люди уже не русские, – сказала Вика спокойно и довольно равнодушно. – Они германская рабсила. Ими стоит пожертвовать ради одного Абендрота.
Коля кивнул, разглядывая штабной автомобиль в отдалении.
– Значит, мы пешки, а он – ладья? Так, по-твоему?
– Мы меньше пешек. У пешек есть ценность.
– Если мы можем захватить ладью, у нас тоже есть ценность. – Сказав это, Коля моргнул и посмотрел на меня. И неожиданно расплылся в ослепительнейшей самоуверенной улыбке. Некий новый замысел – и явно грандиозный, как и прочие. – Может, есть и другой вариант. Погодите-ка.
– Ты куда? – спросила Вика, но было поздно – Коля зашагал к ближайшей кучке военных. Немцы сощурились, их руки потянулись к предохранителям автоматов. Но Коля поднял руки и затрещал о чем-то по-немецки – оживленно и расслабленно, словно все они собрались парад войск посмотреть. Через полминуты все уже смеялись его шуткам. Один автоматчик даже дал ему затянуться сигаретой.
– Умеет голову вскружить, – произнесла Вика. Так энтомолог отмечает свойства жучиного панциря.
– Может, они решили, что он отбившийся от стаи брат ариец.
– Вы с ним странная парочка.
– Мы не парочка.
– Я не в этом смысле. Не переживай, Лёва. Я знаю, что тебе девушки нравятся.
Лёвой меня называл отец, и услышать это имя из ее уст было неожиданно – но естественно, как будто она меня так звала много лет. Я чуть не расплакался.
– Ты же на него разозлился, правда? Когда он сказал, что тебе хочется посмотреть на меня голую?
– Он вообще много глупостей говорит.
– Так ты не хочешь посмотреть на меня голую?
И Вика издевательски усмехнулась. Она стояла, широко расставив ноги и сунув руки в карманы.
– Не знаю. – Да, это был глупый и трусливый ответ, но перипетий этого утра мне уже хватило. То я убежден, что жить мне осталось всего несколько минут, то со мной кокетничает снайперша из Архангельска. Это она со мной кокетничает? У меня не жизнь, а сплошь череда катастроф. Кажется, днем предстоит невозможное, а вечером это уже преданья старины глубокой. С неба валятся немецкие трупы, на Сенном рынке людоеды торгуют колбасой из человечины, рушатся целые дома, собаки становятся минами, а замороженные солдаты – дорожными указателями; на снегу, покачиваясь, стоит партизан без половины лица и с грустным упреком смотрит на своих убийц. В желудке у меня уже давно не было никакой пищи, на костях – мяса, а в душе – сил, чтобы задумываться об этой кунсткамере зверств. Я просто двигался, рассчитывая где-нибудь найти еще полкраюшки хлеба для себя и дюжину яиц для капитанской дочери.
– Он мне сказал, что отец у тебя был знаменитый поэт.
– Не такой уж и знаменитый.
– Так ты тоже поэтом хочешь стать?
– Нет. У меня для этого нет таланта.
– А для чего есть?
– Не знаю. Не у всех же талант.
– Верно. Что бы нам в детстве ни говорили…
Издали дело выглядело так, будто Коля читает автоматчикам лекцию – они собрались полукругом, а он размахивал руками, чтобы звучало доходчивей. Показал на меня, и у меня сжалось горло, когда все немцы повернулись и посмотрели в нашу сторону. Чем-то он их увлек и позабавил.
– Что он им рассказывает?
Вика пожала плечами:
– Его пристрелят, если он и дальше в том же духе будет.
Солдаты будто в чем-то сомневались, но Коля улещивал их и упрашивал, пока один автоматчик, качая головой, будто ушам своим не верил, слушая того ненормального русского пленного, не закинул «шмайссер» за плечо и не направился к хвосту колонны. Коля кивнул оставшимся, отмочил напоследок еще какую-то шуточку, от которой все опять разулыбались, и пошел обратно.
– Фашисты тебя обожают, – заметила Вика. – Ты им «Майн Кампф» наизусть шпарил?
– Раз пытался ее читать. Очень скучно.
– Так что ты им сказал?
– Что я хочу предложить герру Абендроту спор. Один мой друг – пятнадцатилетний мальчишка из не очень благополучного ленинградского района – сможет сыграть со штурмбаннфюрером партию в шахматы без ферзя и выиграть.
– Мне семнадцать.
– А… Ну будет пятнадцать – так оскорбительнее.
– Ты пошутил, да? – спросила Вика, склонив голову набок и явно рассчитывая, что он сейчас улыбнется и признается, что, разумеется, подобных глупостей никому не говорил.
– Нет, не пошутил.
– А он, ты думаешь, не спросит, откуда ты знаешь, что он здесь? И звание, и что в шахматы играет?
– Думаю, спросит. Ему же любопытно станет, и он к нам подойдет.
– А на что спорим? – спросил я.
– Если он выиграет – пристрелит нас на месте.
– Он в любой момент может нас пристрелить, тупица.
– Солдаты так и сказали. Конечно, может. А я им сказал, что штурмбаннфюрер – человек чести, человек принципа. Я его слову верю. И верю в его спортивный дух. Они же за честь с кровью удавятся.
– А если я выиграю, что нам будет?
– Во-первых, он всех троих отпускает. – Коля заметил, какие у нас лица, и не дал ничего сказать. – Да-да, вы меня идиотом считаете, но сами тугодумы. Сейчас, когда колонна на ходу, играть мы не можем. Если повезет, партия состоится вечером, где-то в помещении, когда вокруг никого не будет. – И Коля обвел рукой немецких солдат, привольно расположившихся группами: они курили и болтали друг с другом. Грузовики с провиантом. Тяжелая артиллерия.
– Он никогда нас не отпустит.
– Само собой не отпустит. Но стрелять в него будет гораздо удобнее. А бог даст, и сбежать получится.
– «Бог даст», – хмыкнула Вика. – Ты вообще за ходом этой войны следил?
Наконец механики натянули гусеницу на самоходную гаубицу. Экипаж попрыгал в люки, через минуту взревел и закашлял мотор, и зверь с огромным стволом вздрогнул и двинулся, хрустя льдом, что нарос на стальных звеньях. Пехота по своим грузовикам разойтись, однако, не спешила – солдаты хрипло прощались, командиры орали. Но вот колонна двинулась, все побросали окурки и побежали вскакивать в кузова уже на ходу.
Солдат, бегавший к Абендроту, вернулся к своим. Заметив, что мы смотрим, он с улыбкой кивнул. Лицо у него было совсем розовое и безволосое, щеки круглые. Эдакий лысый младенец-переросток, вот-вот заревет. Догоняя свой грузовик, он крикнул нам одно-единственное немецкое слово, затем вытянул руки, и товарищи заволокли его в кузов.
– Сегодня, – сказал Коля.
Охрана уже гавкала на нас, хоть и знала, что мы все равно ничего не поймем. Им было все равно – смысл и так ясен. Пленные опять выстроились в колонну, Вика от нас отошла, и мы стали ждать, когда пройдет техника. Мимо проехал штабной автомобиль, и я попробовал рассмотреть внутри Абендрота, но стекло заиндевело.
Тут я вспомнил еще кое-что – оно меня уже некоторое время грызло. Я повернулся к Коле:
– А второе ты что попросил?
– А?
– Ну ты сам сказал: если я выиграю, во-первых, он нас отпустит. А что было во-вторых?
Коля посмотрел на меня сверху вниз. Брови его выгнулись дугами, словно он не поверил, что я сам не догадался.
– Так очевидно же, нет? Дюжина яиц.
23
Вечером мы с остальными пленными уже сидели в хлеву где-то под Пушкином. Здесь пахло мокрой шерстью и навозом. Немцы дали нам щепок, и почти все пленные сбились у робкого костерка, который развели на земляном полу в центре хлева. Все так устали, что о побеге даже не заводили речи. Мужики лишь вяло жаловались, что немцы не кормили нас с утра – а после той галеты нам не давали ничего, – да бормотали насчет завтрашней погоды. Вскоре стали затихать, засыпая прямо на земле и для тепла сбиваясь поближе друг к другу. Мы с Викой и Колей сидели у занозистой стены, дрожали от холода и гадали, состоится наш шахматный поединок или нет.
– Если он за нами пришлет, – сказала Вика, – и нас к нему поведут, будь уверен, всех еще раз обыщут.
– Пленных уже обыскивали. Они что думают – мы пистолеты в хлеву найдем?
– Он знает, что за ним охотятся. Очень осторожный. Пистолеты найдут.
Коля ответил ей долгим и скорбным звуком – испустил газы. Словно взял протяжную ноту на баритон-саксофоне. Вика зажмурилась и несколько секунд дышала ртом. Я тем временем при свете костерка рассматривал ее бледно-рыжие ресницы.
– И все равно, – наконец сказала она, – пистолеты найдут.
– Так и что нам тогда делать – душить его голыми руками?
Вика залезла куда-то себе под одежду, вытащила финский нож из ножен на поясе и выдолбила в мерзлой земле могилку. Когда ямка оказалась достаточно глубока, она положила туда свой пистолет и протянула руку за Колиным.
– Я лучше оставлю.
Но она руки не убирала, и Коля сдался. Забросав оба пистолета землей, Вика расстегнула комбинезон и ремень на брюках. Коля игриво ткнул меня под ребра. Комбинезон спустился с Викиных плеч. Под комбинезоном на ней были толстая клетчатая рубашка и теплое белье в два слоя. Но на миг я углядел грязноватую ключицу. О человеческих ключицах я раньше никогда не задумывался, а у Вики они походили на крылья летящей чайки. Вика вытянула ремень, задрала рубашку и теплое белье под самую грудь, придержав их подбородком, и снова застегнула ремень – прямо на голом теле. Ножны легли над самым солнечным сплетением, и когда она привела одежду в порядок и снова застегнула комбинезон, невозможно было догадаться, что они там.
Потом она взяла меня за руку и положила мою ладонь себе на грудь:
– Чувствуешь что-нибудь?
Я покачал головой, а Коля засмеялся:
– Не то говоришь.
Вика мне улыбнулась. Моя рука по-прежнему лежала у нее на груди, подбитой слоями одежды. Я боялся убрать ладонь – и боялся не убирать.
– Лёва, не слушай его. Его мать через жопу родила.
– Вас наедине оставить? Я могу вон к Ваське уйти спать. Ему там как-то одиноко.
– А с моим ножом как быть? – спросил я.
– Ох, про твой я забыла.
– Давай мне, – сказал Коля. – Я умею им пользоваться.
– Нет, – сказала Вика. – Тебя будут обыскивать тщательнее. Ты один на солдата похож. – Она нагнулась, и я убрал руку, хоть и был уверен, что возможность упустил. Но вот какую возможность? Что мне следовало сделать? Этого я так и не понял. Вика отстегнула ножны у меня с лодыжки и взвесила на ладони. Потом сунула их мне спереди в ботинок и под носок, поглубже. Осмотрела ботинок. Ничего нигде не торчало. Она похлопала по коже и удовлетворенно кивнула.
– Нормально ходить можешь?
Я встал и сделал несколько шагов. Ножны упирались в ногу, но держались.
– Поглядите на него, – сказал Коля. – Бесшумный убийца.
Я опять сел к Вике поближе. Она вдруг коснулась кожи у меня под ухом и провела ногтем вниз по шее и вокруг – до другого уха.
– Здесь разрежешь, – сказала она, – и никто больше не зашьет.
Старшие офицеры айнзацгруппы «А» устроились в занятом райкоме партии над полностью выгоревшим отделением милиции – на этаже с неопрятными кабинетиками, где на полу облезлый линолеум. Во всем здании воняло дымом и дизельными парами, но немцы уже восстановили энергоснабжение и растопили печи. На втором этаже было тепло и удобно. Ну, если не считать отдельных мазков высохшей крови на стенах. Не прошло и пары часов после того, как мы спрятали пистолеты, – за нами пришли два автоматчика и отвели в бывший зал заседаний, где до войны собирался на свои пленумы райком. Окна выходили на темную улицу. На стенах по-прежнему висели портреты Сталина и Жданова – их не оскверняли, будто строгостью своих лиц вожди так мало нервировали немцев, что те даже не сочли за труд их сорвать или изрисовать.
Абендрот сидел в дальнем конце длинного стола для заседаний и пил что-то прозрачное из хрустального бокала. Когда нас ввели в комнату, он кивнул, но не встал. Серая фуражка с высокой туей – черный околыш, под немецким орлом серебряный череп – лежала на столе. А между фуражкой и почти пустой бутылкой неведомой жидкости лежала дорожная шахматная доска. Фигуры уже расставлены.
Я ожидал увидеть подтянутого физкультурника или профессора, но Абендрот не выглядел ни тем и ни другим. Он был довольно массивный, сложен, как метатель молота, и узкий воротничок впивался ему в шею. Тяжелый хрустальный бокал в его лапе выглядел миниатюрным и хрупким, как кукольная чашечка. На вид не больше тридцати, однако стриженные под машинку волосы на висках и щетина на подбородке серебрились. На правой петлице тускло блестели руны СС, на левой – четыре квадратика. А посередине висел черно-серебряный Рыцарский крест.
Выпил он уже изрядно, но его движения были точны. Я с младых ногтей научился распознавать пьяных – даже умеющих пить. Отец пил не сильно, а вот его друзья, все эти поэты и драматурги, заливали за воротник хорошо. Можно сказать, не просыхали. Некоторых при этом развозило, и они при встрече бросались слюнявить меня своими поцелуями, ерошили мне волосы и говорили, как мне повезло, что у меня такой замечательный папа. Другие, выпив, становились холодными и далекими, как луна в небе, – дождаться не могли, когда же я наконец уйду в нашу с сестренкой комнату, оставлю взрослых в покое, чтобы они без помех могли обсуждать Литфонд или выходки Мандельштама. Некоторые после единственной рюмки водки начинали бессвязно бормотать, а других красноречие посещало, лишь когда они выпивали всю бутылку.
У Абендрота подозрительно сверкали глаза. Он то и дело без видимой причины улыбался – видно, сам себе анекдоты рассказывал. На нас он смотрел и ничего не говорил, пока не допил бокал. После чего потер руки и пожал плечами.
– Сливовый шнапс, – сказал он по-русски, довольно чисто, но, как и его коллега у школы, акцента не скрывал. – Один мой знакомый старик сам делает. Это лучшее пойло на свете. Я всегда с собой ящик вожу. Кто-то из вас говорит по-немецки?
– Я, – ответил Коля.
– Где выучил?
– Бабка была из Вены. – Правда это или нет, я понятия не имел, но Коля отвечал так твердо, что Абендрот, похоже, поверил.
– Waren Sie schon einmal in Wien?
– Nein [8]8
– А сами были в Вене?
– Нет ( нем.).
[Закрыть].
– Жаль. Прекрасный город. И никто его до сих пор не бомбил. Но это ненадолго. Наверняка англичане до него доберутся уже в этом году. Вам кто-то сказал, что я играю в шахматы?
– Ваш… коллега возле школы. Оберштурмфюрер, по-моему? По-русски говорит почти так же хо-рошо, как вы.
– Кюфер? С усиками?
– Да-да, точно. Он был очень… – Коля замялся, словно бы не решаясь сказать обидное, – дружелюбный.
Абендрот несколько секунд пристально смотрел на Колю, а потом с веселым отвращением фыркнул. Прикрыв рот запястьем, рыгнул и налил себе еще шнапса.
– Он такой. Да, очень дружелюбный наш Кюфер. А как это вы обо мне заговорили?
– Я ему сказал, что мой друг – один из лучших шахматистов Ленинграда, а он сказал…
– Вот этот твой еврейский друг?
– Ха… он тоже так пошутил, но нет, Лев никакой не еврей. Нос – его проклятие, а вот денег еврейских нет и в помине.
– Удивительно, что Кюфер не осмотрел член этого мальчика, чтобы удостовериться в его расовой чистоте.
И не спуская с меня глаз, Абендрот что-то сказал охранникам по-немецки. Те с любопытством взглянули на меня.
– Ты понял, что я сказал? – спросил он Колю.
– Да.
– Переведи своим друзьям.
– «Моя профессия – распознавать еврея по лицу».
– Очень хорошо. И, в отличие от моего друга Кюфера, девушку по лицу я тоже умею распознать. Сними шапку, дорогая моя.
На долгий-долгий миг Вика замерла. Я не осмеливался на нее посмотреть, но знал – она взвешивает все «за» и «против». Браться за нож или нет? Браться бессмысленно – автоматчики срежут ее, не успеет она и шагу ступить, но, видимо, только бессмысленные жесты нам и оставались. И еще я почувствовал, как рядом со мной весь подобрался Коля: если Вика выхватит нож, он кинется на ближайшего охранника, и после этого все закончится очень быстро.
Неотвратимость близкой смерти меня, как ни странно, не испугала. Я и без того слишком долго боялся; я устал, проголодался – еще и переживать? Но хотя страх мой пошел на убыль, мужества отнюдь не прибавилось. Я так ослаб, что ноги дрожали уже от того, что я стою. Ничто меня больше не заботило, в том числе и судьба Льва Бенёва.
Наконец Вика стащила с головы кроличью шапку и стала мять ее в руках. Абендрот одним махом выпил полбокала, причмокнул губами и кивнул:
– Будешь хорошенькой, когда волосы отрастут. Итак, карты на столе, да? Скажи-ка мне, – обратился он к Коле. – Вот ты неплохо говоришь по-немецки, а по-русски читать не умеешь?
– У меня голова болит читать.
– Разумеется. А ты, – он перевел взгляд на меня, – один из лучших шахматистов Ленинграда, но читать тоже не умеешь? Странно, не так ли? Большинство моих знакомых шахматистов – люди очень грамотные.
Я открыл было рот в надежде, что ложь польется из моих уст так же споро, как из Колиных, но Абендрот поднял руку и покачал головой:
– Не стоит. Вы сдали экзамен Кюферу, это хорошо и достойно уважения. Вы хотите жить. Но я-то не дурак. Один из вас – еврей, выдающий себя за нееврея. Один – девочка, выдающая себя за мальчика. Все, полагаю, грамотные, выдающие себя за безграмотных. И несмотря на старания наших бдительных солдат и усилия нашего уважаемого оберштурмфюрера Кюфера, ваши уловки увенчались успехом. Тем не менее вы приходите ко мне и напрашиваетесь на шахматную партию. Вы специально привлекли мое внимание. Это очень странно. Ясно, что и вы не дураки, иначе вас бы уже давно убили. Вы же не рассчитываете в самом деле, что я вас отпущу, если вы у меня выиграете, правда? А вот дюжина яиц… дюжина яиц в этом уравнении – самый странный икс.
– Я понимаю, что власти нас освободить у вас нет, – сказал Коля, – но я вот что подумал. Если мой друг выиграет, может, вы замолвите за нас словечко перед своим начальством…
– Ну разумеется, у меня есть власть вас освободить. Это не вопрос… А! – Абендрот ткнул в Колину сторону пальцем и кивнул, сдерживая улыбку. – Очень хорошо. Ты умный. Играешь на германском тщеславии. Да, неудивительно, что ты понравился Кюферу. Расскажи про яйца.
– С августа их в рот не брал. Нам же все время еды не хватает, и вот у меня из головы никак нейдет яичница. Весь день по снегу ходишь – в башке одна глазунья.
Абендрот побарабанил по столу пальцами.
– Хорошо, рассмотрим ситуацию. Вы втроем – закоренелые лжецы. Сочиняете какую-то сомнительную байку, чтобы добиться у меня аудиенции… – Абендрот посмотрел на охрану и пожал плечами. – Почти что наедине. Со старшим офицером айнзацгруппы «А», которую все ненавидят. Очевидно, у вас есть информация, которую вы желаете продать.








