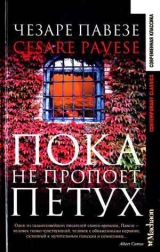
Текст книги "Пока не пропоет петух"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
V
Закончился июнь, школы закрылись, я все время проводил на холме. Я бродил по лесистым склонам под жарким солнцем. За остерией «Фонтаны» земля была обработана, там находились поле и виноградники, и я частенько ходил туда собирать в котловинах травы и мох, отдаваясь своей старой детской страсти, когда я мальчиком изучал естественные науки. Усадьбам и садам я предпочитал возделанные земли и обочины, на которых дикая природа вступала в свои права. «Фонтаны» была самым подходящим местом, оттуда начинались леса. Я не раз и по утрам, и по вечерам видел Кате, но мы не говорили о себе; я познакомился с Фонсо, поближе узнал остальных.
С Фонсо я спорил, шутя. Он был еще мальчиком, ему не исполнилось и восемнадцати лет. «Эта война, – говорил я, – мы все на нее попадем. Тебя призовут в двадцать лет, а меня в сорок. Как наши дела в Сицилии?»[3]3
В июле 1943 г. в Сицилии высадились союзники. (Прим. перев.)
[Закрыть].
Фонсо работал рассыльным на каком-то механическом заводе, каждый вечер он приходил сюда с матерью и сестрами, а утром сломя голову уезжал на велосипеде. Он был циничным шутником, мгновенно загорался.
– Даю слово, – говорил он, – если меня призовут, призывной пункт взлетит на воздух.
– И ты туда же. Ждешь, пока до тебя доберется война. Всегда ждут, пока петух не пропоет, а потом просыпаются.
– Если бы все те, кого призовут, проснулись, – сказал Фонсо, – было бы здорово.
В прошлом году Фонсо в вечерней школе пристрастился к статистике, газетам, к вещам, которые нужно узнавать. Очевидно, в Турине у него были товарищи, которые на все открывали ему глаза. О войне он знал все, никогда не давал мне передышки, что-то спрашивал и обрывал ответ другим вопросом. Он яростно спорил и о науке, о принципах.
Он спросил меня, готов ли я, пока еще штатский, пробудиться.
– Нужно быть бойким, – ответил я, – более молодым. Болтовня не засчитывается. Единственный путь – терроризм. Мы на войне.
Фонсо отвечал, что это не нужно. Фашисты уже дрогнули. Они знали, что проиграли войну. Они больше не осмеливались ставить под ружье людей. Они только ищут возможность, чтобы сдаться, исчезнуть в толпе, сказать: «Теперь занимайтесь этим сами». Все похоже на карточный домик.
– Ты в это веришь? Им нечего терять. Они сдадутся только мертвыми.
Другие, женщины, бабушка Кате слушали.
– Если он тебе говорит, что они мрази, – вмешался хозяин остерии, – можешь ему верить. Он это знает, пусть продолжает.
В «Фонтанах» все знали, что я преподаватель, ученый. Они с большим уважением относились ко мне. Даже Кате иногда охватывала робость.
– Это правительство, – продолжал старик, – не сможет удержаться.
– Но все же держится. Все говорят, «оно умерло», и никто ничего не делает.
– А ты что скажешь? Что ты сделаешь? – серьезно спросила Кате.
Все замолчали и посмотрели на меня.
– Нужно убивать, – сказал я. – Отбить у них охоту. Продолжать войну тут, дома. Ведь свою голову им не приставишь… Но если они будут знать, что, как только пошевелятся, взорвется бомба, то успокоятся.
Фонсо ухмыльнулся и собрался прервать меня.
– Ты это сделаешь? – спросила Кате.
– Нет, – ответил я. – У меня не та закваска.
Бабушка Кате смотрела на нас своими обиженными глазами. «Люди, – говорила она, – вы не знаете, чего это стоит. Никому не надо брать грех на душу. Они тоже когда-нибудь умрут. Сами».
Тогда Фонсо объяснил ей, что такое классовая борьба.
Теперь почти каждый вечер я отправлялся в «Фонтаны» и слушал радио вместе с другими. Мои старухи и слышать не хотели о том, чтобы ловить Лондон. «Это запрещено, – объясняла Эльвира. – Могут услышать на улице». Она сокрушалась из-за того, что я бродил по лесам даже ночами, во время налетов. Была еще одна ужасная бомбардировка Турина. На следующий день две женщины нашли в саду осколок, острый и тяжелый, как железная лопата. Они позвали меня посмотреть на него. Они заклинали меня не подвергать себя опасности. Тогда я им ответил, что в округе полно остерий и повсюду я найду убежище.
Если я оказывался у «Фонтанов» в разгар дня, то воспринимал это как приключение. Я спускался с гребня на пустынную дорогу, которая когда-то была заасфальтирована. Я находился в двух шагах от вершины и меня окружали лесистые склоны. Мысленно я видел машины, путников, велосипедистов, которых еще в прошлом году было здесь много. Сейчас редкостью был и пешеход.
Я задерживался во дворе, чтобы поесть фруктов или что-нибудь выпить. Старуха мне предлагала кофе, воду и сахар. Чтобы у меня был предлог заплатить, я заказывал вино. В эти часы я приходил сюда не из-за Кате, не из-за кого-то еще. Если Кате была здесь, я смотрел, как она хлопочет по хозяйству, спрашивал, о чем говорят в Турине. На самом деле я задерживался здесь только потому, что мне нравилось на опушке леса; я мог бы подняться отсюда чуть выше. Под неподвижным и неистовым июльским солнцем привычный столик, знакомые лица, затянувшиеся приветствия и прощания радовали мое сердце. Как-то Кате выглянула из окна и спросила: «Это ты?» – но даже не вышла.
А вот кто всегда крутился во дворе или за домом, так это Дино, ее сын. Теперь, в каникулы, он попал в руки бабушки, которая позволяла ему повсюду бродить, вытирала ему лицо и звала перекусить. Дино уже не был бледненьким ошалевшим мальчиком, как в ту ночь. Это был худой шалунишка. Теперь он бегал, кидал камни, снашивал башмаки. Не знаю почему, он вызывал у меня почти жалость. Глядя на него, я думал о прежнем недовольстве Кате, о ее неопытном теле, о том, как нам было стыдно в те дни. Должно быть, это случилось в год моего знакомства с Анной Марией. Одинокая и униженная Кате не смогла защититься, кто знает, как это произошло, на танцах или на лугу, с кем-то, кого она презирала, с каким-то несчастным или с каким-нибудь щеголем. А может, была любовь, горячая, преобразившая ее любовь. Но она когда-нибудь расскажет? Если бы в тот вечер на вокзале мы не расстались, кто знает, этот ребенок мог бы и не родиться.
У Дино волосы падали на глаза, на нем была заштопанная маечка. Мне он хвастался своей школой и своими тетрадками с картинками. Я ему сказал, что не изучал в свое время так много предметов, как он, но тоже рисовал. Я ему рассказывал, что срисовывал камешки, орехи, редкие травы. Кое-что я ему набросал.
В тот же день он пошел за мною на холм собирать мхи. Он обрадовался, увидев вероникины волосы. Я ему пообещал, что на следующий день принесу лупу, и он тотчас захотел узнать, насколько она увеличивает.
– Эти крупинки фиолетового цвета, – объяснял я, – будут розы и гвоздики.
Дино трусил за мной к дому; он хотел прийти в усадьбу, чтобы опробовать лупу. Он говорил не заикаясь, уверенно, как со своим ровесником. Но обращался ко мне на «вы».
– Послушай, – обратился я к нему, – может, ты станешь обращаться ко мне на «ты», как к маме?
– Даже ты такой же, как мама, – резко сказал он. – Вы хотите, чтобы мы проиграли войну.
– На «вы» ко мне обращаются в школе, – ответил я весело. А потом я спросил: – Тебе нравится война?
Дино довольно посмотрел на меня: «Я хотел бы стать солдатом. Сражаться в Сицилии. – Потом он спросил меня: – А война придет и сюда?».
– Она уже здесь, – сказал я. – Ты боишься воздушных тревог?
Ничуточки. Он видел, как падают бомбы. Он все знал о двигателях и их типах, у него дома были три зажигательных бомбы. Он меня спросил, можно ли на поле, где шло сражение, на следующий день собрать пули.
– Настоящие пули, – ответил я, – падают неизвестно где. А на поле остаются только гильзы и мертвецы.
– В пустыне есть стервятники, – проговорил Дино, – они погребают мертвых.
– Они их пожирают, – сказал я.
Он засмеялся.
– А мама знает, что ты хочешь воевать?
Мы вошли во двор. Кате и старуха сидели под деревьями.
Дино заговорил потише: «Мама говорит, что война это позор. Что фашисты виноваты во всем».
– Ты любишь свою маму? – спросил я. Он, как это делают мужчины, пожал плечами. Две женщины смотрели, как мы идем.
В те дни я не знал, одобряла ли Кате, что я вожусь с Дино. Старуха – да, ведь он не мешался у нее под ногами. Кате с удивлением смотрела, как Дино крутится около меня, собирает цветы, вырывает у меня из рук лупу; несколько раз она резко его одергивала, как это делают с детьми, которые неуважительно ведут себя со взрослыми. Дино молчал, съеживался, но продолжал, уже, правда, потише. Потом бежал, чтобы показать мне рисунки или части какого-нибудь цветка. И кричал матери, что я обещал ему принести книгу о растениях. Кате хватала его, приводила в порядок волосы, что-то говорила. Мне даже больше нравилось, когда Кате отсутствовала.
Я думал, что Кате ревнует своего сына. Однажды вечером я заметил, что она смотрит на меня с какой-то насмешкой. «Кате, я тебе просто противен?» – спокойно и насмешливо спросил я. Я застал ее врасплох и она опустила глаза: «Почему?» – пробормотала она, обрывая, как всегда, неприятный для себя разговор.
– Тогда мы были совсем молоды, – сказал я. – В нужное время никогда ничего не знаешь.
Чуть позже она меня спросила: «Твои женщины знают, что ты унизился до того, что разговариваешь с нами? Ты им говоришь, возвращаясь ночью, что был в остерии? Как зовут ту калеку, что хочет женить тебя на себе? Эльвира?».
Об этом я ей в шутку рассказывал. «Что с тобой? – удивился я. – Я здесь, с тобой, потому что мне это нравится. Вы все мне нравитесь. Я брожу по лесам и дорогам. Мне с вами так же хорошо, как и на холме».
– Но Эльвире ты об этом не говоришь?
– При чем тут Эльвира?
– Эльвира – мама твоего пса, – спокойно сказала она. – Разве она не хочет знать, где вы бродите целый день?
– Эльвира просто дура.
– Однако тебе там хорошо. Так же, как и с нами.
– Ты ревнуешь, Кате?
– К кому? Ты меня смешишь. Я ревную к Фонсо?
– Но Фонсо – парнишка, – закричал я. – При чем тут он?
– Для тебя мы все ребята, – ответила она. – Мы для тебя, как твой пес.
В тот вечер я больше ничего не добился. Пришли Фонсо, девушки, Дино. Мы болтали, слушали радио, кто-то пел. Появились новые лица. Семейная пара, пострадавшая от войны, знакомые Фонсо. Все что-то пили. Потом подошло время укладывать Дино, он убежал, Кате побежала за ним. Все его ловили, и в темноте кто-то назвал его «Коррадо». «Коррадо, – говорили они, – тот, кого зовут Коррадо, должен слушаться».
VI
Как только Кате вновь вышла во двор, я подошел к ней. Она ничего не заподозрила. Возможно, подумала, что речь снова пойдет об Эльвире, недовольно посмотрела на меня и остановилась.
– Его зовут Коррадо, – сказал я.
Она поглядела на меня с недоумением.
– Это мое имя, – продолжил я.
Она повернула голову на свой привычный манер – дерзко и уверенно. Посмотрела на других и на столики в темноте. И испуганно прошептала: «Уходи, на нас смотрят».
Но я с места не сдвинулся. Она с шутливым вызовом спросила: «А ты не знал, что его так зовут?».
– Почему ты его так назвала?
Она пожала плечами и не ответила.
– Сколько лет Дино?
Она сжала мне руку и сказала: «Потом. Успокойся».
В тот вечер мы долго говорили о войне и воздушных тревогах. Друг Фонсо был ранен в Албании и рассказывал о том, что все уже давно знали: «Я решил жениться, чтобы спать в кровати, – говорил он, а теперь кровать уехала». Его жена: «Мы поспим и в лугах, будь молодцом». Я уселся около старухи, молчал и исподтишка поглядывал на Кате. Мне казалось, что ночь та же, что я вновь нашел Кате, что я разговаривал с ней и не знал, какая она. Каждый раз я бывал все более и более слеп. Мне понадобился целый месяц, чтобы понять, что Дино значит Коррадо. Какое лицо у Дино? Я закрывал глаза и не смог вспомнить его.
Я резко вскочил и зашагал по двору. «Ты меня проводишь?» – спросил я Кате, и она тотчас поднялась. Я шел, меня мутило. Все, моя жизнь разрушена. Я чувствовал себя, как в бомбоубежище, когда дрожат своды. «Я мог еще сделать так много!» – кричал кто-то внутри меня.
Мы шли в темноте. Кате молчала, не нарушая тишины. Она взяла меня под руку, споткнулась и тихо сказала: «Держи меня». Я ее схватил. Мы остановились.
– Коррадо, – промолвила она. – Я поступила плохо, дав Дино это имя. Но видишь ли, это не имеет значения. Мы его никогда так не называем.
– Тогда почему ты его так назвала?
– Я еще продолжала любить тебя. Ты не знаешь, что я тебя любила?
«В этот час, – подумал я, – ты мне уже об этом сказала».
– Если ты меня любишь, – резко сказал я и сжал ее руку, – чей сын Коррадо?
Она молча вырвалась. Она была сильнее меня. «Не беспокойся, – проговорила она, – тебе не надо бояться. Это был не ты».
В темноте мы посмотрели друг на друга. Я чувствовал себя разбитым, весь вспотел. В ее голосе таилась насмешка.
– Что ты сказал? – быстро спросила она.
– Ничего, – ответил я, – ничего. Если ты меня любишь…
– Я больше не люблю тебя, Коррадо.
– Если ты назвала сына моим именем, как ты могла заниматься той зимой любовью с другим?
В темноте я справился со своим голосом, я смирился, я чувствовал себя великодушным. Я говорил с прежней Кате, с отчаявшейся девушкой.
– Это ты занимался со мной любовью, – спокойно ответила она, – а я для тебя ничего не значила.
Это было совсем другое, но что я мог ей сказать? Мне оставалось только возмутиться. Что я и сделал. Она ответила, что можно заниматься любовью и думать совсем о другом. «Ты это умеешь, – повторила она, – ты никого не любишь, но любовью занимаешься со многими».
И вновь, смирившись, я сказал, что уже давно не думаю об этом.
А она опять повторила: «Ты это делал».
– Кате, – я не на шутку разозлился, – по крайней мере скажи мне, кто это был.
Она снова улыбнулась и снова ничего не сказала. «Я тебе уже рассказала о своей жизни в эти годы. Я всегда много работала и билась головой о стену. Первое время было плохо. Но у меня был Дино, и я не могла думать о глупостях. Я вспоминала о том, что ты мне как-то сказал, что жизнь имеет значение только тогда, когда живешь для чего-нибудь или для кого-нибудь…»
И этому я ее научил. Это были мои слова. «Если тебя спросят, для кого ты живешь, – кричал я тогда, – что ты ответишь?».
– Значит, ты меня не презираешь, – улыбнувшись, пробормотал я, – ведь между нами было и что-то хорошее? О тех временах ты думаешь без злости?
– В те времена ты не был злым.
– А теперь – да? – удивился я. – Теперь я вызываю у тебя отвращение?
– Теперь ты страдаешь, и мне тебя жаль, – серьезно сказала она. – Ты живешь один с собакой. Мне тебя жаль.
Я озадаченно посмотрел на нее. «Я больше не добрый, Кате? И с тобой я не такой добрый, как тогда?».
– Не знаю, – сказала Кате, – ты добрый, не желая того. Ты никому не мешаешь, но и ни с кем не сходишься. У тебя никого нет, ты даже не сердишься.
– Я рассердился из-за Дино, – выпалил я.
– Ты никого не любишь.
– Я должен поцеловать тебя, Кате?
– Глупый, – все так же спокойно сказала она, – я не об этом говорю. Если бы я захотела, ты бы уже давно меня целовал. – Минуточку помолчала и продолжила: – Ты как мальчишка, высокомерный мальчишка. Из тех мальчишек, которые, если их коснется беда, если они чего-то лишатся, то не хотят, чтобы об этом говорили, чтобы знали, как они страдают. Поэтому мне тебя жаль. Когда ты разговариваешь с другими, Коррадо, ты всегда злой, ехидный. Ты боишься, Коррадо.
– Это война, это бомбежки.
– Нет, это ты, Коррадо, – сказала Кате. – Ты так живешь. А теперь у тебя страх из-за Дино. Ты боишься, что он твой сын.
Нас позвали со двора. Позвали Кате.
– Возвращаемся, – покорно ответила Кате. – Успокойся. Никто не нарушит твой покой.
Она взяла меня за руку, и я ее остановил. «Кате, – сказал я, – если Дино мой сын, я хочу на тебе жениться».
Она, не смутившись и не засмеявшись, глянула на меня.
– Дино мой сын, – спокойно сказала она. – Пошли.
Я еще одну ночь провел так же, как и первую, когда вновь нашел Кате. На этот раз Эльвира уже давно лежала в кровати. Теперь, когда я дни и ночи проводил на холме, она знала, что я в безопасности и позволяла мне развлекаться. Она только подшучивала надо мной, что я, погрузившись в свои мхи и полевые занятия, не знал названий цветов в ее саду. Например, о каких-то ярко-красных и мясистых я ничего не мог ей рассказать. Когда она об этом говорила, у нее смеялись глаза.
– Плохие мысли, – сказал я ей, – становятся цветами. И ни одно название для них не годится. Иногда и наука заходит в тупик. – Она рассмеялась, ей льстила моя игра. Я думал о той ночи, потому что в букете на столе были и мои цветы. Я спросил себя, если бы Кате их увидела, оценила бы она мою шутку. Возможно, да, но сформулированную иначе, не так замаскированную. В тот вечер я сделал еще раз то же открытие, получил еще одно подтверждение, что был глупым слепцом и на этот раз: Кате была серьезна, владела собой. Кате понимала так же, как я, и даже лучше меня. Прежняя манера говорить с ней нагловато и грубовато больше не годилась. Об этом я думал всю ночь, и в ночной бессоннице ее сарказм увеличивался до гигантских размеров. И это принесло мне покой. Если Кате говорила, что Дино не мой, я не мог не доверять ей.
Об этом я продумал до рассвета. На следующий день за завтраком, когда Эльвира вернулась после мессы, я, смеясь, сказал ей: «Если бы вы знали, что носится в воздухе». А она в церкви Санта Маргерита слышала, что война не сможет продолжаться очень долго, потому что папа Пий XII, произнося речь, посоветовал, чтобы все жили мирно. Достаточно захотеть этого всем сердцем, и наступит мир. Больше не будет ни бомбежек, ни пожаров, ни крови. Ни мести, ни надежды на всемирный потоп. Эльвира была взволнована и счастлива. Я ей сказал, что иду побродить и оставил ее хлопотать у огня.
Так как было воскресенье, то в «Фонтанах» все собрались в субботу вечером. У окна я увидел Нандо, пострадавшего от войны молодожена, увидел сестер Фонсо, которые что-то кричали ему. Я поприветствовал девушек, спросил, не ушел ли Дино уже в лес. Мне показали на луг за домом. Я решил довериться случаю и попросил Джулию сказать мальчику, что я пошел к источнику. Возбужденный огромный Бельбо уже удрал в лес. Я его позвал, приказал лечь на тропинку и подождать Дино. Оскалившись, он показал мне зубы.
Когда я достиг склона и голоса затихли, я себе представил, как эти двое бегут среди деревьев, хорошее для них приключение. Кто знает, вспомнит ли Дино через двадцать лет эти мгновения, запах солнца, далекие голоса, то, как он скользил по камням? Я различил тяжелое дыхание, шорох и появился Бельбо. Пес остановился и посмотрел на меня. Он был один. Я протянул руку и приказал ему: «Прочь отсюда. Возвращайся с Дино. Пошел». Он присел и прижался мордой к земле. «Пошел прочь!». Я нагнулся, чтобы взять камень. Тогда Бельбо вскочил и начал на меня лаять. Я схватил камень. Бельбо медленно вернулся на свою дорогу.
Я спустился ниже источника, в котловину с мясистыми, грязными травами. Среди растений виднелись клочки неба и пустые косогоры. В этой свежести слышался солоноватый запах морской пены. «Какое значение имеет война, кровь, – думал я, – с этим небом среди растений?». Сюда можно было прибежать, броситься в траву, играть в охоту или прятки. Так жили змеи, зайцы, ребята. Война закончится завтра. И все станет, как прежде. Вернется мир, старые игры, обиды. Пролитую кровь поглотит земля. В городах все с облегчением вздохнут. Только в лесах ничего не изменится и там, где упало тело, прорастут корни.
Снова появился Бельбо, вслед за ним, насвистывая, прибежал Дино со своей палочкой. Он сказал, что Джулия ничего ему не передала, но он сам понял, что я его жду. Я его спросил: «Что у тебя на лице?» и, крепко удерживая его, рассматривал, прикасаясь к носу, векам, лбу. Но можно ли сказать, что ребенок похож на взрослого? Я столько раз смеялся над этим. Теперь пришлось заплатить и по этому счету. Дино тревожно смотрел, надувал щеки, фыркал. Вот в таком неприкрытом сопротивлении было что-то от меня. Я пытался в его гримасничанье увидеть себя ребенком. Я подумал, что и у меня, когда я бродил по виноградникам в родных местах, была такая же тонкая шейка.
Потом мы пошли: «Сегодня утром мы дойдем до вершины». Я ему рассказал о том времени, когда давил виноград. «Все мужчины и ребята обязательно мыли ноги. Но у того, кто ходит босиком, они чище, чем у нас».
– Я тоже иногда брожу по лугам босиком, – сказал Дино.
– Ты не очень подходишь, чтобы давить виноград. Мало весишь. Тебе сколько уже исполнилось лет?
Дино ответил. Он родился в конце августа. Но когда я бросил Кате, в ноябре или в октябре? Я никак не мог вспомнить. В тот вечер на станции было прохладно. Был туман… стояла зима? Не вспоминалось. Я помнил только, как мы в августовскую жару возились в кустах на берегу По.
Дойдя до широкой дороги на вершину, мы пошли быстрее. Это был поселок Пино. Отсюда, с балконов домов, нависавших над обрывами, в дымке виднелась бесконечная равнина Кьери.
– Мой отец, – сказал я Дино, – каждое утро до наступления дня проделывал подобную дорогу. Отправляясь на базары, он ехал на двуколке.
Дино семенил за мной, не открывая рта и размахивая палкой.
– Ты знал своего отца? – спросил я.
– Его мама знала, – ответил Дино. – Она говорит, что потом больше никогда его не видела.
– Не знаешь, кем он был?
Дино доверчиво, но нетерпеливо посмотрел на меня. Было ясно, что он никогда об этом не думал.
– А может быть, он умер, – сказал я. – В дневнике нет имени твоего отца?
Дино, глядя вперед, задумался: «Там только мамина фамилия, – гримасничая, ответил он. – Я сирота».
Мы заглянули в двери придорожной остерии, там царила воскресная атмосфера. Бездельники, игравшие в бильярд, разом смолкли и настороженно посмотрели на нас. «Политика! – шепнул я Дино. – Хочешь хлеба и колбасы?».
Дино побежал к бильярду. Я подошел к большому окну в глубине. Отсюда была видна освещенная солнцем равнина. Игроки, на которых смотрел Дино, болтая и размахивая киями, принялись за игру.
Разговор шел о другом. Это были деревенские парни. Некоторые носили черные рубашки.
– Чего ты хочешь? – произнес безвкусно одетый блондин. – Воскресенье для всех.
Они весело рассмеялись, слишком весело и громко. На следующий день, вспомнив об этом, я неожиданно подумал: в то солнечное воскресенье, возможно, в последний раз в остерии при появлении незнакомца пришлось менять тему разговора. По крайней мере, пока длится короткое лето[4]4
После падения фашистского правительства 25 июля 1943 года, до 8 сентября, даты немецкой оккупации, была разрешена свобода слова. (Прим. перев.)
[Закрыть]. Но никто из нас об этом не знал.
Дино уже ел хлеб и следил за киями. В остерию вошел и Бельбо. Убрать их отсюда было трудно. Бельбо обнюхивал пол под столиками. Я сказал Дино, что ухожу и оставляю его одного. Он бегом догнал меня уже почти за деревней.
После обеда в тот день пришла Эгле со своим братом офицером, красивым, худым, смуглым юношей, который, подавая руку, делал легкий поклон. Услышав голоса, я спустился из своей комнаты и нашел их в саду вместе с моими старухами. Молодой человек был недоволен, огорчен, одет в штатское, он говорил о полетах над морем и о чайках. «Скажите вы им, – попросил он меня, – мы, летчики, всегда остаемся в дураках. Всегда в первых рядах. Еще немного, и именно мы прекратим эту войну».
– Занимаетесь ею только вы, простаки, – прервала его сестра.
«В ваши годы, – сказал я ему, – жизнь для нас была гостиной, прихожей. Для нас событием было выйти вечером, сесть на поезд в деревне, чтобы вернуться в город. Мы ждали чего-то, что так никогда и не наступило».
Этот мальчик понял меня мгновенно. И ответил: «Сейчас что-то наступило».
Эльвира слушала нас с удивлением.
Потом она сделал для нас чай. Старуха осторожно спросила: теперь, когда англичане высадились в Сицилии, не может ли война начаться и в Италии.
– Для нас, – сказал юноша, – лучше сражаться в Италии, чем на море или в пустыне. Так по крайней мере мы знаем, что погибнем у себя дома.
– Чисто ли у вас в казармах, – спросила Эльвира, – и есть ли горячая еда? Чашка такого вот чаю?
– Не понимаю, почему нас не пускают на войну, – проговорила Эгле. – Мы могли бы так много сделать и на базах, и на фронте. Развлекать вас, помогать вам. И не только как медицинские сестры.
Брат открыл рот и произнес: «Конечно».
Потом наступил вечер… Не знаю, почему, но в тот вечер я стоял и смотрел в черное небо. Я думал о ночах и об утрах, о прошлом, о многом. О моей странной невосприимчивости ко многому. О моих глупых обидах. Время от времени ночью до меня долетали песни, далекий шум. Я принюхивался к запаху лесов. Думал о Дино, о летчике, о войне. Думал, что я уже стар и что всегда буду жить так же.








