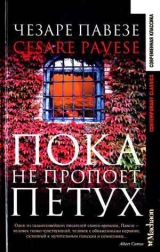
Текст книги "Пока не пропоет петух"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
XII
И на этот раз я пожал плечами. В те дни я частенько пожимал плечами. Светопреставление, которое все давно уже ожидали, наступило. Было понятно, что кажущийся на расстоянии спокойным Турин, уединение лесов, фруктового сада теперь бессмысленны. Однако все шло своим чередом – занималось утро, наступал вечер, поспевали плоды. У меня пробудились надежда и мучительное любопытство: пережить крах, успеть узнать, каким будет мир потом.
Я пожимал плечами, но вбирал в себя слухи. Если иногда я затыкал уши, то потому, что хорошо, слишком хорошо знал то, что происходило, и мне не хватало смелости посмотреть на это открытыми глазами. Спасение казалось делом нескольких дней, может быть часов, все прилипли к радио, пристально смотрели на небо, каждое утро просыпались с тревожной надеждой.
Спасение не приходило. Доходили глухие слухи, первые сведения о пролитой крови. Я вспомнил об остерии в Пино, где в июльский день я последний раз слышал, как при появлении незнакомцев все заговорили тихо, и вернулся туда. Придя в то местечко, поселочек, я теперь все время оглядывался и ко всему прислушивался. Постов еще не было, но повсюду чувствовалась угроза, всюду подстерегали неожиданности. Дороги и поля кишмя кишели беженцами и закутанными в плащи, тряпки, пиджаки солдатами, которые дезертировали из городов и казарм, где зверствовали немцы и неофашисты. Турин был занят без борьбы, как вода заливает деревню; худющие и зеленые, как ящерицы, немцы заняли станцию, казармы, народ бродил туда-сюда, удивляясь, что ничего не происходит, ничего не меняется. Ни волнений, ни крови на улицах, только нескончаемый, покорный, подпочвенный поток беженцев и солдат, который тек по переулкам, заполнял церкви, окраины, поезда. Происходили и другие странные вещи. Это я узнал от Кате, от Дино, из их перешептываний и подмигиваний. Фонсо и другие обзаводились оружием, грабили склады и тайники, что-то прятали и в «Фонтанах». В пригородах беглым солдатам бросали из окон штатскую одежду. Куда они спрячутся от немцев? Понятно, некоторые доберутся до своих домов, но другие, чьи дома были далеко, засосанные войной сицилийцы и жители Калабрии, им где проводить дни и ночи, где найти пристанище?
– Если война немедленно не закончится, – сказал я Эгле и Эльвире, – мы все превратимся в бандитов. – Я это сказал так, чтобы посмотреть, как они засуетятся. И добавил: – Достанется домам буржуа, виллам генералов, которые снюхались с немцами.
Позже, когда я рассказал об этом Кате, она посоветовала мне прекратить. От Дино, который все время проводил на улице, я узнал, что мимо «Фонтанов» проходит много людей, кое-кто попадался на глаза и мне – все бородатые, оборванные, голодные. Там всегда находилась Джулия или жена Нандо; беженцы, болтая обо всем, обменивались новостями, жадно поедая хлеб. Дино мне поклялся, что там побывал даже англичанин, военнопленный, который мог сказать только «привет».
Этот уже привычный беспорядок, эта молчаливая, барахтающаяся лавина людей были как бы отдушиной, скверной компенсацией за нестерпимые новости по радио и в газетах. Бесполезная и размеренная война бушевала вдали. На этот раз, но без надежды на спасение, мы вновь попали в прежние руки, которые теперь уже стали более опытными и на них было больше крови. Вчерашние легкомысленные хозяева зверствовали, защищая свою шкуру и свои последние надежды. Для нас спасение было только в беспорядке, в крушении всех законов. Быть схваченным и опознанным означало неминуемую смерть. Мир, любой мир, который летом казался желательным, теперь выглядел издевательством. Нужно было испить эту нашу судьбу до дна. Какими далекими казались теперь воздушные налеты. Начиналось что-то пострашнее ночных бомбежек и пожаров.
Я слышал, как об этом говорили в остерии в Пино, куда я заходил тайком, потому что она лежала у всех на пути. Я прислушивался и приглядывался, нет ли там немцев или фашистов. Как-то утром я увидел там солдата в потертом плаще на голое тело, на нем еще оставались солдатские башмаки и обмотки. Это был парень из Тосканы, в глубине его глаз крылась усмешка. Он говорил, болтал с посетителями, рассказывая о своем побеге из Франции[9]9
8 сентября 1943 г. там была распущена IV Итальянская армия и солдаты побежали в северную Италию. (Прим. перев.)
[Закрыть], о десяти днях бегства, называл товарищей, смеялся, надеясь добраться до Валдарно. Он не просил ни еды, ни питья. Он был бледным, обросшим, но уже договорился с косоглазой, закутанной в тряпки девицей из заведения, которая из-за стойки поедала его глазами.
– Долину охраняют эти ублюдки, – рассказывал он. – По открытой местности ни за что не пройдешь. Стреляют. Я видел много сожженных деревень.
– Но в горах же нет войны, – сказал кто-то.
– Какая там война… Каратели, – пояснил другой. – Деревня прячет солдата, и немцы ее поджигают.
– Как-то ночью, на мосту… – продолжал тосканец, украдкой поглядывая на девушку.
Все, глотая слюни, слушали его. Тосканец, развеселившись, попросил закурить. Начались рассказы. Заговорили посетители, мирные крестьяне. Леденящие душу, невероятные истории об арестах женщин и детей только для того, чтобы схватить мужчину, об избиениях, завершавшихся прыжками в лестничный колодец, об угрозах и грабежах, о трупах на площади с окурком во рту.
– В войну было лучше, – говорили все. Но все знали, что это и была война.
– Будем надеяться, что хорошая погода удержится подольше, – сказал тосканец.
Я часто бродил в одиночестве по знакомым дорогам, избегая остерии «Фонтаны», Дино, Кате и их разговоров, но речи и тревога, с которыми мы уже свыклись, теперь возникали повсюду, их подстегивало невероятное беспокойство, остатки надежды, все еще допустимый эгоизм. Сейчас, когда и те дни кажутся сном и почти нет смысла в спасении, в глубине всех встреч и пробуждений таятся отчаявшийся мир и радостное удивление, что прожит еще один день, еще один час. Уже больше ни к кому, ни к себе, ни к другим не относятся с почтением, но бесстрастно всех выслушивают.
Хотя я этого и не желал, я просыпался на рассвете и бежал к радио. Ни с Эльвирой, ни с ее матерью я об этом не говорил. Просматривал газету. Каждая новость на месяцы отодвигала окончание войны. Раскинувшийся внизу Турин меня пугал. Теперь пожаров и разрушений было уже недостаточно, чтобы испугать нас. Война пришла к нам, в наши дома, на наши улицы, в тюрьмы. Я думал о Тоно, о его большой, опущенной голове и не осмеливался спросить себя, что же с ним будет.
Эльвира и ее мать, мрачноватые, но снисходительные относились ко мне по-матерински. В этом доме был покой, прибежище, теплота, как в детстве. Иногда по утрам, глядя из окна на верхушки деревьев, я спрашивал, сколько же будет длиться это мое благоденствие. Белые, чистые занавески, за ними темная листва и далекий склон, где среди лесов прятался луг и, может быть, кто-то, замерзая, спал там под открытым небом. Сколько лет каждое утро я видел этот луг, покрытый зеленой травой или холодным снегом? Будет ли все это существовать потом?
Я пытался заниматься, читать книги. Думал взять к себе Дино и обучать его. Но и Дино был частью мира, в котором все перевернулось, Дино был скрытен, неуловим. Я заметил, что он более охотно оставался с Фонсо или с Нандо, чем со мной. Я попросил Кате каждое утро отправлять его в усадьбу, чтобы он не болтался один по улицам – сидя со мною за столом, он мог бы учиться. Тем более, что школы все равно не откроют.
В тот вечер уже было прохладно. Мы сидели на кухне среди кастрюль и тарелок. Фонсо не было, не было и девушек. Без Фонсо разговор не клеился. В те дни, кроме него, никто больше не говорил, чтобы поспорить. Когда мы засветло собирались вместе, я украдкой на них посматривал: на ухмылки Дино, на молчащих женщин… Самыми живыми, смелыми были глаза Нандо, эти молодые глаза, в которых война не оставила своего следа. Теперь его жена была беременна, и к политическому зуду примешивалось беспокойство за нее.
– Профессор, вы будете учить моего сына? – спрашивал он, смеясь, но его веселье было натужным, беззащитным; жена смотрела на нас, надувшись.
Отсюда я уходил, как только раздавался стрекот кузнечиков. В этих местах комендантского часа не было, но все многочисленные тропинки горели у меня под ногами. На дорогах, ведущих в Турин, по ночам трещали нахальные выстрелы, раздавалось «кто идет?» бандитов, следивших за порядком, сейчас игра и насмешка пахли кровью. Я думал о Тоно, уже попавшем в их руки, о выражении лица Фонсо, когда он заговаривал о нем. Фонсо появлялся в «Фонтанах» неожиданно, иногда даже днем; я спросил его, не изменили ли режим работы завода специально для него. Он прищурил глаза и вытащил пропуск рассыльного и ночного сторожа на двух языках. Из всех он был единственным, кто не нервничал в тот последний месяц, а его злые шутки стали более точными и смешными. Его прежние несдержанные выходки, легкомысленная и агрессивная болтовня сменились теперь язвительными улыбками. Было ясно, что у него есть работа, определенная задача, которая его полностью поглотила, но о которой он не говорил. «Было бы время, я охотно бы поболтал, но я занят».
Как-то вечером, когда Фонсо не было, мы вели беседу о войне, рассматривая карты в газетах и в атласе, который я принес, чтобы показать Дино. Все остальное, что я делал для него, его больше не интересовало, давно все его мысли были устремлены в город, где каждый вечер пропадали Фонсо и другие парни, где царили комендантский час, немцы, война. Общение с Фонсо, рассказы Нандо о партизанской войне на Балканах, отдаляли его от меня и от женщин. Нандо поведал нам жуткие вещи о засадах и карательных экспедициях в горах Сербии. «Повсюду, куда приходят немцы, все кончается так. Народ начинает их убивать».
– Дело не только в немцах, – сказал я. – В тех странах и в мирное время на рынок отправляются с ружьем.
Старуха, бабушка Кате, повернулась и посмотрела на нас.
– Тогда это не немцы? – пробурчала сестра Фонсо.
– Немцы не виноваты? – спросила старуха.
– Немцы не виноваты, – ответил я. – Немцы только развязали всем руки, лишили доверия к прежним хозяевам. Эта война намного серьезнее, чем кажется. Сейчас произошло так, что народ увидел, как бегут те, кто раньше им управляли, и его больше никто не сдерживает. Но будьте внимательны, придется бороться не только с немцами, но и с прежними хозяевами. Это война, которая завтра даже может закончиться, не солдат, это война отчаявшихся против голода, нищеты, тюрем, против всех мерзостей.
Меня опять слушали все, даже Дино.
– Возьмите наших, – продолжал я. – Почему они не защищались? Почему позволили схватить себя и отправить в Германию? Потому что они верили офицерам, правительству, прежним хозяевам. Теперь, когда у нас вновь фашисты, они зашевелились, бегут в горы, а кончат тюрьмой. Именно сейчас начинается война, настоящая война отчаявшихся людей. И все понятно. Нужно сказать немцам спасибо.
– И все же надо их убивать, – добавил Нандо.
Дино, не отрываясь, смотрел на меня, на него произвело впечатление молчание, с которым все меня слушали.
– Если те, другие, скоро не придут, – пробормотал я, – и у нас все закончится, как в Черногории.
Старуха бросала на нас разгневанные взгляды; раздавался стук убираемой посуды.
– Наступит день, – произнес я, поднимаясь, – и мертвые появятся во рвах, здесь, на холме.
Кате серьезно смотрела на меня. «Ты так много знаешь, Коррадо, – тихо сказала она, – и ничего не делаешь, чтобы нам помочь».
– Отправь завтра ко мне Дино, – усмехнулся я. – Я научу этому Дино.
XIII
Теперь сомнений больше не оставалось. И у нас происходило то, что годами терроризировало всю Европу: застывшие от ужаса города и деревни, по которым проходили войска, и жуткие слухи. В те дни от страха не умирала только осень. В Турине, на развалинах, я увидел большую мышь, спокойно гревшуюся на солнце. Настолько спокойно, что при моем приближении она и усом не повела. Мышь поднялась на лапки и смотрела на меня. Она больше не боялась людей.
Наступала зима, и я боялся. К холоду я был привычен, как мыши, как все теперь, я привык спускаться в подвал, дыханием согревая руки. Я боялся не лишений, не развалин, возможно, даже не грозящей с неба смерти, но наконец-то разгаданной тайны: всего в двух шагах от пологих холмов, исчезающего в дымке города, благословенного завтра, в любой миг могли происходить зверства, о которых все шепчутся. Город стал более диким, чем мои леса. Та война, в которой я, спрятавшись, жил, убежденный, что принял ее, создав для себя в ней непроницаемый покой, зверствовала, все сильнее жалила, проникала в мозг и обжигала нервы. Я начал оглядываться вокруг, трепеща, как загнанный заяц. Ночами я просыпался, вздрагивая. Я думал о Тоно, об ухмылках Фонсо, о заговорах, о пытках, о недавних смертях. Я думал о странах, где так жили уже больше пяти лет.
И газеты – до сих пор еще выходили газеты – допускали, что в горах, там и сям, было и есть сопротивление. Обещали наказания, прощения, муки. Отставшим от своих частей солдатам говорили: родина вас понимает и зовет вас. До сих, говорили, мы ошибались, теперь обещаем вам поступать лучше. Приходите спасти нас, спасите нас, ради Бога. Вы – народ, вы наши сыновья, вы предатели, подлецы, трусы. Я заметил, что пустословие прежних лет уже не вызывало смеха. Цепи, смерти, общая надежда приобретали страшный и повседневный смысл. То, что раньше носилось в воздухе и было только словами, теперь хватало за живое. Иногда мне хотелось стыдиться себя.
Но я молчал. Я хотел бы исчезнуть, как мышь. Животные, думал я, не знают того, что происходит. Я завидовал животным. В моих женщинах в усадьбе было хорошо то, что они ничего не хотели знать о войне. Эльвира тотчас поняла, что в этом ее сила. Теперь и холод загонял меня домой, и, возвращаясь из Турина, из сада, после бесполезного бродяжничества по пожелтевшему, оголенному холму, забывая на мгновение в тепле норы вечные и однообразные тоску и страх, я чувствовал себя там почти хорошо. И этого мне хотелось стыдиться.
В ноябре по утрам приходил Дино, мы занимались по его учебникам, я заставлял его говорить о том, что он знал. Внезапно он прекращал рассказывать урок и переходил на последние слухи, переданные ему каким-нибудь прохожим, о немцах, о патриотах в зарослях. Он уже знал о первых невероятных нападениях, о злых шутках, о казненных шпионах. Если входила Эльвира, он замолкал. Каждое новое сообщение я воспринимал, как рождение новой легенды, и думал, что только мальчик, который всему удивляется, может жить среди этих легенд, ничему не удивляясь. То, что я не был мальчиком, как Дино, было просто случайностью, я им был двадцать лет тому назад и то, чему я удивлялся тогда, было совсем ничтожно. «Вот, – говорил я, – если я умру во время этой войны, от меня останется только мальчик».
– Ты больше не надеваешь ту белую матроску? – спросил я его.
– Надеваю, в школу. А когда откроются школы?
Даже Эльвира, которая после урока подзывала его к буфету и угощала сладостями, хотела знать, вернется ли он в школу, есть ли у него сестры, помнит ли он своего отца. Дино отвечал, паясничая, но вместе с тем и недовольно хмурясь.
– Он похож на меня, – говорил я Эльвире. – Когда я был мальчиком и меня кто-то целовал, я вытирал щеку рукавом.
– Дети, – говорила Эльвира, – современные дети. Мать работает, и ребенок болтается сам по себе.
– Но в любой крестьянской семье мать работает, – объяснял я. – Так было всегда.
– А она работает санитаркой? – спрашивала Эльвира. – И они живут в остерии?
– Что вы прицепились к этой остерии. Сейчас такое творится…
После тех слез Эльвира больше ни разу не выдала себя. Все, что происходило: мертвецы, пожары, угнанные в концентрационные лагеря, зима и голод очень легко выводили меня из равновесия, и я срывался на крик, но, чтобы прийти в отчаяние из-за капризов, из-за сердечных переживаний, было необходимо спокойное время. Впрочем, о любви, о ее бессмысленной любви мы никогда не заговаривали. Ярко-красные цветы в саду завяли, да и весь сад засох и стал унылым. Налетел сильный ветер и оборвал всю листву. Я сказал Эльвире, нужно благодарить судьбу за то, что у нее есть дом, очаг, теплая постель и суп. Пусть благодарит. Кому-то еще хуже.
– Я всегда видела, – сказала она, задетая за живое, – беда приходит к тому, кто ее ищет.
– Например, Италия, вступив в войну.
– Я говорю не об этом. Достаточно выполнять свой долг. Верить…
– Подчиняться и сражаться[10]10
Один из девизов Муссолини. (Прим. перев.)
[Закрыть], – продолжил я. – Завтра вернусь с кинжалом и черепом[11]11
Символы итальянских фашистов. (Прим. перев.)
[Закрыть].
Она с испугом, чуть прищурившись, посмотрела на меня.
Казалось чудом, что погода не менялась. Каждое утро немного тумана, дымка, потом яркое солнце. Стоял ноябрь, и я думал о том беглеце из Вальдарно, добрался ли он до дома.
Я думал о других, о несчастных, оставшихся без крова. Счастье, что хорошая погода удерживалась. Холм был прекрасен, в лесах встречались логовища из шуршащей листвы. Я частенько думал, что, при необходимости, тут можно будет спрятаться. Я не завидовал восемнадцати– и двадцатилетним мальчишкам. В Пино появились военные плакаты. Республика возрождала войско. Война вынуждала.
Позже открылись школы. Ко мне пришел один мой коллега, учитель французского языка, толстый и грустный человек, с которым я давно не разговаривал. Он, сидя напротив Эльвиры, ожидал меня в гостиной.
– О, Кастелли.
Кастелли, оглядевшись, произнес: да, это настоящий дом. Он жил в городе, снимал комнату, теперь же хозяева уехали в деревню, оставив его одного в огромной квартире.
– Тут хотя бы есть печка, – проговорил он, даже не улыбнувшись.
Потом Эльвира пошла варить для нас кофе. Я что-то, шутя, сказал о школе. Кастелли рассеянно, как бы думая о чем-то другом, слушал. Такой толстый, такой неловкий он и в этот раз вызвал у меня жалость.
Когда Эльвира принесла кофе, мы еще не закончили. Я сказал Эльвире: «Капельку, я не заслужил». Я смотрел, как Кастелли маленькими глотками прихлебывает кофе и думал: «Бедняжка. Ведь он отец семейства. Почему же живет один?».
Подойдя к двери, я спросил: «Ну, Кастелли, что случилось?».
Он открыл свою душу только на улице, на холоде. Я накинул пальто, и мы шли по щебню. Он меня спросил, скоро ли закончится война. Он уже спрашивал об этом в гостиной. «Но ты же не призывного возраста, – сказал я. – Ты же старше меня».
Но Кастелли тревожило совсем не это. «Паяцы», – возмущенно бормотал он. Но это не была политическая оценка. Кастелли не разбирался в политике. Он жил один. Но кто-то ему сказал, что преподавать в школе значит принять республику, признать новое правительство. «Можно ли им доверять? – вдруг спросил он, – если бы мы хотя бы знали, в чьи руки попали».
– В прежние, – успокоил я. – Да брось ты! Только сейчас они побойчее.
– Но как все закончится? – настаивал Кастелли.
– Кто тебя взбудоражил? Чего ты боишься?
Я так и знал, учитель физкультуры, бывший фашист, командир отряда. Он уже всех обвинил в соглашательстве и легкомыслии по отношению к фашистской войне. «Необходимо решиться, – заявлял он, – родина превыше личных чувств».
– И это тебе говорил Лучини? – спросил я Кастелли. – Тогда он или шпион, или же война на самом деле закончилась.
Потом мне было неприятно, что я сказал ему это. Кастелли ушел, как побитая собака, и я понял, какие подозрения, страхи, сомнения терзали его душу. Он ушел, сгорбившись, и я вновь подумал о Тоно.
В школе об этом не заговаривали. Я вновь увидел коллег, увидел Лучини, потихоньку возобновились занятия, но в старших классах кое-кто из ребят отсутствовал. Казалось нелепым вновь встречать около входа сторожа, слышать визг ребят, давать задания. Звон колокола напоминал недавние времена и каждый раз заставлял невольно вздрагивать. В холодных классах приходилось сидеть в пальто, все казалось временным, как будто мы готовились к отъезду. Я вновь стал есть в моей траттории, ходить, нигде не задерживаясь, избегать людей, но с Кате встречался.
Вечером с нею и Дино мы поднимались на холм.
– Были бы деньги, – сказал я Кате, – чтобы не зависеть от других. – Забиться подальше в деревню и не выходить оттуда.
– Мне кажется, у тебя есть все, – ответила Кате. – Или кому-то лучше?
Я почувствовал, что краснею. «Это просто каприз, не обращай внимания, – поспешно добавил я. – Я пошутил».
– Не думай об этой войне так, будто она была тебе нужна, – проговорила она. – Если можешь, конечно.
Мы сразу замолчали. Дино трусил по дороге рядом со мной.
– Мне только хочется, чтобы все закончилось, – сказал я.
Кате резко подняла голову. Но ничего не сказала. «Да, я знаю, – пробурчал я, – единственное средство – не думать и работать. Как Фонсо, как другие. Броситься в воду, чтобы не чувствовать холода. Но если ты не любишь плавать? Если тебе не хочется добираться до той стороны? Твоя бабушка правильно сказала: у кого есть кусок хлеба, тот не дергается».
Кате молчала.
– Выскажись, наконец, синьора.
Кате мельком посмотрела на меня и слегка улыбнулась: «Я уже сказала то, что тебе хотелось».
Она опустила глаза и остановила свой взгляд на Дино. Это был как бы намек, недомолвка, как бы мимолетное напоминание. Возможно, невольное раздумье, обещание. «Кроме того, не забывай, – казалось, говорила она, – ведь есть и Дино…» Об этом я уже давно думал. Но о подобных вещах никогда не говорят. Даже простое подозрение меня раздражало. «Вообще-то, – подумал я, – что она вообразила? Да плевать мне на Дино».
– Заниматься этим или не заниматься, – громко произнес я, – всегда дело случая. Нет никого, кто бы начинал. Патриоты и подпольщики – это все уклонившиеся от службы, отставшие от частей, те, кто давно себя скомпрометировал. Люди, уже прыгнувшие в воду. Им все равно.
– Многие не скомпрометированы, – сказала Кате. – Каждый день приходит кто-то, кто спокойно мог бы оставаться дома. Возьми Тоно…
– Ах, но и тут бабушка права, – воскликнул я, – это рок класса. Вас к этому подводит ваша жизнь. Поэтому-то будущее в фабриках. Из-за этого вы мне и нравитесь.
Кате ничего не отвечала и улыбалась.








