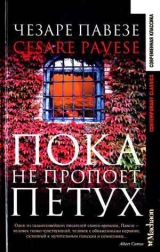
Текст книги "Пока не пропоет петух"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
IX
Я несколько дней не спускался в Турин, довольствовался газетами и непривычной свободой слушать и клеймить кого угодно. Отовсюду приходили слухи, сплетни, все надеялись. Вверху, в особняках, никто не думал о том, что старый мир сокрушили не противники, а он сам уничтожил себя. Но разве кто-нибудь кончает жизнь самоубийством, чтобы на самом деле исчезнуть?
На следующий день Эльвира уже успокоилась, она слишком хорошо меня знала. Правда, увидев меня, она покраснела. Мать попробовала подшутить над нами, но я так резко оборвал ее: «Только этого и не хватало», что у нее пропало всякое желание, а Эльвира окаменела, как вдова в трауре. Потом стала поглядывать на меня, как верный пес, как терпеливая сестра, как жертва. Бедняжка, она не притворялась, она страдала, это уж точно. Что мне было делать? Я уже пожалел, что пошутил с ней по поводу тех цветов, именно это-то подогрело ее и дало ей надежду.
Пока она ночью бродила по дому, я ловил всевозможные станции. Уже было ясно, что война, хотя и бесцельно, но продолжается. Небесная передышка закончилась, союзники объявили о новых воздушных налетах. Я открывал дверь и видел Эльвиру, которая нелюбезно спрашивала о новостях в мире. Это была уловка, чтобы поговорить со мной, она хотела, чтобы война никогда не закончилась, потому что в тот день поняла, что если что-то меняется к лучшему, я ускользаю у нее из рук.
День в «Фонтанах» с Кате и Дино приносил мне облегчение. Мне даже не надо было показываться во дворе, достаточно было пройти по знакомым тропинкам, знать, что Дино там. Иногда мне удавалось удержать Бельбо, и я, незамеченный, стоя за оградой, подглядывал. Во дворе был старик, хозяин, который, жуя окурок, прополаскивал большие бутыли. Низенький коренастый человечек, он то и дело нырял в погреб, нагибался, чтобы подобрать гвоздь, изучал решетку окна, выпрямлял побег виноградной лозы на каменной ограде. Когда я видел его, казалось невозможным, что идет война, что что-то ценится больше чем гвоздь, ограда, возделанное поле. Старика звали Грегорио. А бабушка Кате частенько в полдень кричала пронзительным голосом, совсем как сорока, она сердилась на Дино, на соседей, на весь мир. В те дни, когда Фонсо, Нандо и девушки проводили ночь в Турине, только ее крики, даже вечером, когда Кате возвращалась, говорили о том, что в «Фонтанах» кто-то есть. Казалось, что дом заброшен, здесь никто не живет, что это часть леса. И так же, как в лесу, тут можно было только подглядывать, выслеживать, а не жить и полностью владеть им, познать его.
Когда я спрашивал Дино, рисует ли он еще, то он пожимал плечами и чуть позже приносил мне тетрадь. Тогда мы говорили о птицах, о кузнечиках, о геологических отложениях. «Почему, – спрашивал я себя, – я не могу быть рядом с ним, как раньше, когда я даже не мог представить себе всего этого?». Если теперь Дино не очень восторженно принимал меня, то потому, что я слишком надоедал ему, вел себя, как его отец. Странно, думал я, с детьми происходит так же, как и со взрослыми: им не нравится, когда слишком о них заботятся. Любовь надоедает. Но были ли любовью тревога Эльвиры обо мне, моя болтовня с Дино и то, что для него я делался мальчиком? Существует ли любовь не эгоистичная, которая не хочет превратить мужчину или женщину в то, что удобно именно тебе? Кате мне это разрешала, позволяла занять ее место около Дино, бродить по лесам. Возвращаясь вечером, она бросала на нас непроницаемый, насмешливый взгляд и спокойно выслушивала похвальбы Дино. Иногда я думал, что и ей это удобно. Ведь для Дино общение со мною было учебой, приносило пользу.
В восторг его приводили только доисторические чудовища и жизнь дикарей. Я приносил ему и другие книжки с картинками, и мы играли, воображая, что в той котловине у тропинки, ведущей в Пино, среди мхов и папоротников, в зарослях полевого хвоща находится логовище мегатериев и мамонтов. Его влекли истории о научных заговорах, об адских машинах, о механических народцах, обо всем этом он читал в своих комиксах. В Турине жил Круското, его школьный друг, который целые дни проводил в подвале, что-то вырезал из алюминия и латуни, развешивал проволоку, оборудуя «подземную систему для защиты домов». Их, избранных, было немного. Он говорил о Гордоне, о Желтых людях и о докторе Мистерьозусе[5]5
Персонажи комиксов.
[Закрыть]. Когда налеты только начались, они проводили опыты и военные советы. С ними была и Сибил, девочка леопардов; роль Сибил исполняли разные девчонки, но им не нужно было находиться в подвале: враги похищали Сибил, и ее требовалось спасать. Дино обо всем этом рассказывал при Кате и при бабушке, он метался, подражал голосам и выстрелам, смеялся над всеми. Особенно он высмеивал сцены с Сибил. И я знал почему.
Когда мы бродили вдвоем, он был другим. О Сибил Дино не заговаривал. Я это понимал. Девушка среди мужчин – это всегда что-то непристойное. Когда-то такое было и со мной. Мы появлялись среди зарослей и оглядывались вокруг. Там, где для Дино были племена, погони, удары копья, я видел красивые опушки, склоны, вьюнок, который переплелся с камышами. Но общим у нас было одно: мысли о женщине, о сексе, этой жгучей тайне не вписывались в лес, не тревожили нас. Для меня все промоины, корни, опушки каждый раз напоминали о пролитой здесь крови, о жестокости жизни, но в лесу мне не удавалось как следует подумать о другой крови, о другой первозданной вещи, то есть о совокуплении с женщиной. В лучшем случае, красные цветы Эльвиры, которые вызывали у меня смех. Теперь и Дино смеялся, – почему? – над женщинами, над Сибил. Он становился неуклюжим, пожимал плечами, увиливал от ответа. Что он знал? Инстинкт или опыт, все равно. Мне нравился наш молчаливый сговор.
Скоро возобновились воздушные тревоги и налеты. Начались первые грозы, но августовская луна на промытом небе освещала даже крышки канализационных люков. Вновь появились Фонсо и другие. «Эти идиоты англичане, – говорили они, – не знают, что достаточно одного воздушного налета, чтобы погубить подпольную работу целого месяца. Когда горит дом, приходится убегать и нам».
– Они прекрасно об этом знают. Им не нужна наша работа, – ответил Нандо. – Они все заодно.
В тот вечер среди нас был и гигант в спецовке. Его звали Тоно. Он сказал: «Война – всегда война» и покачал головой.
– Вы меня смешите, – сказал я. – Мы на поле битвы. Если англичане разрушили барак фашистов, то совсем не для того, чтобы построить особняк и отдать его нам. Им не нужны завалы на поле сражения, вот и все.
– Но мы есть, – ответил Фонсо, – и не так-то легко от нас избавиться.
– Не легко? Достаточно поджечь сухую траву. Они этим и занимаются.
Заговорил Нандо: «Война – это работа кротов. Достаточно забраться под землю».
– Ну и забирайтесь, – закричал я. – Прячьтесь и прекращайте все это. Пока в Италии останется хотя бы один немец, бесполезно даже думать об этом.
Джулия или другая, не помню, сказала: «Учитель рассердился».
А Кате проговорила: «Кто просил тебя дергаться?».
Все посмотрели на меня, даже Дино.
Каждый раз я давал себя клятву молчать и слушать, кивать, качать головой и слушать. Но это осторожное лавирование между тревогой, ожиданием и пустыми надеждами, в котором сейчас я проводил свои дни, было создано для меня, нравилось мне, я бы хотел, чтобы оно длилось вечно. Нетерпение других могло его разрушить. Я уже давно привык не дергаться, позволяя миру сходить с ума. Теперь поступки Фонсо и других могли поставить все под сомнение. Вот почему я сердился и вступал в спор.
– С тех пор, как пал фашизм, – сказал я, – я не слышал, чтобы вы пели. Почему?
– Ну, споем, – проговорили девушки. Зазвенели голоса, зазвучали прежние, вчерашние песни. Дино запел «Красное знамя»[6]6
Песня итальянских партизан. (Прим. перев.)
[Закрыть]. Взволнованно, смеясь, мы пропели один куплет, но спор уже вновь разгорелся. Выступил Тоно, гигант: «Когда будут выборы, тогда и поработаем».
Как-то в один из тех вечеров, когда мы во дворе ожидали отбоя воздушной тревоги, бабушка Кате поведала мне свои мысли. Я только что сказал Фонсо: «Если итальянцы будут серьезно ко всему относиться, то понадобятся бомбы». Тут старуха и проговорила: «Скажите об этом тем, кто работает. Для тех, у кого есть кусок хлеба и кто может отсиживаться на холме, война одно удовольствие. Вот такие люди, как вы, и довели до войны». Она сказала это спокойно, без всякой злобы, как будто я был ее сыном.
Этого я не смог стерпеть. «Если бы все были, как он…», – проговорила Кате. Я не ответил. «У каждого своя шкура, что за дела», – вмешался Фонсо.
– И мы, мама, – продолжила Кате, – приходим на холм, чтобы поспать.
Теперь старуха стала бурчать. Растерянный, я спрашивал себя, знала ли она, насколько справедливо и глубоко меня ранила. Они не рассчитывали на то, что другие их защитят. Смысл был в том, что и они меня унижали.
Заговорил Тоно: «Все пытаются спастись. Мы боремся за то, чтобы все, даже хозяева, даже наши враги поняли, в чем спасение. Поэтому социализм и не хочет больше войн».
Тотчас вмешался Фонсо: «Минуточку. Но ты не говоришь, почему рабочему классу всегда приходится защищаться. Хозяева удерживают свое господство войнами и террором. Уничтожая нас, они продвигаются вперед. И ты заблуждаешься, что они поймут. Они все уже прекрасно поняли. Поэтому они и продолжают».
Тогда и я вновь ввязался в разговор: «Я говорю не об этом. Я говорю не о классах. Понятно, Фонсо прав. Но мы итальянцы все такие, подчиняемся только силе. Потом, отговариваясь тем, что была сила, смеемся над собой. Никто не воспринимает ее всерьез».
– Буржуи точно нет.
– Я говорю о всех итальянцах.
– Учитель, – опустив голову, спросил Нандо, – вы любите Италию?
Вновь все лица повернулись ко мне: Тоно, старуха, девушки, Кате. Фонсо улыбнулся.
– Нет, – спокойно произнес я, – не Италию. Итальянцев.
– Вот моя рука, – сказал Нандо. – Мы поняли друг друга.
X
Через несколько ночей Турин превратился в огромный костер. Налет продолжался больше часа. Несколько бомб упало на холм и в По. По одному аэроплану с остервенением строчила зенитная батарея. На следующий день узнали, что погибло несколько немцев. «Мы зависим от немцев, – говорили все, – нас защищают они».
Вечером следующего дня новый, еще более ужасный воздушный налет. Было слышно, как рушатся дома, как дрожит земля. Люди опять убегали из города, опять спали в лесах. Мои женщины, стоя на ковре на коленях, молились до самой зари. На следующий день я спустился в пылающий Турин, и повсюду все и вся молили о мире, о конце. Газеты обливали друг друга грязью. Ходили слухи, что немцы приободрились, что Венето заполнили немецкие дивизии, что у наших солдат приказ стрелять по толпе. Из тюрем, из ссылки возвращались политзаключенные. Папа произнес еще одну речь, призывая к любви.
Ночь прошла спокойно, хотя нервы у всех были напряжены (на этот раз досталось Милану), потом опять ночь огня и разрушений. Вражеское радио каждый вечер повторяло: «Так будет каждую ночь. Сдавайтесь». Теперь в кафе, на улицах спорили только о том, как сдаться. Сицилия была полностью оккупирована. «Мы будем вести переговоры, – говорили оставшиеся фашисты, – но сначала враг должен уйти с земли нашей родины». Другие проклинали немцев. Все ждали, когда союзники высадятся около Рима и Генуи.
Возвращаясь на холм, я понимал, насколько ненадежно это убежище наверху. Казалось, что молчаливые леса чего-то ждут. И небо было пустым. Мне хотелось стать корнем, червяком, скрыться под землей. Меня раздражала мрачная Эльвира, ее голос и ее взгляды. Я прекрасно понимал жестокость Кате, которая обо всем этом не хотела больше слышать. В это время было не до любви, впрочем, для нее времени никогда и не было. Все прошедшие годы привели нас к этому, приперли нас к стенке. Галло, Фонсо, Кате, все, каждый по-своему, сами того не сознавая, жили в ожидании этого часа, подготавливая себя к этой судьбе. Такие люди, как Эльвира, встретившие ее неподготовленными, меня только раздражали. Я отдавал предпочтение Грегорио, который по крайней мере был старым, был как земля, как деревья. Я отдавал предпочтение Дино, таинственному ростку потаенного будущего.
Эгле сообщила мне, что ее брат опять сражается. И у него была своя судьба. Что еще мог делать этот парень? Таких как он, которые не имели веры в войну, но война стала их судьбой, – война шла повсюду и никто не научил их заниматься чем-нибудь другим – было много. Джорджи – человек немногословный. Он только сказал: «Мой долг там, наверху». И вновь отправился воевать. Он не протестовал, не пытался понять.
Кто протестовал, но все равно не понимал, так это его близкие. Об этом я узнал от Эгле, которая каждое утро в поисках молока, яиц, сплетен проходила около калитки. Она останавливалась, чтобы поболтать со старухой или с Эльвирой, и в слухах, в шепоте я слышал отзвуки разговоров в гостиной Джорджи, хорошо известного мне мира, кабинета ее отца, собственника и промышленника. Как дела на войне? Хуже чем прежде. Что сделали фашисты, позволив себя свергнуть? Еще один великий, благородный поступок, жертва, чтобы возродить мир и согласие в стране. И как же на это ответила страна? Ответила забастовками, предательством и местью. Пусть продолжают. Есть тот, кто об этом думает. Все вернется на круги своя раньше, чем мы думаем.
Так ворчала мать Эльвиры, так начала и Эгле, которая всех видела и обо всех все знала. «Мы» говорила она, подразумевая отца, гостиную, особняк. «Кто больше нас пострадал от войны? Наш дом в Турине разрушен. Там остался привратник. Нам приходится жить на холме. Мой брат опять воюет. Два года он рискует собой и сражается. Почему эти бунтари недовольны нами?».
– Какие бунтари?
– Да все. Люди, которые еще не поняли, почему мы воюем. Бандиты. И вы с ними знакомы.
Сказав это, она, наклонив голову, такая у нее была привычка, мне подмигнула.
– Я не знаком с бандитами, – отрезал я, – я знаком с людьми, которые работают.
– Вот вы и рассердились, – она весело взглянула на меня. – Мы знаем, что вы ходите в остерию, знаем, кто там собирается…
– Бред какой-то, – резко оборвал я, – и кто же там бандиты?
Эгле замолчала и с обиженным видом опустила глаза.
– Я знаю только тех бандитов, – сказал я, – которые навязали нам войну, и тех, кто на них еще надеется.
Тяжело дыша, она гневно смотрела на меня. Она напоминала пойманную на месте преступления, разозлившуюся школьницу.
– Твой брат ни при чем, – ответил я. – Твоего брата обманули, он расплачивается за других. По крайней мере он смелый. У других и этого нет.
– Он очень смелый, – раздраженно подтвердила Эгле.
На этом мы расстались. Но история с остерией только начиналась. Как-то, когда я вошел на кухню, где Эльвира взбивала сливки (кухня была ее царством, она хотела соблазнить меня сладостями, но мать не одобряла ее ухищрений), я ей сказал: «Голод сюда не добрался».
Она подняла голову: «Больше ничего нельзя найти. Ни яиц, ни масла, даже за деньги. Все скупают те, кто раньше ел вареную картошку».
– У нас всегда все есть, – ответил я.
Эльвира нахмурилась, повернулась ко мне спиной и пошла к печке.
– Все скупают остерии, где шумно кутят до утра.
– И спят на земле, – продолжил я.
– Я ничего не хочу знать, – взорвалась, повернувшись ко мне, Эльвира. – Они не такие люди, как мы.
– Это уж точно, – подтвердил я, – намного лучше нас.
Прижав руки к горлу, она с возмущением смотрела на меня.
– Спросите Бельбо, – предложил я, – он, как и я, ладит с этими людьми. Только собаки и могут оценить ближнего.
– Но они…
– Бандиты, я знаю. И слава Богу. Вы думаете, что в этом мире есть только попы и фашисты?
Почему я так говорил, я давно забыл. Я только знаю, что Кате не ошибалась, говоря, что я был злым, высокомерным, и что я боялся. Она также сказала, что и добрым я был против своей воли. Этого я не знаю. Но каждому я говорю противоположное, всегда стараюсь казаться другим. И я чувствовал, что время поджимает, что все было бесполезно, тщетно, уже отжившим. В тот день, когда мы поцапались с Эльвирой, точнее в полдень, неожиданно прозвучал сигнал тревоги. Холм, долина, далекий Турин все притихло под тревожным небом. Я остался в саду. Я спрашивал себя, сколько в этот миг замерло сердец, сколько листьев на деревьях задрожало, сколько собак прижалось к земле. И земля, и холм и все, что его покрывало, должны были содрогнуться от ужаса. Я вдруг понял, насколько глупым и ничтожным было то, что я, даже гуляя с Дино, продолжал радоваться лесам. Под летним небом, окаменевшим от воя сирены, я понял, что всегда играл роль безответственного мальчишки. Разве для Кате я не был таким же ребенком, как Дино? Кем я был для Фонсо, для других, для себя?
Я долго, трясясь от страха, ожидал гула моторов. Тревогу этих дней, непереносимую в этот час, могло прогнать только какое-нибудь огромное, непоправимое несчастье. Но не было ли и это моей привычной игрой, моим пороком? Я думал о Кате, Фонсо, Нандо, о несчастных туринцах, которые, скопившись в бомбоубежищах, как в катакомбах, пережидают тревогу. Кто-то шутил, кто-то смеялся. «Макароны совсем разварятся», – говорили они.
Кровь и жестокость, подземелья, заросли, не были ли и они игрой? Не были ли и они такими же дикарями и комиксами Дино? Если Кате умрет, подумал я, кто позаботится о ее сыне? Кто будет знать, мой ли это сын?
Шум насоса заставил меня вздрогнуть. Вышла Эльвира и сказала: «Все на столе».
В полной тишине, во время тревоги молчало и радио, мы расселись, как всегда – Эльвира передо мной, старуха сбоку. Старуха перекрестилась. Никто не говорил. Развязывание салфетки, прикосновение к столовым приборам… Еда мне казались игрой, ничтожной игрой. Около часу дня прозвучал отбой тревоги. Как будто удивившись, мы подскочили. Эльвира положила мне в тарелку еще один кусок торта.
XI
Лето кончалось. На полях стали появляться крестьянки, а в садах около фруктовых деревьев замелькали лестницы. Теперь мы с Дино не уходили с луга; поспели груши, виноград и целое поле кукурузы. Пришли новости о высадке союзников в Калабрии. Ночами шли ожесточенные споры. Происходило что-то серьезное, непоправимое. Итак, совсем никто ничего не пытался сделать? Все должно было закончиться так?
Восьмое сентября[7]7
8 сентября 1943 г. на Сицилии было подписано перемирие с союзниками. (Прим. перев.)
[Закрыть] нас застигло врасплох, когда мы с Грегорио сбивали грецкие орехи. Сначала по улице, со скрежетом на поворотах, поднимая пыль, промчалась военная машина. Она ехала из Турина. Через минуту вновь шум и скрежет, вторая машина. Проехало пять машин. В прозрачном вечернем воздухе пыль добралась до деревьев. Мы посмотрели друг на друга. Дино побежал во двор.
Когда вечерело, пришла Кате: «Вы не знаете? – крикнула она с улицы. – Сегодня Италия запросила мира».
По радио монотонный, хриплый, неправдоподобный голос каждые пять минут повторял эту новость. Замолкал и вновь начинал, каждый раз раздавался угрожающий треск. Голос не менялся, не замирал, никогда ничего не добавлялось. В нем слышалось упрямство старика, ребенка, выучившего свой урок. Сразу никто из нас ничего не сказал, только Дино всплеснул руками. Мы были в замешательстве, как и раньше, когда проехало пять военных машин.
Кате нам сказала, что в Турине в кафе и на улицах орало лондонское радио и собиравшиеся толпы ему аплодировали. Союзники высадились и в Салерно. Повсюду шли сражения. «В Салерно? Не в Генуе?». В городе везде и всюду шествия, демонстрации.
– Непонятно, что делают немцы, – продолжала Кате. – Уходят или нет?
– И не надейся, – отозвался я, – даже если захотят, не смогут.
– Теперь очередь за нашими солдатами, – сказала старуха, – пришел их черед.
Старый Грегорио молчал, не теряя меня из виду. Он тоже напоминал растерявшегося ребенка. В голове у меня пронеслась смешная мысль, что и старый маршал, Бадольо, и его генералы знают столько же, сколько Грегорио, и сегодня вечером, растерянные, прильнули к радио, как я и он.
– А в Риме, – спросил я, – что происходит в Риме?
Никакая станция нам об этом не сообщила. Кате в городе слышала, что его заняли англичане, что хватило тысячи их парашютистов, чтобы объединиться с нашими и справиться с немцами. «Эти министры дураки, но за свою шкуру дрожат. Я уверена, они это предвидели», – сказала Кате.
– А Нандо и Фонсо, – вдруг спросил я, – не придут? Ведь они этого всегда хотели. Они будут довольны.
– Я их не видела, – сказала Кате. – Я побежала рассказать вам.
В тот вечер Нандо и Фонсо не пришли. Прибежала запыхавшаяся Джулия. Она рассказала, что на фабрике, на собрании, было решено собирать оружие, что там выступил с речью Фонсо, что призывали занять казармы. На окраинах была слышна перестрелка. Было известно, что банды спекулянтов разграбили военный склад, что немцы продавали форму фашистам и, переодевшись, убегали.
– Я вернусь в Турин, – сказала Джулия. – До свидания.
– Скажи другим девушкам, чтобы они пришли сюда, – крикнула старуха. – Скажи Фонсо и тем безумцам. Наступают тяжелые дни.
– Ничего подобного, – возбужденно возразила Кате. – На этот раз все кончится. Достаточно продержаться несколько дней.
– Воздушных налетов больше не будет, – резко сказал я.
Когда я уже отправлялся ужинать, нас всех рассмешил Дино. «Война закончилась?» – еле слышно спросил он.
На следующий день я уже на рассвете был на ногах. Никаких известий из Рима. Наше радио передавало песенки. Из-за границы обычные военные сводки. Высадка союзников в Салерно, вся вода кишмя кишит транспортными пароходами, операция все еще продолжается. Бледная и напряженная Эльвира слушала радио рядом со мной. Около приемника мы собрались группкой. Вдруг я сказал: «Не знаю, когда вернусь», – и ушел.
Чтобы заполнить пустоту утра, я пошел по дороге в Турин. Мне встретились редкие прохожие, один с трудом крутивший педали велосипедист. Внизу, среди склонов спокойно дымился Турин. Где была война? Огненные ночи казались далекими, уже невероятными. Я прислушался, нет ли шума машин.
В туринских газетах крупным шрифтом было напечатано о капитуляции. Но люди, казалось, думали о своих делах. Магазины открыты, на перекрестках штатские охранники, ходили трамваи. Никто не говорил о мире. На углу, возле вокзала, группка безоружных немцев грузила мебель на грузовик, бездельники наблюдали за переездом. «Наших не видно, – подумал я. – Из-за осадного положения все остались в казармах».
Я навострял уши и заглядывал в глаза прохожих. Все, замкнувшись в себе, удалялись. «Может быть, вчерашнее сообщение опровергли, и никто не хочет признаться, что поверил ему». Но два молодых парня под портиком кафе «Кристалло» кричали что-то в толпу и поджигали смятую газету, которую официант пытался у них отобрать. Кто-то смеялся.
– Фашисты, – спокойно сказал другой на углу.
– Бейте их, убейте, – кричала женщина.
У дверей бара я узнал новости. Немцы занимали города. Уже были заняты Акви, Алессандрия, Казале. «Кто об этом говорит?». «Беженцы».
– Если бы это было правдой, не ходили бы поезда, – сказал я.
– Вы не знаете немцев.
– А Турин?
– И сюда придут, – ухмыльнулся другой, – в свое время. Они все делают по правилам. Им не нужен бессмысленный беспорядок. Даже бойни они устраивают спокойно.
– И никто не сопротивляется? – спросил я.
Под портиком усиливались крики и беспорядок. Мы вышли на улицу. Один из двоих, взобравшись на столик, обратился с речью к народу – кто-то, усмехаясь, слушал, кто-то старался улизнуть. Двое дрались около колонны, женщина, выкрикивая непристойности, пыталась вмешаться. «Позорное правительство, – вопил оратор, – предатели и пораженцы, вас призвали уничтожить родину». Столик закачался, из толпы полетели ругательства.
– Продался немцам, – раздались крики. Там стояли старики, служанки, ребятня, один солдат. Я думал о Тоно и о том, что сказал бы он. И я что-то крикнул оратору, и в тот миг толпа всколыхнулась и распалась, кто-то вопил: «Расступитесь, или я вас убью». Грянули два громоподобных выстрела, кто-то упал, вопивший смылся, раздался звон разбитых стекол, вдалеке, посреди площади, я еще видел тех двоих, что мутузили друг друга, и наскакивающую на них женщину.
Два эти выстрела долго звучали у меня в голове. Я ушел, чтобы меня не захватили врасплох, но теперь я знал, почему люди не говорили и сторонились других. По спокойной пустой улице я отправился в свою школу. Я надеялся там найти кого-нибудь, увидеть знакомые лица. «Через месяц будут экзамены», – думал я. Старый Доменико высунул голову.
– Что новенького, профессор? Вы принесли нам мир?
– Мир как птица. Прилетел и уже улетел.
Доменико покачал головой. Ударил рукой по газете: «Недостаточно только болтать».
О немцах он ничего не слышал. «Эти не растеряются, – тотчас сказал он, – не растеряются. Но, профессор, когда был тот, другой. – Он наклонил голову, понизил голос. – Вы слышали, что говорят? Что он должен вернуться»[8]8
Речь идет о Муссолини. (Прим. перев.)
[Закрыть].
Я ушел с новой тяжестью на сердце. Мы с Кате договорились, что каждый день, сходя с трамвая, она будет смотреть, нет ли меня поблизости. Я устроился на углу и стал ее поджидать. Прошел час, но она не появилась. Но зато я услышал другие разговоры и подтвердились слухи о том, что немцы занимают города и разоружают наших. «Но наши сопротивляются?» – «Кто знает? В Нови шло сражение». – «Понятно. Они в Сеттимо. Наступает целая бронированная дивизия».
– Но чем занимается наше командование?
В ближайшем кафе включили радио и после треска и шума я услышал танцевальную песенку. Сразу набежали люди. «Поймай Лондон», – кричали они. Послышался Лондон, но на французском, потом вновь безнадежные треск и шумы. Прорезался итальянский голос, из Туниса. Он взволнованно читал все то же сообщение. Наступление русских, высадка союзников в Салерно, операция все еще продолжается. «Что говорят в Риме? – закричали мы. – Что происходит в нашем доме? Подлецы! Трусы!».
– В Риме фашисты, – завопил чей-то голос.
– Продажные подлецы.
Я почувствовал, что меня взяли за руку. Это была Кате. Она улыбалась своей прежней улыбкой. Мы вышли из толпы.
– Ты не забыла, – сказал я.
Мы пересекли площадь. Кате тихо говорила:
– Безумная ситуация. Это самый ужасный день войны. Правительства нет. Мы в руках у немцев. Нужно сопротивляться.
«Что ты собираешься делать? – спрашивал я ее. – Вопрос дней. Англичане заинтересованы сделать все быстро. Больше, чем мы».
– Ты слышал немецкое радио? – проговорила Кате. – Передают фашистские гимны.
Мы пришли во двор, где проходил митинг. Казалось, это было вчера, хотя прошло больше месяца. Там никого не было.
Наконец появились Джулия и жена Нандо. «Не вернулись?» – жена Нандо прислонилась к двери. «Успокойся, – успокаивали ее. – Ты хочешь, чтобы в такой день мужчина вернулся домой? Что он тут будет делать?».
Она воскликнула: «Они мальчишки, безумцы».
Мы вновь включили радио. Никаких новостей.
– Если их арестуют, – стонала жена, – они потом попадут в руки к немцам.
– Дурочка, – прикрикнула на нее Кате, – прекрати, накаркаешь.
Тогда мне сказали, что ночью патруль разогнал митинг, и что Тоно арестовали.
– Они хотели его освободить, – проговорила Джулия, – посмотрим.
Кате должна была вернуться в больницу.
– Пойду и я, – сказал я.
Жена Нандо металась взад и вперед. «Она казалась смелее, – подумал я. – Не время обзаводиться семьей. Уж лучше Кате, которая по крайней мере никого не любит».
Вместе с ней мы пошли к трамваю. Кате меня спросила: «Ты вернешься домой?».
Потом, посмотрев по сторонам, добавила: «Никто ничем не озабочен. Даже солдаты. Как мерзко».
– Мы на поле сражения, разве не так? Не заблуждайся.
– Тебе на все наплевать, – пробормотала она, не глядя на меня, – но ты прав. Тебе никогда не приходилось голодать, ты не видел, как горит твой дом.
– Именно это и придает смелости?
– Об этом тебе говорила и бабушка. Вы не можете понять.
– Я не могу быть вы, – отрезал я. – Я один. Я стараюсь быть как можно более одиноким. В такие времена только тот, кто одинок, не теряет голову. Посмотри на жену Нандо, как ее прижало.
Кате, остановившись, нахмурилась: «Нет, ты совсем не жена Нандо, – проговорила она. – Тебя ничто не заботит. Вечером увидимся».
– Возвращайся быстрее, – крикнул я.
И опять дорога, фруктовый сад, женщины. Прохладный и спокойный холм. Привычные разговоры. «Может быть, немцы сюда не доберутся», – сказал я Эльвире. Я спросил, всегда ли Эгле совала свой нос в чужие дела.
– Почему?
– Мы это прекрасно знаем, – сказал я. Через силу я слушал передачу из Мюнхена.
Фашисты действительно приободрились. Раздраженные, угрожающие голоса. Науськивали народ. «Они еще в Германии, хороший признак». Молчание римского радио мне было почти приятно. Это значило, что наши сопротивляются, что немцы еще не захватили Рим. Старуха не произнесла ни слова. Она смотрела на нас испуганно, но дерзко.
В «Фонтанах» я нашел Кате, которая рассказала мне о Фонсо и Нандо. «Они вернулись, они живы, – говорила она. – Но им не удалось ничего сделать. Тоно и другие сидят в тюрьме Нуове».
Но была еще одна новость: наши солдаты разбегались, никто и не думал сопротивляться.








