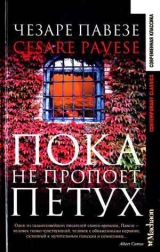
Текст книги "Пока не пропоет петух"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Вернувшись к остерии, он кивком попрощался со знакомыми ему лавочниками. Элены не было.
В остерии он встретил Винченцо, и они в последний раз поговорили о Джаннино. Стефано думал пройтись по дороге на дамбе перед домом Кончи, но позже подошли Пьерино и другие, и в их компании он дождался четырех часов.
Когда, войдя на станцию, все они терпеливо стояли на платформе и, наконец, раздался сигнал, возвещающий о прибытии поезда, Стефано смотрел на старую деревню, которая чудесным образом нависла над крышей, рукой подать. Потом они все вместе увидели на повороте далекий поезд, появился гигант, начальник станции и заставил всех отойти назад; впереди, за камышами, бледное море раздувалось в пустоте. Когда поезд приблизился, Стефано показалось, что в вихре, как облетевшие листья, кружатся лица и имена тех, кого там не было.
Дом на холме
I
Даже в минувшие времена слово «холм» произносили так, как мы произнесли бы «море» или «лес». И я из темнеющего города вечером возвращался на холм. И для меня он был не просто одним из многих мест, но определенным взглядом на вещи, определенным образом жизни. Поясню, я не видел различия между этими холмами, где я теперь живу, и теми, где я играл ребенком. Это всегда пересеченная местность с извилистыми очертаниями, с возделанными участками и дикими зарослями, это всегда дороги, одинокие деревенские дома и обрывы. Вечерами я поднимался на холм, как будто бы и я убегал от ночной жути воздушных тревог, и дороги были забиты людьми, несчастными, выгнанными из домов людьми, то непокорными, то доверчивыми, то веселящимися, которые, крича и споря, несли на плечах или везли на велосипедах матрасы, чтобы поспать хотя бы на лугу.
Все начинали подниматься на холм, и кто-нибудь говорил об обреченном городе, о предстоящей ночи и о нависшем над всеми ужасе. Я уже давно жил наверху, на холме, и смотрел, как люди постепенно сворачивали в разные стороны и толпа редела, и наступал момент, когда я уже один среди изгородей и низких каменных оград продолжал идти вверх. Тогда я шагал, прислушиваясь, бросая взгляды на знакомые деревья, принюхиваясь к земле и ко всему, что было на ней. Я ни о чем не печалился, но знал, что ночью весь город может быть охвачен огнем, и умрут люди. Обрывы, сельские дома и тропинки спокойными и неизменными пробудятся утром. И из выходящего в сад окна я еще увижу утро. И я буду спать в кровати, это точно. Загнанные в луга и леса люди, возможно, как и я, спустятся в город, только у них будет ломить кости, и они замерзнут сильнее, чем я. Стояло лето, и мне вспоминались другие вечера, когда я квартировал в городе и моя жизнь протекала там, те вечера, когда и я глубокой ночью выходил на улицу, распевая песни и смеясь, и тысячи огоньков мерцали на холме и в городе, расположенном внизу, у дороги. Город был как озеро света. В те времена ночи мы проводили в городе. Ведь мы не знали, что время настолько быстротечно. Мы щедро раздаривали себя на самые ничтожные дружбы, а дни разбазаривали на такие же пустые встречи. Мы жили с другими и для других или же так думали.
Мне нужно сказать, начиная этот рассказ о моих затянувшихся заблуждениях, что во всем случившемся со мною нельзя винить только войну. Более того, война, и я в этом уверен, в то время еще могла бы стать для меня спасением. Когда война добралась до нас, я уже давно проживал на холме, в усадьбе, в которой снимал комнаты, но если бы меня не удерживала в Турине работа, я бы давно возвратился в дом своих стариков, который тоже находился на холмах, но других. Война только освободила меня от последних угрызений совести из-за того, что я был одинок и в одиночестве растрачивал свои годы и свою душу, а в один прекрасный день я понял, что Бельбо, большой пес, остался моим последним настоящим наперсником. С началом войны стало вполне законным замкнуться в себе, жить одним днем, больше не оплакивая упущенные возможности. Но можно было бы сказать, что я давно поджидал войну и рассчитывал на нее, на такую необыкновенную и беспредельную войну, от которой без труда, возвращаясь на холм, можно было бы скрыться, позволив ей бушевать в небе над городом. Теперь происходило такое, что простая жизнь без жалоб, почти без разговоров о ней, казалась мне достойной. Эти своеобразные глухие угрызения совести, в которых замкнулась моя молодость, нашли в войне свое убежище и свое поприще.
Сегодня вечером я опять поднимался на холм, вечерело, и из-за каменной ограды выглядывали вершины соседних холмов. Бельбо, улегшись на тропинке, поджидал меня на своем привычном месте, и в темноте я услышал, как он поскуливает. Пес вздрогнул и стал нервно рыть землю. Затем бросился ко мне, подпрыгнул, чтобы коснуться моего лица; поговорив с ним, я его успокоил, и он бодро побежал вперед, потом остановился, обнюхивая дерево. Когда Бельбо заметил, что я, вместо того, чтобы свернуть на тропинку, продолжал идти к лесу, он радостно тявкнул и скрылся среди кустов. Бродить с собакой по холму приятно – пока идешь, она обнюхивает корни, норы, промоины, указывая тебе на потаенную жизнь, увеличивая этим радость твоего открытия. Еще когда я был мальчиком, мне казалось, что, бродя по лесам без собаки, не замечаешь большей части жизни и тайн земли.
Вернуться в дом мне не захотелось до позднего вечера, потому что я знал: наши с Бельбо хозяйки, как обычно, поджидают меня, чтобы заставить заговорить, высказать мои неясные, поверхностные взгляды на войну и мир, которые я приберегал для ближнего, и оплатить таким образом их заботы обо мне, холодный ужин и радушие. Иногда что-то новое в ходе войны, опасность, ночные бомбежки и пожары давали двум женщинам повод наброситься на меня уже в саду, у двери, за столом, что-то бормоча, удивляясь, вскрикивая, тащить меня к свету, чтобы удостовериться, что я это я, угадывая во мне подобного им. Мне же нравилось ужинать в одиночестве, в темной комнате, одинокому и всеми забытому, прислушиваясь, вслушиваясь в ночь и ощущая ход времени. Когда в темноте над далеким городом взвывал сигнал тревоги, я вздрагивал сначала из-за неуважения к моему одиночеству, которое нарушалось, а уже потом от долетавших сюда страхов, волнения, от двух женщин, которые гасили уже и так едва тлевшие лампы, от тревожного ожидания чего-то ужасного. Все выходили в сад.
Из них двоих я отдавал предпочтение старухе, матери, в полноте и болячках которой было что-то спокойное, земное, и можно было представить ее под бомбами точно так же, как и темный холм. Она много не говорила, но умела слушать. Другую, ее дочь, сорокалетнюю старую деву, костлявую, в вечных глухих платьях звали Эльвира. Она жила в постоянном страхе, боясь, что война доберется сюда, на холм. Я заметил, что она тревожится обо мне, и она это подтвердила: да, она страдала, когда я бывал в городе, и однажды, когда мать при мне высмеяла ее, Эльвира ответила, что, если бомбы еще сильнее разрушат Турин, мне придется проводить с ними дни и ночи.
Бельбо бежал по тропинке вперед, иногда возвращаясь, как бы приглашая меня углубиться в лес. Но в тот вечер мне захотелось задержаться на повороте безлесого подъема, откуда открывался вид на огромную долину и склоны холма. Мне очень нравился большой холм, его извилистые склоны и гряды в темноте. И в прошлом он был таким же, но на нем мерцали многочисленные огоньки, тогда там текла спокойная жизнь, в домах жили люди, царили покой и радость. Иногда и сейчас в дали слышались чьи-то голоса, смех, но давила, скрывая все, кромешная тьма, и земля вновь становилась первозданной, одинокой, такой, какой я узнал ее ребенком. За посадками и дорогами, за домами людей под ногами таилось во тьме, жило в оврагах, в корнях, во всем потаенном, в детских страхах древнее, равнодушное сердце земли. В то время я стал находить удовольствие в воспоминаниях детства. Можно сказать, что под обидами и неопределенностью, под желанием быть в одиночестве я находил мальчика, чтобы обрести товарища, коллегу, сына. Перед моим взором вновь возникала деревня, в которой я жил. И мы были одни, мальчик и я сам. И я вновь переживал свои первые открытия тех времен. Да, я страдал, но отстраненно, как тот, кто не признает и не любит ближнего, строптиво глядя на него. И я разговаривал, разговаривал, составляя компанию самому себе. Нас было только двое.
В тот вечер со склона холма опять раздавался гул голосов, перемешанный с песнями. Он доносился с другого склона, куда я никогда не поднимался, и казался отзвуком других времен, голосом молодости. Этот шум мне вдруг напомнил группы беглецов из города, которые вечерами, как цыгане, копошились на склонах холма. Но гул не перемещался, он всегда доносился из одного и того же места. Странно было думать, что в темноте, таящей в себе угрозу, рядом с онемевшим от ужаса городом одна группа, одна семья, какие-то люди заглушают тревогу ожидания, смеясь и распевая песни. Я даже не подумал о том, что для этого нужна смелость. Стоял июнь, ночь была прекрасна, это позволяло расслабиться, и я радовался, что в моей жизни нет ни настоящего чувства, ни забот, что я одинок, ни с кем не связан. Сейчас мне казалось, что я всегда знал, что мы дойдем до этого своеобразного прибоя, бьющего то в холм, то в город, до этой постоянной тревоги, ставившей предел всем планам на завтра, пробуждению, и я мог бы об этом сказать, если бы кто-нибудь смог меня выслушать. Но меня могло услышать только сердце друга.
Заслышав голоса, Бельбо остановился и залаял. Я схватил его за ошейник, заставил замолчать и прислушался. Среди опьяневших голосов были и трезвые, даже женский. Потом раздался смех, голоса смешались, и ввысь взметнулся одинокий, красивый мужской голос.
Я уже собрался повернуть назад, как вдруг сказал себе: «Ты дурак. Тебя ждут две старухи. Пусть еще подождут».
В темноте я пытался определить, где поют. Я сказал себе: «Может быть, ты знаешь этих людей». Я схватил Бельбо и указал ему на другой склон. Тихо промычал строчку из песни и приказал: «Пойдем туда». Он мгновенно исчез.
Тогда и я пошел по тропинке прямо на голоса.
II
Когда я вышел на дорогу, прислушивался, вглядываясь в темноту за гребнем, и почти потонул в стрекоте кузнечиков, где-то внизу взревела сирена воздушной тревоги. Я ощутил, словно был там, как город пришел в ужас, услышал шум шагов, хлопанье дверей, увидел перепуганные и опустевшие улицы. А здесь все освещали звезды. Теперь пение прекратилось. Недалеко залаял Бельбо. Я побежал к нему. Он забрался в какой-то двор и прыгал среди вышедших из дома людей. Из приоткрытой двери сочился свет. Кто-то крикнул: «Невежа, закрой дверь!». Все закричали и засмеялись. Свет в двери исчез.
Эти люди знали Бельбо, кто-то добродушно упомянул двух старух, и меня приняли без расспросов. Все туда-сюда сновали в темноте, был там и ребенок, он на всех смотрел снизу вверх. «Прилетят? Не прилетят?» – говорили все. Заговорили о Турине, о несчастьях, о разрушенных домах. Сидящая в сторонке женщина что-то мычала про себя.
– Я думал, что здесь танцуют, – вдруг сказал я.
– Может быть, – ответила тень паренька, который первым заговорил с Бельбо. – Но никто не подумал принести сюда кларнет.
– А ты бы рискнул? – спросил девичий голос.
– Да он будет танцевать, даже если дом загорится.
– Да, да, – сказала другая.
– Нельзя, идет война. Итальянцы, – теперь голос изменился, – эту войну я создал для вас. Я вам ее дарю, будьте достойны ее. Больше нельзя ни танцевать, ни спать. Вы должны, как и я, заниматься только войной[2]2
Пародия на речи Муссолини. (Прим. перев.)
[Закрыть].
– Замолчи, Фонсо, тебя могут услышать.
– Ну, чего ты хочешь? Давай споем.
И голос затянул прежнюю песню, но был уже тише, приглушенным, словно боялся помешать кузнечикам. Присоединились девичьи голоса, двое парней бегали друг за другом по лугу. Бельбо неистово залаял.
– Успокойся, – сказал я ему.
Под деревьями стоял стол с оплетенной бутылкой вина и стаканами. Хозяин-старичок налил и мне. Это было что-то вроде остерии, но все доводились друг другу какой-то родней и приходили сюда из Турина.
– Пока такая погода, тут неплохо, – говорила старуха, – а когда дожди пойдут и развезет?
– Не бойтесь, бабушка, для вас здесь всегда найдется место.
– Сейчас ничего, а зимой…
– Этой зимой война закончится, – выпалил мальчик и убежал.
Фонсо и девушки продолжали петь приглушенными голосами, все время прислушиваясь к далекому гулу и шуму. И я продолжал вслушиваться в хор кузнечиков, а когда старуха вдруг приоткрыла створку двери, вместе со всеми вскрикнул, прося потушить свет.
В этих людях, в этих парнях, в их шутках, в самом их сердечном приеме и в вине было что-то мне знакомое, что напоминало мне город минувших времен, другие вечера, вылазки и пикники на берегу По, незамысловатые концерты в остериях на окраине и прошлые дружбы. И в свежести холма, в той пустоте, в том тревожном ожидании бомбардировки я вновь нашел более древний, крестьянский, былой привкус. Я невольно следил за голосами девушек, женщин и молчал. При выходках Фонсо я спокойно, с удовольствием смеялся. Я сидел во дворе на бревне, вместе с другими.
Чей-то голос меня спросил: «А вы что делаете? Отдыхаете здесь?».
Я узнал этот голос. Без сомнения. Это был резковатый, вызывающий голос. Мне он показался типичным голосом женщин из этих мест.
Я ответил, пошутив, что ищу с собакой трюфели. Она меня спросила, не едят ли там, где я преподаю, трюфели.
– Кто вам сказал, что я преподаю? – удивился я.
– И так понятно, – ответили мне из темноты.
В голосе таилась какая-то насмешка. Или это была игра: разговаривать, как на маскараде? Я мгновенно припомнил свои предыдущие фразы, но не нашел ничего, что могло бы меня выдать, и решил, что те, кто был знаком со старухами, возможно, знали и обо мне. Я спросил, живет ли она в Турине или здесь.
– В Турине, – спокойно ответила она.
В темноте я разглядел, что она, кажется, хорошо сложена. Плечи и колени были четко очерчены. Она сидела, сжав руки коленями и с блаженством откинув голову назад. Я попытался пристально всмотреться в ее лицо.
– Уж не хотите ли вы меня проглотить? – рассмеялась она.
В этот миг прозвучал отбой тревоги. Мгновение все недоверчиво молчали, потом дружно зашумели, дети запрыгали, старики с облегчением вздохнули, мужчины потянулись к стаканам и стали отбивать такт.
– Этой ночью пронесло.
– Прилетят позже.
– Итальянцы, войну я сделал для вас.
Она продолжала неподвижно сидеть, голова все так же прислонялась к стене, когда я ей прошептал: «Вы Кате. Ты Кате», – она мне не отвечала. Думаю, она закрыла глаза.
Мне пришлось встать, потому что все расходились по домам. Я хотел заплатить за вино, но мне сказали: «Оставьте!». Я попрощался, пожал руку Фонсо, подозвал Бельбо и, как по волшебству, оказался на дороге один, разглядывая неосвещенный дом.
Чуть позже я вернулся в усадьбу. Хотя была ночь, глубокая ночь, Эльвира меня поджидала почти на ступеньках, сложив руки и сжав губы. Она только произнесла: «Сегодня вечером вас застала тревога. Мы беспокоились». Я покачал головой, улыбнулся, глядя в тарелку, и принялся есть. Молча, она бродила около света, исчезала в кухне, закрывала шкафы. «Возможно, так будет каждый вечер», – пробормотал я. Она ничего не ответила.
Я жевал, думая о встрече, о том, что произошло. Для меня имело значение время, минувшие годы, причем больше, чем сама Кате. Невероятно. Восемь, десять? Мне казалось, что я открыл забытую комнату, забытый шкаф, и нашел в них жизнь другого человека, пустую жизнь, полную ничтожных опасностей. Именно об этом я и забыл. Не столько о Кате и о жалких удовольствиях тех лет, сколько о юноше, который жил в те дни, о бесстрашном юноше, ускользнувшем от решений и поступков, думая, что они еще будут, но уже ставшем мужчиной и все еще оглядывавшемся вокруг, не настигнет ли его на самом деле жизнь. Этот юноша меня поражал. Что было общего между мною и им? Что я сделал для него? Те обыкновенные и пылкие вечера, те случайные опасности, те привычные, как кровать или окно, надежды: все казалось мне воспоминанием о далекой стране, о бурной жизни, такой, что, думая о ней, задаешь себе вопрос, как мы могли наслаждаться ею и так предать ее.
Эльвира взяла свечу и остановилась в глубине комнаты. На нее падал свет из стоящей в центре стола лампы, она попросила меня потушить ее, когда я поднимусь к себе. Я понял, что она колеблется. Рядом с выключателем находился другой, от наружной лампы, и иногда я их путал и заливал светом двор. Я резко сказал: «Не беспокойтесь. Не перепутаю выключатели». Прижав руку к горлу, она закашлялась и рассмеялась: «Спокойной ночи».
Вот, сказал я себе, оставшись один, ты больше не тот мальчик, ты больше не рискуешь как когда-то. Этой женщине хотелось сказать тебе, чтобы ты возвращался домой пораньше, она хотела поговорить с тобой, но не решилась и, может быть, сейчас ломает руки или прижалась к подушке и сдерживает рыдания. Она не обещает удовольствий и прекрасно знает об этом. Но она заблуждается, видя, что ты живешь в одиночестве, думая, что вся твоя жизнь сосредоточена здесь, в лампе, в комнате, в красивых занавесках, в простынях, которые она стирает для тебя. Ты об этом знаешь, но подобные приключения уже не для тебя. Тебе нужна не она, а, самое большее, твои холмы.
Мне пришло в голову, не заблуждалась ли также и Кате в минувшие времена. Восемь лет назад какой была Кате? Насмешливой и безработной девчонкой, худой и немного неуклюжей, неистовой. То, что она уходила со мной – в кино или в луга – прижимаясь ко мне, беря меня под руку, пряча сломанные ногти, еще не говорило о том, что она на что-то надеялась. Это был тот год, когда я снимал комнату на улице Ницца, давал свои первые уроки и часто ел в молочной. Из дома мне присылали деньги, так мало, что их хватало только на меня. У меня не было никакого будущего, если не говорить об обычной судьбе деревенского молодого человека, который учится и живет теперь в городе, осматривается в городе, и каждое утро для него – приключение и ожидание. В те дни я виделся со многими людьми, со многими общался. У меня были друзья школьных лет, был Галло, который потом погиб под бомбами в Сардинии, были женщины, сестры знакомых, и Мартино, игрок, который женился на кассирше, и болтуны, честолюбцы, которые писали книги, пьесы, стихи, носили их в карманах и разговаривали о них в кафе. С Галло мы ходили танцевать, ходили на холм (и он был из моих краев), собирались открыть деревенскую школу, в которой он бы обучал сельскохозяйственным делам, а я – наукам, мы бы взяли землю, завели бы питомник и обновили бы деревню. Не знаю, как Кате попала к нам, она жила на окраине, на окраине луга, тянущегося до По. У Галло были и свои компании, он играл в бильярд на улице Ницца; однажды, в день, когда мы утром покатались на лодке, он зашел во двор и позвал Кате. Потом я только с ней проводил то лето.
Мы с Кате вытаскивали лодку на берег, бегали по траве и играли, затевая возню в кустах. Меня пугали многие женщины, но не Кате. С нею я легко мог быть и надутым – инициатива так или иначе оставалась за мной. Что-то в наших отношениях напоминало посещение остерии: заказываешь выпивку, не ожидая редкого вина, но знаешь, что какое-нибудь вино все равно принесут. Кате успокаивалась и позволяла себя ласкать. Потом у нее от страха замирало сердце – вдруг кто-нибудь увидит. Мы с ней почти не говорили, это-то и придавало мне смелости. Не нужно было ни говорить, ни что-либо обещать. «Какая разница, – спрашивал я, – между борьбой и объятиями?». Так, прямо на траве, мы один или два раза неумело предавались любви. Наступил день, когда мы уже в трамвае говорили о том, что едем заниматься любовью. Как-то утром, когда мы только пришли, нас застала гроза, нам пришлось грести изо всех сил, а мы оплакивали упущенную нами возможность.
Как-то вечером Кате поднялась в мою квартиру, чтобы мы смогли спокойно покурить; в этот раз мы с большим удовольствием занимались любовью на кровати, и она говорила, как хорошо, если идет дождь или холодно, очутиться здесь и быть вместе, разговаривать и изливать душу. Она трогала мои книги и в шутку их обнюхивала, спрашивала меня, действительно ли я могу пользоваться этой комнатой днем и ночью, и никто не придет и не будет мне надоедать. Она жила со своими, шесть или семь человек, в двух комнатах, выходящих во двор. Но тот вечер был единственным, когда она зашла ко мне. Она обычно приходила в кафе, где я виделся с друзьями, но поскольку там был Галло и все мы здоровались с ней, она смущенно садилась и переставала смеяться. Я же терзался: мне нравилось, что у меня есть девушка, но стыдился, что плохо одет, стыдился своей неопытности. Она мне говорила, что хотела бы научиться печатать на машинке, работать в большом магазине, заработать, чтобы поехать на море. Я несколько раз покупал ей губную помаду, которой она страшно радовалась, и вот тогда-то я понял, что можно содержать женщину, воспитать ее, научить ее жить, но если будешь знать, из чего сделана ее элегантность, всякий интерес к ней пропадает. У Кате было потертое платье и растрескавшаяся сумочка, я всякий раз чувствовал себя растроганным, когда она говорила о своих желаниях, так как разница между ее жизнью и ими была огромной, но ее радость из-за помады действовала мне на нервы, и мне стало ясно, что для меня она только секс. Несчастный, проклятый секс. И было жаль, что она настолько невежественна и недовольна жизнью. Она так глупо всему радовалась, иногда неожиданно бывала строптивой и наивной. Все это меня раздражало. Всякий раз мысль о том, что я к ней привязан, что я ей что-то должен, например, время, мне была очень неприятна. Однажды вечером под портиком вокзала я держал ее под руку и мне хотелось, чтобы она пошла ко мне в комнату. Стояли последние дни августа, и сын моей хозяйки завтра должен был вернуться из летнего лагеря, с ним было бы невозможно принимать у себя женщину. Я ее просил, умолял пойти со мной, шутил, кривлялся.
– Я тебя не съем, – сказал я. Она ничего не хотела слышать. – Я тебя не съем. – Ее упрямая непокорность только разжигала меня, а она, крепко уцепившись за мою руку, повторяла:
– Пойдем погуляем.
– Потом сходим в кино, – сказал я, смеясь. – У меня есть деньги.
Она, надувшись, ответила: «Я с тобой хожу не из-за денег».
– А я, – бросил я ей в лицо, – бываю с тобой, чтобы переспать.
Раскрасневшись, мы возмущенно уставились друг на друга. Позже мне стало стыдно; думаю, оставшись один, я плакал от злости, и мною владели вовсе не радость и гордость за то, что теперь я освободился. А сейчас плакала Кате, и по ее щекам катились слезы. Наконец она тихо сказала: «Ладно, я пойду с тобой». Мы молча дошли до подъезда, она прижалась ко мне и, положив голову мне на плечо, повисла всей тяжестью. У дверей она меня остановила, вырвалась из моих объятий, сказала: «Нет, я тебе не верю», как клещами стиснула мою руку и убежала.
С того вечера я больше ее не видел. Я не слишком переживал, потому что был уверен, что она вернется. А когда понял, что это не так, недовольство собственной грубостью уже пропало, на моем горизонте вновь появились Галло и друзья, и, в общем, моя затихшая обида, счастливо исчезнувшая неприятность уже доставляла мне удовольствие, что потом вошло у меня в привычку. Даже Галло не говорил мне о Кате, на это у него не было времени. Он отправился офицером на войну в Африку, и я его долго не видел. Той зимой я забыл о его сельском хозяйстве и о сельской школе, стал полноценным горожанином и понял, что жизнь действительно прекрасна. Я посещал многие дома, говорил о политике, познал другие опасности и удовольствия и всегда из них выпутывался. Я начал заниматься научной работой. Увидел других людей и узнал своих коллег. Несколько месяцев я много учился и строил планы на будущее. Та тень сомнения в воздухе, то всеобщее лихорадочное состояние, угроза близкой войны делали дни более живыми, а опасности более ничтожными. Все можно было забросить, отложить на потом, ничего не происходило и у всего был свой вкус. А завтра, кто знает.
Теперь все происходило, и шла война. Я думал об этом ночью, сидя в конусе света, мои степенные и трогательные старухи мирно спали. Какое им дело до тревоги на холме, если все вернулись, и из щелей в окнах не сочится свет? И Кате спала в доме среди леса. Думала ли она еще о том, как грубо я когда-то себя повел? Я думал, и мне не было неприятно, что наша встреча была такой короткой и в такой темноте.
Несколько дней, работая в Турине, гуляя, возвращаясь вечерами домой, разговаривая с Бельбо, я раздумывал об этом. Как-то ночью я был в саду, когда вновь раздался сигнал тревоги. Тотчас начали стрелять зенитки. Мы собрались в комнате, дрожавшей от выстрелов. В саду мертвые осколки свистели среди деревьев. Эльвира дрожала, старуха молчала. Потом послышался рев моторов и глухие удары. Окно стало красным и временами ослепительно вспыхивало. Бомбежка длилась больше часа, мы вышли, когда слышались последние одиночные удары. Вся Туринская долина была охвачена пламенем.








