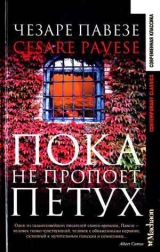
Текст книги "Пока не пропоет петух"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
VII
На следующий день появились новости. С самого рассвета из соседних усадьб доносились звуки радио; Эгле позвала нас из своего двора; люди, громко разговаривая, спускались в город. Эльвира постучалась в мою комнату и крикнула через дверь, что война закончилась. Потом вошла в комнату, не глядя на меня, потому что я одевался и, раскрасневшись, рассказала мне, что Муссолини скинули. Я спустился вниз, там были Эгле, мать, мы все слушали радио (в этот раз даже Лондон), сомнений больше не оставалось, новости были верными. Мать спросила: «Но война закончилась?».
– Теперь-то и начнется, – с сомнением сказал я.
Наконец я понял причину ночного шума. Брат Эгле бросился в Турин. Все бросились в Турин. Из домов выглядывали люди, доносились разговоры. Началась та свистопляска встреч, слов, поступков, невероятных надежд, которой сужено было завершиться ужасом и кровью. У всех, даже у тех, у кого оставалась тревога, горели глаза. С этого момента и у одиночества, и у лесов появился другой привкус. Я это заметил, когда просто бросил взгляд на деревья. Мне хотелось знать все, читать газеты, затеряться среди лесов и рассматривать новое небо.
С криками и воплями у калитки остановились Фонсо, Нандо и девушки. «Придется попотеть, – кричал Нандо, – фашисты сопротивляются. Пойдемте с нами в Турин».
– Война продолжается, – сказал Фонсо. – Вчера ночью мы вас ждали.
– Похоже, вы отправляетесь на вечеринку, – ответил я. Это была наша привычная шутка.
«Пойдемте!» – повторили вслед за Фонсо девушки.
– Убивать. Отбить у них охоту, – выкрикивал Фонсо. – Мы там нужны.
Они ушли. Сказали, что вернутся ночью, когда наступит мир. Я остался наверху не потому, что боялся какой-нибудь пули (воздушная тревога была страшнее), но потому, что я предвидел всеобщий восторг, шествия, горячие и страстные споры. Эгле попросила меня проводить ее к другой усадьбе, куда она отправлялась сообщить новости и сплетни. Мы пошли по дорожке среди деревьев, которая привела нас за косогор, в небольшой мирок, о котором не знали ни ручейки, ни птицы. «Они захватили тюрьмы». «Объявлено осадное положение». «Все фашисты прячутся». Далекий Турин был в двух шагах от нас. «Может быть, завтра мы найдем в этих лесах какого-нибудь сбежавшего фашистского командира», – сказал я.
– Какой ужас, – проговорила Эгле.
– Съеденного червями и муравьями.
– Они это заслужили, – ответила Эгле.
– Если бы не они, – сказал я ей, – мы не могли бы все эти годы спокойно жить на этом холме.
Мы уже подошли, и она звала подругу. Я сказал, что мне пора бежать. Она недовольно ухмыльнулась.
– Синьора Эльвира, – оборвал ее я, – не одобряет наши прогулки по лесам.
Эгле посмотрела на меня лукавыми глазами. Протянула руку, как взрослая, и рассмеялась.
– Ехидина, – произнесла она.
Ее подружка, девочка с косичками, подошла к окну. Удаляясь, я слышал, как они радостно чирикают друг с другом. Я уже был на дороге, ведущей к «Фонтанам». На этот раз я был в полном одиночестве. «Даже Бельбо убежал в Турин». Я представил себе безмолвную остерию, Дино на лугу, двух женщин на кухне. «Теперь, раз война закончилась, может быть, Кате расскажет мне правду», – думал я, поднимаясь по дороге.
Но идти туда не пришлось. Кате, освещенная солнцем, в цветастом платье, спускалась вприпрыжку мне навстречу.
– Какая ты молодая, – сказал я ей.
– Я рада, – и, не останавливаясь, как бы танцуя, схватила меня за руку. – Я так рада. Ты не идешь в Турин?
Остановилась и резко выпалила: «Может, ты ничего не знаешь? Может, проспал всю ночь? Тебя никто не видел».
– Я все знаю, – ответил ей. – Я радуюсь, как и ты. Но ты знаешь, что война продолжается? Сейчас-то и начнутся неприятности.
– Ну и что? – спросила она. – Теперь люди хотя бы вздохнут. Мы сделаем что-нибудь.
Мы спускались, споря друг с другом. Она не дала мне начать разговор о Дино. Кате сказала, что сейчас нужно действовать сообща: кричать, бастовать, навязывать свои требования. Сказала, что по крайней мере в эти дни, возможно, не будет воздушных налетов, и нужно этим воспользоваться, вырвать у правительства мир. Она уже знала, чего стоит это правительство, все они одинаковые, говорила она, но в этот раз они боятся, им нужно спасаться, достаточно дать им пинка.
– А немцы, – спросил я, – и те, другие?
– Но ведь ты же сам говорил, что мы должны пробудиться и со всем покончить.
– Кате, с какой же страстью ты говоришь, – удивился я, – ты стала революционеркой.
Она назвала меня глупцом, мы дошли до трамвая. Мне так и не удалось поговорить о Дино. Было непривычно так много говорить о политике, и в трамвае все по привычке боязливо понижали голоса. Колонны портиков и стены были оклеены листовками, объявлениями. По праздничным, не залитым кровью улицам шагали удивленные люди. Кишмя кишел народ, все суетились, как после массированного воздушного налета.
Кате побежала в больницу, и мы расстались. Она мне сказала, что, возможно, ни она, ни парни не вернутся в остерию сегодня вечером.
– А как же Дино? Бросишь его одного?
– Дино вместе с Фонсо и другими впереди всех. Сегодня вечером мы будем с ними.
Мне стало не по себе. Пока мы обменивались шутками около калитки, Дино мне об этом не сказал, даже не намекнул. Кате меня только спросила: «Где ты ешь?».
Оставшись один, я бродил по Турину. И в самом деле, он был как после вчерашних пожаров. Произошло нечто грандиозное, вроде землетрясения, для чего подходящей сценой могли быть только рассеянные по улицам древние руины и недавние, кое как прикрытые развалины. Все, что приходило в голову, и о чем говорили было смешным и неподходящим. Пробежала ватага ребятишек, таща за собою привязанный к веревке латунный герб. Они орали, обратившись к солнцу, а герб гремел, как кастрюля. Я подумал, что и Дино такой же, а ведь еще вчера он собирался отправиться на войну.
Перед зданием Фашистского союза стояло оцепление времен осадного положения. На солдатах были каски, в руках ружья, они охраняли покрытую обгоревшими бумажками улицу, разбитые окна, пустой подъезд. Прохожие обходили оцепление. Солдаты скучали и развлекались, как могли.
На углу я столкнулся с братом Эгле. Он был в военной форме с нашивками и ремнем и возмущенно разглядывал улицу.
– О, Джорджи, – крикнул я, – отпуск закончился?
– То, что произошло, не должно было произойти, – сказал он. – Это конец.
– О чем говорят в армии?
– Да ни о чем. Ждут. Ни у кого нет смелости напасть на нас. Стадо слабаков.
– А кто должен напасть на вас?
Джорджи удивленно, с обидой посмотрел на меня.
– Все бегут, все боятся, – продолжал он, – а ведь двадцать лет ждали, чтобы отомстить. Я надел форму, форму фашистской войны, и ни у кого не хватает смелости сорвать ее с меня. Нас мало. Эти слабаки не знают, что нас мало.
Тогда я сказал ему, что приказы отдавал король, и что переворот исходил от него. А королю нужно подчиняться.
Он все так же недовольно усмехнулся: «И вы туда же. Не понимаете разве, что это только начало? Что нам нужно защищаться?».
И ушел, сжав губы. Я провожал его взглядом, пока он не смешался с толпой. Много ли таких, как он? Я спросил себя, все ли Джорджи, все ли прекрасные мальчики, которые воевали, так смотрят на нас в эти дни.
«Война проиграна, но не закончена, – бормотал я, – люди еще будут умирать». И смотрел на лица, на дома. «До того как закончится лето, сколько из нас еще ляжет в землю? Сколько крови еще обрызгает стены домов?». Я смотрел на лица, в глаза тех, кто шагал по улицам, на спокойную сутолоку. «Беда коснется вот того блондина. Коснется кондуктора трамвая. Той женщины. Продавца газет. Той собаки».
Кончилось тем, что я пошел в сторону Доры, где работал Фонсо. Я бродил по проспектам за мостом; справа поднимался огромный светлый холм. В этом квартале располагались большие дома для рабочих, луга, каменные оградки, сельские домишки, оставшиеся от того времени, когда здесь были деревни. Небо было более жарким и более открытым, люди – женщины и ребятишки – кишмя кишели между тротуарами, травой и лавками. Стены украшали появившиеся ночью огромные надписи – следы неосторожного энтузиазма.
От места работы Фонсо, огромного ангара в глубине луга, слышался лязг и глухие удары машин. «Значит, работают, – сказал я себе, стоя у ограды – ничего не изменилось». На этих улицах, где больше всего страдали и надеялись, где в те времена, когда мы были детьми, пролилось столько крови, день проходил спокойно. Рабочие трудились, как вчера, как всегда. Кто знает, быть может, они думали, что все закончилось.
Пока я ждал, то думал о Кате, о логике той жизни, которая вновь возвращалась ко мне. От ярости из-за жесткой человечности городских окраин, от наших с Галло насмешек, от бесполезного бешенства, с которым я ворвался в гостиную Анны Марии, у меня оставались только неловкость и тайная краска стыда. Таким ничтожным было все то приключение, что я дошел до того, что сказал себе: «Молодец. Это ты уже пережил».
Пережил ли я это на самом деле? Был конец войны, был Дино. И хотя будущее могло быть весьма грозным, старый мир зашатался, а вся моя жизнь была основана на том мире, на страхе, злобе и отвращении, которые вызывал тот мир. Сейчас мне было сорок лет, у меня была Кате, был Дино. Не имело значения, чьим сыном он был на самом деле, значение имело то, что этим летом мы нашли друг друга после бессмысленной грубости прошлых лет, и Кате знает, для кого и зачем она живет, у Кате есть цель, желание возмущаться, у нее своя, наполненная жизнь. Не был ли я ничтожен, груб и в этот раз, когда, находясь рядом с ней, чувствовал себя униженным и растерянным?
Во дворе фабрики началось движение. Другие люди ждали, как и я, образовывались группы, кто-то выходил из ангара: сильные мужчины, девушки, парни с куртками на плече. Начали друг друга окликать и громко разговаривать. Я узнал своих знакомых. Здесь невысказанное, царившее в городе среди беспорядка и праздничного настроения, было затоплено совсем другой уверенностью, смелыми и наивными криками. И у одиночек, которые поглядывали на меня, а потом, посвистывая, уходили, в походке была какая-то дерзость. Больше всех вопили девушки. Расспрашивали друг друга, обменивались новостями, с удовольствием выкрикивая то, что еще вчера было запрещено.
Солнце припекало. Среди знакомых и незнакомых лиц я увидел Фонсо. Но не сдвинулся с места. Он был совсем мальчишкой. Рядом с ним стояли гигант в спецовке и хрупкий человечек. Они смеялись. Я надеялся, что Кате или кто-то другой подойдет к ограде, но напрасно.
– Учитель! – крикнул Фонсо.
Я пошел с ними. Они обсуждали газету. «Кавалер Муссолини, – порывисто сказал коротышка, покусывая сигарету, – кавалер… Ты понял? Теперь они о нем вспомнили».
– Они боятся немцев, – отозвался Фонсо.
– Ну да. А все мы набитые дураки, – ухмыльнулся другой. – Знаешь, как было? Начальники поняли, что все это дурно пахнет, побежали к королю и сказали ему: «Послушай. Тебе нужно отправить нас на покой. А ты тем временем продолжай войну, пусть итальянцы полностью выложатся, сломают себе шеи, а мы потом вернемся, чтобы помочь тебе. Ну как, идет?».
– Ладно болтать, – пробурчал гигант в спецовке. – Если сегодня не прикинуться простачком, то когда же по-твоему? Ты вчера вечером пил?
– Я выпил четыре стакана, – развеселившись, ответил Фонсо.
– Тогда хватит. Пошли домой.
– Увидишь, они вернутся, – крикнул хрупкий человечек.
Я остался только с Фонсо и гигантом. Мы шагали в окружении кивков и голосов.
– Однако Аврелио прав, – сказал Фонсо. – Они нагнали солдат в казармы.
Гигант, заинтересовавшись, повернул к нему голову: «Солдаты – народ, – прогудел он. – Вооруженный народ. Неизвестно, в кого они будут стрелять».
– Они боятся немцев, – прервал его я, – будут стрелять в немцев.
– Не всё сразу, – спокойно проговорил другой. – Наступит и их время. Не сейчас.
– Как это? – удивился Фонсо. – Пусть немедленно стреляют. Это война.
Гигант покачал головой.
– Вы не знаете, что такое политика, – сказал он. – Пусть ей занимаются те, кто постарше.
– Это мы уже проходили, – фыркнул Фонсо.
Когда мы подошли к дому, закаркало радио. Мы остановились, остановились все. «Сообщение! Тихо!». Последовало сообщение о введении осадного положения, о наведении порядка во всей Италии, о ликующих шествиях, о нашей решимости сражаться до последней капли крови.
– Пусть этим занимаются те, кто умеет, – повторял гигант, наклонив голову.
– Ну и мерзость, – крикнул Фонсо. – Да здравствует Аурелио!
За домом на фоне неба вырисовывался холм, усеянный домами и лесами. Я спрашивал себя, кто из тех, кто ждет, возвращается, говорит, его в этот момент видит. В этих местах, даже странно об этом говорить, не было разрушенных домов. Я спросил Фонсо, вернется ли он сегодня вечером наверх.
– Много дел в Турине, – ответил он, – нужно ко всему присмотреться.
Гигант одобрительно покивал.
– А где женщины? – спросил я. – Кате осталась в больнице?
– Сегодня вечером они будут с нами, – сказал Фонсо. – Мы все идем на собрание.
– Какое еще собрание?
Фонсо ухмыльнулся, как мальчишка. «Собрание на площади или в подполье. Как получится. С этим правительством ничего нельзя понять. Раньше за это была обеспечена тюрьма».
Я спросил, где смогу найти их. Пожал ручищу гиганту. И ушел под палящим солнцем. Поел в каком-то кафе в центре, где разговаривали так, словно ничего не произошло. Одно было точно – об этом говорило и вражеское радио – в течении нескольких дней никаких бомб с неба. Я дошел до школы, но там никого не было. Тогда я стал бродить один по улицам и кафе, листал книги в книжном магазине, останавливался перед старыми домами, хранившими воспоминания, которые прежде я никогда не ворошил. Все казалось обновленным, свежим, красивым, как небо после грозы. Я хорошо знал, что это не будет долго продолжаться, и не спеша отправился к больнице, где работала Кате.
VIII
Ночью я поднимался на холм, держа за руку Кате; сонный Дино семенил перед нами. В квартире Фонсо на пятом этаже мы поужинали с его сестрами и соседями. Все смеялись, окружив радио, прислушиваясь к шумам возможных волнений и уличных шествий, заполонивших весь город. Летний вечер, напоенный ароматами и надеждами, кружил мне голову. Потом все мы спустились в мощеный двор, в темноту, где бродили люди – рабочие, жильцы, девушки, – там был один молодой мужчина, который, поднявшись на балкон второго этажа, с жаром, совсем не наивным, говорил о громадном значении случившегося в эти дни, о завтрашнем дне. Услышать подобные речи казалось сном. Меня охватил энтузиазм. «Ни пропаганда, ни террор не коснулись этих людей, – думал я. – Человек лучше, чем о нем думают». Потом, громко споря, говорили другие. Вновь появился прежний гигант. Он призвал к осторожности. Ему долго хлопали. «Он был в тюрьме, – объяснили мне. – Он много раз бастовал… Пусть правительство выступит, – крикнули ему. – Пусть оно разрешит говорить и нам!». Пронзительный женский голос запел песню, к нему присоединились все. Я подумал, что с улицы нас услышат патрули, и стал у ворот на карауле.
Сейчас мы, молча, поднимались с Кате, держась за руки, как влюбленные, и между нами шла надежда, летнее беспокойство. В тот день мы вместе дважды пересекли Турин и перед ужином на площадке на берегу По, перед больницей, я вспомнил, что как раз в этих местах я познакомился с Кате, и отсюда мы отправлялись кататься на лодке. Конец дня был свежим, напоенным запахами, и все – прозрачный воздух, четкость предметов напоминало другие вечера, наивные, мирные вечера. Казалось, что все решено, все дышит надеждами, все можно простить. Мы с Кате еще раз поговорили о Галло, о его грустном, но грубом голосе, о людях тех лет. То новое, что было в мире в тот вечер, уничтожало жестокость, обиды, сопротивление. Мы почти ничего не стыдились и могли спокойно разговаривать.
Кате, шутя, говорила, что не верила в мою страстную любовь к Анне Марии. «Должно быть, она из тех хитрющих женщин, – сказала Кате, – что умеют влюбить в себя. Почему вы не поженились?».
– Она не захотела меня.
Кате нахмурила лоб: «Это ты ее не захотел, – проговорила она. – И дал ей это понять».
– Я был слишком необузданным. Я хотел жениться, чтобы выскользнуть у нее из рук. Больше ничего не оставалось.
– Понятно. Такой уж ты. Ты не можешь никого любить.
– Кате, – произнес я, – Анна Мария была богата и порочна. Тем, кто каждый день принимает ванну, доверять нельзя. У них другая кровь. Эти люди и наслаждаются не так, как мы. Уж лучше фашисты. Впрочем, именно они и дали нам фашистов.
– Ты уверен? – спросила Кате, улыбаясь.
– Если бы у Анны Марии был сын и она назвала бы его Коррадо, я бы умчался прочь, как ветер.
Кате молчала и хмурила лоб.
– Скажи мне, Кате, ты уверена, что Дино…
Мы были одни среди домов и поджидали трамвай. Мы снова очутились на той же улице Ницца, на которой там и сям были разрушенные дома, они придавали ей вид беззубой челюсти. Я взял Кате за руку.
– Нет, – ответила она. – Не нужно, чтобы ты притворялся. Мы уже не те, что прежде. Что значит для тебя, твой ли сын Дино? Если он окажется твоим сыном, ты захочешь жениться на мне. Но из-за этого не женятся. И на мне ты хочешь жениться, чтобы снять с себя какой-то груз. Не думай об этом. – Она поправила мне воротник и погладила меня. Затем улыбнулась: – Я тебе уже все сказала. Не беспокойся. Он не твой сын. Ты доволен?
Я поднес к губам ее ладонь.
– Я не верю этому, Кате, – пробормотал я прямо в ее пальцы. – Если бы ты была на моем месте, то что бы сделала?
– Оставь, прекрати, – рассмеялась она. – Кому нужны дети в наше время?
– Дурочка.
Кате покраснела и сжала мою руку.
– Нет, ты прав. Он выцарапал бы тебе глаза. Если бы узнал. Все бы перевернул вверх дном. Но я его мама, Коррадо.
Сейчас в темноте мы поднимались на холм. Дино ковылял рядом. Он засыпал на ходу. Я обдумывал предыдущий разговор, его теплоту, шагал рядом с Кате и тревожно надеялся. На что? Не знаю, ее мягкость, выдержка, с которыми она ко мне относилась, невысказанное обещание не хранить на меня обиды – на подобное я надеялся уже давно. Я не мог даже возмущаться. Она обращалась со мной так, будто мы были женаты.
Мы разговаривали тихо, чтобы Дино не мог нас услышать. Он все время спотыкался и уже практически спал. Он посапывал, словно ему что-то снилось. Я погладил его по голове. Мне показалось, что это я – мальчик, что это мои короткие волосы и мой взъерошенный затылок. Понимала ли Кате это?
– Кто знает, похож ли Дино на своего отца, – задумчиво сказал я. – Ему нравится бродить по лесам, быть одному. Бьюсь об заклад, когда ты его целуешь, он вытирает щеку. Иногда ты его целуешь?
– Он настоящий ослик, упрямая скотинка, – ответила Кате. – На нем все горит. В школе он всегда со всеми сражается. Но он совсем не злой.
– Ему нравится учиться в школе?
– Пока могу, я ему помогаю, – сказала Кате. – Я так рада, что в следующем году изменятся программы. Он читает и запоминает даже то, что не нужно.
Она почему-то надулась, меня это развеселило.
– Не бери в голову, – сказал я, – все мальчишки хотят воевать.
– Но как здорово, – ответила Кате, – то, что произошло. Кажется, сегодня мы заново родились, выздоровели.
Мы немного помолчали, каждый думал о своем. Дино фыркнул, что-то пробурчал. Я взял его за руку, прижал его к себе.
– Проучившись еще год, в какую школу он пойдет?
– Не знаю. Я просто хочу, чтобы он учился, пока я смогу ему помогать, – ответила Кате. – Чтобы он кем-то стал.
– А сам он хочет?
– Когда ты ему рассказывал о цветах, он был счастлив, – продолжила Кате. – Ему нравится учиться.
– Не очень-то доверяй ему. Для мальчишек это тоже игра, как и война.
Она посмотрела на меня с удивлением.
– Посмотри на меня, – пояснил я. – И я мальчиком изучал науки. Но никем не стал.
– Что ты говоришь? У тебя диплом, ты учитель. Хотела бы я знать то, что знаешь ты.
– Быть кем-то – совсем другое, – спокойно сказал я. – Ты этого даже и представить себе не можешь. Для этого нужно везение, смелость, воля. Прежде всего смелость. Смелость оставаться одному, как будто бы других не существует, и думать только о деле, которым ты занимаешься. Не пугаться, если людям на это наплевать. Нужно годами ждать, нужно умереть. А потом, после смерти, если повезет, станешь кем-то.
– Ты все тот же, – прошептала Кате. – Чтобы ничего не делать, ты говоришь, что это невозможно. Я же только хочу, чтобы Дино в этой жизни хорошо устроился, чтобы ему не пришлось надрываться на работе, и чтобы он не проклинал меня.
– Если ты на самом деле надеешься на революцию, – сказал я, – тебя должен был бы устроить и сын-рабочий.
Кате обиделась и надулась. Потом сказала: «Я хотела бы, чтобы он учился и стал таким, как ты, Коррадо. Не забывая и о нас, несчастных».
Той ночью Эльвира поджидала меня у калитки. Она даже не спросила, ужинал ли я. Она обошлась со мной холодно, как с легкомысленным мальчишкой, который вляпался в неприятности и заставил всех страдать. Она даже не спросила, что я делал в Турине. Только сказала, что они всегда ко мне относились хорошо и думали, что у них есть право на уважение, на беспокойство. Добавила, что я могу быть с кем угодно, но по крайней мере нужно предупреждать.
– Какие права, – раздраженно ответил я. – Ни у кого нет никаких прав. У нас есть одно право – подохнуть, проснуться уже мертвецами. В том то все и дело.
Эльвира в темноте смотрела мимо меня. Молчала. Я со страхом заметил, что на ее щеках заблестели слезы.
В этот момент терпение у меня лопнуло: «В мире мы появились случайно, – сказал я. – Отец, мать, дети, все появились случайно. Бесполезно плакать. Рождаются и умирают в одиночестве…»
– Достаточно хотя бы немного любви, – прошептала она.








