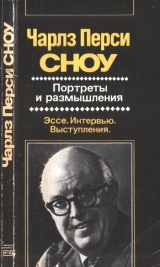
Текст книги "Портреты и размышления"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
К Троллопу ничто из этого не относится. Если отнять у него его главный дар или не распознать его (как часто и случалось), останется очень мало. Он был бы просто еще одним удобочитаемым информативным романистом XIX века – и только. А это далеко не так.
Ваша оценка его места как писателя будет прямо пропорциональна тому, насколько вы цените свойственное ему проникновение в человеческую индивидуальность. Если вы цените такое проникновение высоко и считаете его одним из важнейших дарований, необходимых романисту, тогда вы поставите Троллопа очень высоко. Люди ортодоксального склада имеют обыкновение утверждать, что им и в голову не придет распределять писателей по рангам, после чего они тут же производят такое распределение, только не называя вещи своими именами.
Когда в эту игру принимается играть автор настоящей книги, он вводит для Троллопа особый ранг – чуть ниже и в стороне от самых великих. Но там, где и Троллоп и Толстой стремились к одному и тому же, крайне интересно сравнить Троллопа с самым великим из великих.
Человек, впервые берущийся за Троллопа, может без труда проверить, насколько оправданна такая оценка. От него осталось сорок семь романов – необъятное море. Естественно, что разумнее всего будет прочесть один-два романа очень внимательно, а потом перечитать их. Троллоп, подобно всем писателям, простым и ясным на поверхности, под которой скрывается большая глубина, дает возможность разных истолкований и оценок, а для этого прочесть один его роман один раз недостаточно. Хотя такой совет расходится с общепринятой точкой зрения, но начать, пожалуй, следует с какого-нибудь из менее трудных романов, вроде «Детей герцога» или «Фремлейского прихода». В них он особенно проникновенен, но не так тревожаще сложен. Затем – «Барчестерские башни» или «Ферма Орли»{81}. Затем – «Последняя барсетширская хроника».
Если, прочитав их, вы не найдете в Троллопе ничего особенного, откажитесь от дальнейшего знакомства с ним. Он – не для вас. Вы не настроены на его лад. Возможно, вы наделены всеми другими нравственными и эстетическими достоинствами, доступными человеку, но приобщиться его апперцепции вам не дано. Быть может, вы считаете, что, став взрослым, тем самым в готовом виде обрели все ярлычки, приложимые к человеческой личности. Что же, так считали и некоторые великие писатели. И на многих читателей они производят самое глубокое впечатление. Но по мнению других читателей, им не хватает того духа проб и исканий, который позволяет приблизиться к истине. А у Троллопа этот дух есть.
Внешне его приемы сначала складывались, как у всех романистов, ставивших себе сходные задачи. Он был хорошим наблюдателем. Впрочем, здесь требуется оговорка. Не столь уж многим романистам присуща сименоновская способность создавать визуальное ощущение присутствия. Троллоп как будто мало чему научился в картинных галереях, хотя на усилия он не скупился. В восприятии архитектуры он так же скучен, как Джейн Остин. Но он умел наблюдать своих людей. Когда он чем-то интересовался по-настоящему, его зрение и слух (особенно слух) обретали редкостную остроту.
Он интуитивно знал, как знали писатели-реалисты всех времен, что тело человека неотделимо от его души. И его описания физической внешности мужчин и женщин, не детализированные, но тщательные, составляют неотъемлемую часть целого. В огромной галерее его персонажей не найдется ни одного, чье описание противоречило бы личности, сознанию и характеру, которые Троллоп затем начинает анализировать. В произведениях романистов не столь интуитивных или менее опытных тут далеко не всегда обходится без фальши. Но Толстой, Пруст и почти всегда Бальзак умели быть в этом абсолютно правдивыми.
Троллоп видел своих людей ясно и во всех частностях, однако его главным инструментом в создании характеров был слух. То есть способность передавать в диалоге тон устной речи, причем индивидуальной для каждого персонажа. Это, пожалуй, самое полезное для романиста техническое умение – и не просто техническое. Романист не сможет так проникнуться чужой манерой речи, если он не способен слушать всем своим существом. И кстати, тот диалог, который он в конце концов запечатлевает на бумаге, напоминает магнитофонную запись лишь очень отдаленно. Реальный разговор, записанный на магнитофоне и точно воспроизведенный в романе, читать было бы невозможно. Такого рода натурализм испробовался неоднократно, и каждый раз это кончалось плачевным провалом, если только он не предлагался в микроскопических дозах.
Как ни странно, запинки, всякие «э» и «гм», а также отсутствие законченности в живой речи затушевывают различия между личными интонациями, а они-то больше всего и нужны романисту. Реалистический диалог в романе – это особое и очень тонкое искусство: он должен звучать верно на слух, хотя и строится на скрытых условностях.
Троллоп был одним из крупнейших мастеров такого диалога. Говоря о хорошем музыкальном слухе Троллопа, Генри Джеймс имел в виду общую его чуткость и употребил это выражение метафорически. Тем не менее Джеймс, сам прекрасно писавший диалог, отдавал Троллопу должное и в этом отношении. Диккенсу диалог тоже нередко удавался блистательно, но, как обычно при сравнении его с Троллопом, тут обнаруживается многозначительный контраст. Они слушали людей по-разному. Диккенс слушал как имитатор, великолепно умеющий концентрировать впечатление, и как имитатор он отбирал те выражения и речевые обороты, которые особенно смешили его и поражали. И опять-таки как имитатор он был склонен повторять свои эффекты или злоупотреблять одним каким-то эффектом. Троллоп же просто слушал и воспринимал.
Разумеется, плодотворно анализировать искусство диалога можно только по тексту и в контексте. Тут не место для такого анализа, а диалога и у Диккенса, и у Троллопа колоссально много – особенно у Троллопа. Литературоведческая работа о диалоге у викторианских мастеров могла бы оказаться очень ценной: те же Диккенс и Троллоп, Джордж Элиот, Генри Джеймс – этого было бы вполне достаточно, хотя, конечно, не помешали бы краткие сопоставления с хорошими писателями, у которых диалог был плох, вроде Шарлотты Бронте{82} или Уилки Коллинза{83}. В такой работе следовало бы рассмотреть сходство и различия между литературной речью середины прошлого века и нашей собственной, причем, как уже указывалось, сходства, несомненно, удалось бы найти гораздо больше, чем различий.
В подтверждение этого тезиса было бы полезно предварительно послушать, как кто-нибудь читает вслух Диккенса и Троллопа. Диалог Диккенса звучит гораздо более естественно, а нередко и более современно по тону, чем ожидаешь. Диалог же Троллопа звучит совершенно естественно, и когда (очень редко) в нем мелькает выражение или оборот, которые мы не употребили бы, они буквально режут слух.
Пожалуй, тут все-таки стоит привести два коротких образчика троллоповского диалога, чтобы показать возможное направление такого анализа текста. Взяты эти отрывки из «Доктора Торна», первого троллоповского романа, имевшего широкий успех, хотя и не входящего в число лучших его книг, и представляют собой два разных разговора одних и тех же персонажей.
Один – мистер Грешем, «первый коммонер Барсетшира», помещик, принадлежащий к той группе нетитулованных землевладельцев, которая пользовалась особыми симпатиями Троллопа. Он прожил большую часть родового состояния. Его собеседник – доктор Торн, хороший, но обедневший врач, тоже происходящий из старинного помещичьего рода. Мистер Грешем обращается к нему за советом, как к поверенному своих тайн. Описания и пояснения исключены, и разговор их приводится здесь, как диалог в пьесе. Курсивом выделены слова и выражения, которые мы сейчас не употребили бы. (Обороты did not и т. д. даются, как в тексте XIX века. Произносились они, разумеется, didn’t и т. д., точно так же, как произносим их мы.)
Mr Gresham: You did not see Humbleby as you came in?
Dr Thorne: No I did not; and if you will take my advice you will not see him now; at any rate with reference to the money.
Mr Gresham: I tell you I must get it from someone; you say Scatcherd won’t let me have it.
Dr Thorne: No, Mr Gresham; I did not say that.
Mr Gresham: Well, you said what was as bad. Augusta is to be married in September, and the money must be had. I have agreed to give Moffatt six thousand pounds and he is to have the money down in hard cash.
Dr Thorne: Six thousand pounds. Well, I suppose that isn’t more than your daughter should have. But then, five times six are thirty: thirty thousand pounds will be a large sum to make up. (There were five Gresham daughters.) Mr Gresham: That Moffatt is a griping, hungry fellow. I suppose Augusta likes him, and, as regards money, it is a good match.
Dr Thorne: If Miss Gresham loves him that is everything. I am not in love with him myself: but then, I am not a young lady.
Mr Gresham: The de Courcys are very fond of him. Lady de Courcy says that he is a perfect gentleman, and thought very much of in London.
Dr Thorne:
(with quiet sarcasm, lost on Mr Gresham):Oh! If Lady de Courcy says that, of course it’s all right._______________
Грешем: Вы не видели Хамблби, когда входили?
Торн: Нет, не видел. И если вы послушаете моего совета, вам тоже незачем сейчас его видеть – во всяком случае по поводу денег.
Грешем: Но ведь мне необходимо их у кого-нибудь достать. Вы же сказали, что Скетчерд не даст.
Торн: Нет, мистер Грешем, этого я не говорил.
Грешем: Ну, то, что вы сказали, ничем не лучше. Свадьба Огасты назначена на сентябрь, и эти деньги совершенно необходимы. Я согласился дать Моффату за ней шесть тысяч фунтов, причем наличными. Торн: Шесть тысяч фунтов. Ну конечно, по меньшей мере столько вашей дочери и положено. С другой стороны, пятью шесть – тридцать, а тридцать тысяч фунтов – большая сумма, и собрать ее будет непросто.
(У Грешема было пять дочерей. – Ч. С.)Грешем: Этот Моффат алчен и ненасытен. Но Огасте он как будто нравится, а в денежном отношении это хорошая партия.
Торн: Если мисс Грешем любит его, остальное значения не имеет. Сам я в него не слишком влюблен, но ведь я не юная девица.
Грешем: Де Курси к нему очень благоволят. Леди де Курси говорит, что он безупречный джентльмен и его высоко ставят в Лондоне.
Торн:
(с тихим сарказмом, которого мистер Грешем не замечает):О, если это говорит леди де Курси, то, разумеется, все прекрасно.
С небольшими словесными поправками эту сценку можно было бы показать на лондонских подмостках хоть завтра. Финансовая дилемма, конечно, нам чужда, но диалог мог быть написан и в 1975 году.
Проходит несколько недель, а мистер Грешем все еще не сумел раздобыть требуемую сумму.
Mr Gresham: You wouldn’t have me allow my daughter to lose this match for the sake of a few thousand pounds? It will be well at any rate to have one of them settled. Look at that letter from Moffatt
(gives letter, which says Moffatt can’t and won’t marry without the money, to Dr Thorne).It may be all right, but in my time gentlemen were not used to write such letters as that to each other.(Dr Thorne shrugs his shoulders.)Mr Gresham:
(continuing):I told him that he should have the money: and one would have thought that would have been enough for him. Well: I suppose Augusta likes him. I suppose she wishes the match; otherwise I would give him such an answer to that letter as should startle him a little.Dr Thorne: What settlement is he to make?
Mr Gresham: Oh, that’s satisfactory enough; couldn’t be more so; a thousand a year and the house at Wimbledon for her; that’s all very well. But such a lie, you know, Thorne. He’s rolling in money, and yet he talks of his beggarly sum as though he couldn’t possibly stir without it.
Dr Thorne: If I might venture to speak my mind —
Mr Gresham: Well?
Dr Thorne: I should be inclined to say Mr Moffatt wants to cry off himself.
Mr Gresham: Oh, impossible, quite impossible. In the first place, he was so very anxious for the match. In the next place, it is such a great thing for him. And then, he would never dare; you see, he is dependent on the de Courcys for his seat.
Dr Thorne: But suppose he loses his seat?
Mr Gresham: But there is not much fear of that, I think. Scatcherd may be a very fine fellow, but I think they will hardly return him at Barchester.
Dr Thorne: I don’t understand much about it, but such things do happen.
Mr Gresham: And you believe that this man absolutely wants to get off the match; absolutely thinks of playing such a trick as that on my daughter – on me?
_______________
Грешем: Вы же не захотите, чтобы я позволил моей дочери лишиться такой партии из-за нескольких тысяч фунтов? Хорошо, что хоть одна из них будет пристроена. Прочтите-ка это письмо от Моффата
(дает Торну письмо, в котором говорится, что Моффат не может и не станет жениться без обещанных денег).Может быть, так и надо, но в мое время джентльмены не имели обыкновения писать друг другу подобные письма.(Доктор Торн пожимает плечами.)Грешем:
(продолжает):Я сказал ему, что деньги он получит, и, казалось бы, он мог бы этим удовлетвориться. Но, полагаю, Огасте он нравится. Полагаю, ей хочется за него, иначе я ответил бы на это письмо так, что он опешил бы.Торн: А какое обеспечение он дает жене?
Грешем: Вполне достаточное и даже более того: тысячу в год и дом в Уимблдоне на ее имя. Тут все хорошо. Но как он лжет, Торн! Сам купается в деньгах, и все же настаивает на такой нищенской сумме, словно никак без нее обойтись не может.
Торн: Если мне будет позволено высказать мое мнение…
Грешем: Ну?
Торн: …я бы предположил, что мистер Моффат склонен порвать помолвку.
Грешем: Нет, этого не может быть, никак не может. Во-первых, он так добивался этого брака. Во-вторых, для него это очень важно. И в-третьих, он не посмеет: видите ли, его место в парламенте зависит от де Курси.
Торн: Но предположим, его не переизберут?
Грешем: Я думаю, этого опасаться нечего. Возможно, Скетчерд и отличный человек, но в Барчестере его вряд ли выберут.
Торн: Я не особенно в этом разбираюсь, но такие вещи случаются.
Грешем: И вы считаете, что этот молодчик действительно хочет увернуться от брака, действительно думает сыграть такую штуку с моей дочерью? Со мной?
Эти отрывки были написаны более ста лет назад. И мы можем лишь снова поразиться, насколько мало изменилась с тех пор устная речь образованных англичан. При подготовке к подробному исследованию викторианского диалога полезно обратить внимание на следующее: 1) на число идиоматических выражений (типа hard cash, rolling in money), которые по-прежнему широко употребляются; 2) на слова, вышедшие из употребления в данном значении, например absolutely[14]14
Еще в 30-х годах нашего века глубокие старики употребляли слово absolutely с тем же значением, что и Троллоп.
[Закрыть] там, где мы сказали бы actually; 3) на разрыхление нашего синтаксиса. Без всякого сомнения, викторианцы в письменной речи – а по свидетельству Троллопа (и Диккенса), также и в устной речи – чаще пользовались формами сослагательного наклонения, чем мы. Судя по всему, они, кроме того, употребляли правильные формы будущего времени и условного наклонения там, где мы обходимся формами настоящего времени (или, как ни странно, прошедшего). Так, доктор Торн говорит: If you will take my advice, а мы сейчас сказали бы: If you take my advice. Синтаксис, сохранявшийся в устной литературной речи англичан середины прошлого века, по-видимому, близок к современному французскому.
И еще об одном моменте, который не проиллюстрирован в этих отрывках, взятых более или менее наугад. Некоторые выражения времен Троллопа, вышедшие из употребления в современной англо-английской речи, сохранились в литературной англо-американской. Троллоповские аристократы говорят gotten. Но гораздо интереснее использование слова quite – например, I was quite pleased to get your letter. И Троллоп, и современные американцы употребляют это слово в значении «очень». В современном англо-английском языке quite уже довольно давно несет в себе оттенок пренебрежения, так что эта фраза звучит более чем холодно. Подобных примеров можно набрать очень много. Речевые манеризмы троллоповских привилегированных классов гораздо ближе современным американским привилегированным классам, чем современным английским. Архидьякон Грантли сказал бы: «Миссис Грантли и я будем рады вас видеть». Нынешний английский архидьякон назовет жену просто по имени.
Хотя эти рассуждения интересны для автора настоящей книги, такой интерес, возможно, разделяют далеко не все, а потому тут, пожалуй, следует остановиться. Тем не менее тема диалога в романах вполне заслуживает внимания специалистов. Для нас же важно одно: в распоряжении Троллопа было замечательное средство для выражения (и раскрытия) характеров. И оно не сводилось только к системе сознательно отработанных приемов; несравненно большую роль тут играла своего рода незримая благодать – другими словами, умение Троллопа самозабвенно и терпеливо сосредоточиваться на других людях.
* * *
Это сразу подводит нас к двум главным проблемам, которые должен был решать Толстой и все писатели-реалисты после него, как ведущие, так и второстепенные. Решать их пришлось и Троллопу, но это не потребовало от него ни малейшего напряжения. Пожалуй, одна из них могла бы его затруднить, но с помощью все той же незримой благодати он легко разделался с обеими.
Он как бы инстинктивно знал, что претворение апперцепции в произведение искусства, то есть в вымышленных людей, которых мы видим и понимаем, только начинается с их внешней обрисовки. Такая обрисовка необходима, но недостаточна. Речевая характеристика открывает больше, но тоже недостаточно. Троллоп – и в этом он походит на всех крупнейших романистов, ставивших в центр своих произведений человеческую натуру, – не был бихевиористом{84}. То, что человек говорит и делает, еще не выражает его полностью. Как достичь большего?
Первая проблема заключается в подходе романиста к каждому отдельному человеку. Для Троллопа это было столь же естественно, как дышать. Просто будь прямолинеен, насколько сможешь. Люди (конечно, не писатели) не настолько умны, чтобы сплетать всякие тонкости. Человек, на которого ты смотришь, достаточно сложен без того, чтобы писатель ему еще что-то добавлял. А потому ты рассматриваешь его попросту как самого себя. Нельзя навязывать ни себя, ни стиль (ведь это тоже особая форма навязывания). Писатель обязан подавлять себя. Ничто не должно стоять (как выразился Лоренс в иной связи) между ним и этим. («Этим» для Троллопа был бы человек, которого он старался понять.)
Казалось бы, легко. И действительно, для Троллопа при его темпераменте это было довольно легко. Но совсем нелегко это было для Толстого – чем отчасти и объясняется его восхищение Троллопом. У Толстого было колоссальное «эго», которое требовало непрерывного подавления – иначе он не мог бы принять и понять своих собственных персонажей. В «Войне и мире» это могучее «эго» вырывается на свободу там, где Толстой, словно Зевс олимпийский, повелевает Наполеону быть ничтожным или диктует законы ходу истории. Но он побеждает свое «эго», когда стоит перед вымышленными им людьми – с ними он столь же смирен и ненавязчив, как и сам Троллоп. То, что Толстой был на это способен, знаменует величайшее торжество искусства. Троллопу же такая позиция давалась легко – у него, как показал наш анализ, «эго» было слабым, нередко даже в ущерб его житейскому благополучию. Оставаться в стороне, изучать, впитывать – это было в его натуре. Он совершенно не хотел управлять жизнью других людей. А Толстой хотел. Однако Толстой был чрезвычайно честным художником. Чтобы обрисовывать и анализировать других людей, необходимо хотя бы на время отказаться от желания управлять ими. В двух своих великих романах Толстой добивается от себя того, что у Троллопа получалось само собой.
Как честный художник, Толстой увидел возможное разрешение трудностей (хотя и не всех) в языке. И с теми же сознательными усилиями он для раскрытия характеров принялся выковывать самый простой стиль. Слово «выковывать» – это, конечно, штамп, но оно действительно подходит к методам его работы. Достаточно заглянуть в рукописи его романов, чтобы увидеть, как он раз за разом убирает яркое слово и заменяет его уже употребленным раньше. Во всей истории литературы трудно найти другую такую последовательную и на первый взгляд обедняющую переделку. Некоторые критики усмотрели в ней нечто чудовищное, однако с точки зрения его конечной цели – достижения высшей прямоты – она была вполне оправданна. Когда Толстой давал себе волю, он становился одним из самых красноречивых писателей и писал удивительно красноречивым языком. Но со своими персонажами он не давал себе воли и рассказывал правду, безжалостно убирая все остальное.
Троллопу таких усилий делать не приходилось. Его прозрачный, лишенный украшений язык (который часто недооценивался, причем его гибкость оставалась вовсе незамеченной) в совершенстве отвечал той же цели. Таким же был деловой язык Стендаля. И язык Гальдоса, как утверждают люди, знающие испанский. Именно такую манеру предпочитали многие величайшие исследователи характеров независимо от того, была ли она врожденной или ее приходилось вырабатывать.
Вторая проблема представляла значительно большие трудности. Ни один из этих мастеров не сумел ее полностью разрешить – как не сумел никто другой вплоть до нынешнего дня. Каким способом выразить то, что происходит в сознании человека? И не только в критические минуты (например, архидьякон Грантли у смертного одра своего отца), но во всех случаях, когда в имманентном индивидуальном сознании протекает какой-то процесс. Что это такое? Непрерывное течение? Хаотическое движение взад и вперед? Прерывистые скачки? Как он варьируется от индивида к индивиду? Иногда употребляется термин «поток сознания»{85}, но он нередко вводит в заблуждение. Вероятно, это далеко не всегда поток и, строго говоря, осознается лишь частично. Безусловно, он далеко не всегда бывает словесным, а у многих людей чаще вообще не облекается в слова. В какой мере его можно передать словами? И насколько имеет смысл это делать?
Начиная со Стендаля, создатели психологических романов по-разному отвечали на эти вопросы. Вероятно, ни один ответ нельзя счесть полностью удовлетворительным. Скорее всего, единого ответа вообще не существует. Двое величайших творцов психологического романа, Достоевский и Пруст, выбрали методы, которые, по сути, позволили обойти проблему, словно оба они не сочли нужным браться за нее прямо. Достоевский предоставил своим персонажам частично объяснять, что происходит в их сознании, прибегая к невозможному расширению пределов обычной речи. Никто никогда не говорил совсем так, как Иван Карамазов говорил в саду с Алешей, но из этих великолепных монологов можно вывести содержание – хотя, пожалуй, не структуру – недоступных извне мыслей Ивана. Пруст для того же использовал собственные пояснения, игру своего аналитического ума. Ни он, ни Достоевский не пытались показать непосредственно, миг за мигом, конкретное движение мыслительного процесса (хотя Толстой несколько раз пробовал это проделать – например, когда князь Андрей лежит раненый после битвы при Бородино).
Автору настоящей книги методы Достоевского и Пруста представляются гораздо более насыщенными внутренним смыслом, чем любые попытки прямого воспроизведения, но это чисто субъективное восприятие, и, возможно, оно зависит от характера собственных умственных процессов. Несомненно, немалому числу читателей прямое воспроизведение либо подсказывает содержание умственных процессов, либо непосредственно его передает. Величайшую из таких прямых попыток предпринял Джойс{86}. Вот пример, взятый из первой части «Улисса»:
«Мистер Блум вытянул шею, чтобы разобрать слова. Английские. Бросить им кость. Я что-то помню. Сколько времени прошло с твоей последней мессы? Слава в вышних и Непорочная Дева. Супруг ее Иосиф. Петр и Павел. Гораздо интереснее, если понимаешь, что тут к чему. Все-таки поразительная организация, работает как часы. Исповедь. Все до того хотят. Тогда я скажу вам все. Эпитимья. Пожалуйста, накажите меня. Могучее оружие в их руках. Больше, чем врач или поверенный. Женщина просто умирает. И я ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш; а вы че-че-че-че-че-че-че? А почему вы? Смотрит на свое кольцо, ища извинения. У стен под сводами есть уши. Муж узнал, к своему удивлению. Божья шуточка. А потом она выходит. Чайная ложка раскаяния. Приятненький стыд. Молится у алтаря. Богородица Дева, Пресвятая Дева. Цветы, ладан, тающие свечи. Прячут краску ее стыда. Армия Спасения{87} с ее вульгарной подделкой. Раскаявшаяся проститутка обратится к собранию. Как я обрела Господа. У этих ребят в Риме есть голова на плечах – дирижируют всем спектаклем. Да уж и деньги гребут! И завещания: приходскому священнику на полное его усмотрение. Мессы же за упокой моей души служить публично при открытых дверях. Монастыри и обители».
Подход к решению прост и прямолинеен. Мыслительные процессы рассматриваются как дискретные или раздробленные – конкретные движения следуют друг за другом, каждое в данный временной момент. Таким образом, каждое движение представлено словесным коррелятом в отношении один к одному, как могли бы определить это математики. Или же, поскольку мыслительный процесс у Джойса главным образом, хотя и не исключительно, носит устный характер, конкретное движение и словесный коррелят сливаются воедино, превращаются в нечто одно. «Женщина просто умирает. И я ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш; а вы че-че-че-че-че-че-че?» Тут конкретные движения мыслительного процесса Блума и слова слиты практически полностью.
Многих (особенно, пожалуй, тех, у кого высоко развита эстетическая восприимчивость) подобная передача мыслительного процесса вполне удовлетворяет. Но многих других – нет. Они мыслят иначе, а если иногда нечто подобное у них и происходит, то редко и не непрерывно: их обычный мыслительный процесс менее дискретен, менее одномоментен, менее словесен и менее поддается прямому выражению в словах, но содержит значительно больший элемент внесловесного.
Представляется все более и более вероятным, что характер этого процесса заметно варьируется от индивида к индивиду. В настоящее время мы можем исходить только из интроспективных экскурсов, а их возможности по самому определению ограниченны. Пытаться интроспективно постичь механизмы сознания – это, пожалуй, примерно то же, что встать в бадью и попробовать поднять себя за ее ручку.
Писателям остается делать то, что в их силах. По ощущению многих Джойс достиг тут всего, чего только можно достичь (отношение один к одному он использовал отнюдь не первый, но с несравненно большим мастерством, чем его предшественники)[15]15
Ср.: Эдуард Дюжарден. «Лавры сорваны». Париж, 1887.
[Закрыть]. Никто не станет утверждать, будто Троллоп достиг всего в ином подходе к изображению мыслительных процессов, но чего-то он достиг, в чем нетрудно убедиться, наблюдая, как он исследует сознание мистера Кроули или леди Мейбл Грекс.
Троллоп не нашел сложного способа обойти эту проблему, как Достоевский или Пруст. Его собственное сознание было слишком прямолинейным, и то же можно сказать о его подходе к людям. В человеческом мозгу возникают мысли, которые требуют выражения, а потому необходимо попробовать как-то это передать. Но даже если бы он писал на более позднем этапе развития романа, ему и в голову не пришло бы пытаться миг за мигом фиксировать конкретные движения мыслительного процесса. И не потому, что он был так уж наивен – трудно найти менее наивного человека. Просто его интересовали мыслительные процессы иного характера. Если бы он вообще об этом думал, то пришел бы к выводу, что анализ непосредственного момента (пусть даже его непосредственный момент радикально отличался бы от джойсовского) исключит все, что его особенно интересует. А интересовала его прежде всего человеческая личность, взятая в целом. И затем уже, как следствие, – те элементы мыслительных процессов, которые приводят к этическому выбору или к проистекающим из него поступкам.
А потому он развил для своих целей своеобразную форму психологического потока. Вот несколько примеров из раннего его романа «Оллингтонский Малый дом».
Адольф Крозби, человек с некоторыми достоинствами, небесталанный, но в сущности безвольный (о безволии Троллоп знал очень много), познакомился с племянницами сквайра Дейла, и младшая из них, Лили, очаровательная, остроумная, волевая девушка, глубоко его полюбила. Он тоже в нее влюбился – настолько, что сделал ей предложение. Они считаются помолвленными. У нее нет состояния. Он – молодой, подающий надежды чиновник, получающий в год восемьсот фунтов (в середине прошлого века очень высокое жалованье для молодого человека), мечтающий о карьере и о положении в обществе.
Он отправляется обедать в Большой дом к сквайру Дейлу.
«Когда Крозби поднялся в спальню, чтобы переодеться к обеду, его охватила та тоскливая грусть, о которой я уже упоминал. Неужели он должен бесповоротно погубить все то, чего достиг за последние годы своей до сих пор успешной карьеры? А вернее, – спросил он себя по-иному, – разве этот успех уже не погублен? Его брак с Лили, сулит ли он радость или горе, уже решен, и никаких сомнений быть не может. Надо отдать Крозби должное: в эти минуты горечи он все-таки старался думать только о Лили, о том, какое сокровище будет ему принадлежать и возместит (или, во всяком случае, должно возместить) все потери. Но горечь не рассеивается. Он должен отказаться от своих клубов, от привычки модно одеваться, от всего, чего он успел достичь, и довольствоваться тихой будничной семейной жизнью на восемьсот фунтов в год в каком-нибудь тесном домишке, полном малолетних ребятишек. Не для такого Эдема он себя готовил! Лили мила, очень мила. Он твердил себе, что она „в тысячу раз милее всех известных ему девушек“. И как бы все ни обернулось дальше, с этих пор он обязан в первую очередь заботиться о ее счастье, ну, а его собственное… он начинал опасаться, что потеряет больше, чем получит. „Сам виноват! – сказал он себе, намереваясь благородно завершить свой монолог. – Я готовил себя для другого… и очень глупо. Конечно, я буду страдать, адски страдать, но об этом никто никогда не узнает. Любимое, нежное, невинное, прелестное создание!“»[16]16
Э. Троллоп. «Оллингтонский Малый дом», гл. 7.
[Закрыть]
Из Оллингтона он едет в замок де Курси. Де Курси принадлежат к самым себялюбивым аристократам Троллопа. Они пользуются определенным влиянием. И у них есть несколько незамужних дочерей. Александрине, младшей, под тридцать – она примерно на год старше Крозби. Крозби наслаждается своим пребыванием в графском замке и в первый же день в разговоре с одним из сыновей де Курси отмалчивается, хотя прямо и не отрицает слухов о том, что он недавно обручился.








