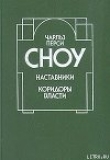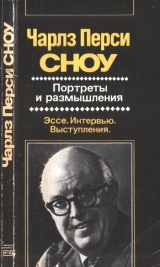
Текст книги "Портреты и размышления"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Вторую форму закрытой политики, мне кажется, лучше всего назвать иерархической, так как она заключается в передаче команды по цепи. Это тот метод, которым пользуются в армии, в больших учреждениях и на крупных промышленных предприятиях. Внешне он выглядит необычайно просто. Достаточно войти в контакт с лицом, ответственным за данное дело, и необходимые распоряжения сами собой дойдут до исполнителя. Если вы договорились с руководителем, вам больше не о чем беспокоиться. Такого мнения обычно придерживаются люди, которые не представляют себе, что такое иерархия; оно широко распространено среди тех, кто достаточно циничен и недостаточно опытен – одно из самых неприятных сочетаний, как мне кажется. Нет ничего наивнее подобной точки зрения.
В действительности передача команды по цепи осуществляется совершенно иным образом. По существующим стандартам англичане достаточно дисциплинированный народ – я имею в виду нашу гражданскую службу и наши вооруженные силы. Английские офицеры в отличие от некоторых из их американских коллег не так поспешно высказывают свое мнение, когда оно не совпадает с мнением старших по чину. Но по существу – хотя и не по форме – в обеих наших странах работа строится по одному и тому же принципу.
Для того чтобы привести в движение громоздкую многоступенчатую организационную машину, нужно увлечь людей, работающих на самых разных уровнях. От их решений, от их безразличия или энтузиазма (а главное – от отсутствия пассивного сопротивления с их стороны) зависит, будет ли сделано вовремя то, что нужно, или нет. Тизард прекрасно это понимал, и, по единодушному мнению всех компетентных судей, это обстоятельство сыграло решающую роль при подготовке сети радаров. Он с самого начала пользовался поддержкой высокопоставленных политических деятелей и административных работников (Черчилль и Линдеман не играли тогда никакой роли). На его стороне был штаб авиации и командиры подразделений авиации. А он тратил силы главным образом на убеждение и уговоры младших офицеров, которым предстояло следить за работой радаров, когда те будут готовы.
Точно так же он убеждал и уговаривал ученых, конструирующих радары, и администраторов, отвечающих за их производство. Как все люди, разбирающиеся в административной работе, Тизард постоянно спрашивал себя: «К кому обратиться? О чем попросить?» Потому что в противовес резолюциям реальное решение вопроса часто зависит от человека, находящегося на нижнем конце цепочки. Такие администраторы, как Хэнки и Бриджес, были знатоками организационной механики: они подгоняли и подталкивали, поощряли и требовали, умело воздействуя на самые недоступные колесики английской государственной машины, и с помощью тех самых приводных ремней, которые придают столь примитивный вид схемам организационной структуры нашего государства, добились того, что радары были готовы вовремя.
Вспоминаю, как мне самому в начале войны пришлось явиться к одному ответственному должностному лицу, что вызвало глубокое изумление и, боюсь, даже возмущение моего непосредственного начальства. Я приступил к работе за несколько месяцев до этого и был одним из младших, и притом временных, сотрудников, но мне было поручено подготовить большое число высококвалифицированных специалистов по радарам. Увлекшись цифрами, никто, конечно, не позаботился о чисто человеческих нуждах знатоков нового прибора. Получив повестку, я отправился в казначейство. Мой собеседник находился настолько выше меня на иерархической лестнице, что в обычной ситуации контакт между нами был бы невозможен. В данном же случае это не имело значения. Много лет спустя мы стали друзьями. В тот день, однако, наш разговор продолжался не больше пяти минут. Все ли идет по плану? Хватит ли у нас людей? Успеем ли мы к сроку? На эти вопросы я ответил утвердительно. Нужна ли мне какая-нибудь помощь? Пока нет. Вот и все. Иерархическая политика иногда пользуется и такими методами. Когда есть настоящая цель, когда есть укоренившееся, не требующее слов уважение к некоторым правилам, иерархическая политика иногда оказывается весьма действенной.
Это та форма политики, которая требует гораздо больше внимания, чем ей обычно уделяют те, кто хочет представить себе, как работают большие учреждения не в теории, а на практике[102]102
Интересным полем исследования могла бы явиться «Бритиш брод кастинг корпорейшн» (Би-би-си): хотя на стороннего наблюдателя она производит впечатление мира Кафки, из ее деятельности можно было бы почерпнуть несколько хрестоматийных примеров иерархической политики.
[Закрыть]. На практике вы должны прежде всего расстаться с романтическими представлениями об официальной власти. Руководители таких гигантских корпораций, как «Дженерал моторс»{382}, «Дженерал электрик»{383}, или схожих английских фирм в силу самой природы этих объединений не могут действовать теми же методами, что и владельцы небольшой кинокомпании, не могут, даже если бы они этого хотели. Благословенные проявления власти, вроде найма и увольнения служащих, тем менее связаны с реальным содержанием вашей работы, чем сложнее организация, которой вы руководите, и чем более высокий пост вы занимаете. Я думаю, что наиболее интересны и наиболее сложны методы иерархической политики в Соединенных Штатах, во всяком случае интереснее и сложнее, чем в любой стране западного мира.
Третья разновидность закрытой политики, которая применялась во время столкновения Тизарда с Линдеманом, самая простая. Я назову ее придворной политикой. К этому виду политики я отношу любые попытки одного человека осуществлять давление с помощью другого человека, стоящего у кормила власти. Лучшим примером такого рода политики могут служить отношения Линдемана и Черчилля.
В 1940 году, как я уже говорил, Линдеман попросил Тизарда зайти к нему на Даунинг-стрит, 10. В то время Тизард был главным научным советником правительства. Линдеман не занимал никакого официального поста, он был лишь личным другом Черчилля. Еще до того, как их разговор окончился, Тизард знал, что срок его полномочий истек. Через три недели он подал в отставку.
Следующие 18 месяцев, вплоть до конца 1941 года, Линдеман все еще не занимал никакого официального положения, но он обладал такой властью, какой не обладал ни один ученый за всю историю человечества.
У Рузвельта тоже был свой двор, и его администрация, наверное, охотно пользовалась методами придворной политики, но, насколько я знаю, он никогда не имел близких друзей среди ученых, а Ванневар Буш{384} и его коллеги занимались своей работой, находясь на обычном расстоянии от президентского кресла, и пользовались для связи с Рузвельтом обычными официальными каналами. Гитлер также имел двор, но он, как никто другой, сумел сконцентрировать всю власть в своих руках. Случайным образом около него не оказалось ни одного ученого, хотя он был заинтересован в создании нового оружия. К счастью для человечества, Гитлер был лишен какого бы то ни было научного понимания.
Черчилль и Линдеман действительно работали вместе, как один человек, и вместе принимали все решения, касающиеся науки, а также многие другие. В начале своей карьеры «Серого кардинала» Линдеман всячески это подчеркивал – и тем, что давал интервью на Даунинг-стрит, 10, и тем, что иногда угрожал вмешательством Черчилля. Через некоторое время в этом уже не было необходимости. Те, у кого хватало храбрости, жаловались Черчиллю на то, что Линдеман злоупотребляет своим влиянием[103]103
Рассказывают, что небольшая группа членов Королевского общества пришла к Черчиллю специально для того, чтобы выразить недоверие научным рекомендациям Линдемана. Наверное, это была бы забавная сцена, но я, к сожалению, должен заявить, что в действительности она не состоялась.
[Закрыть], но им показывали на дверь. Очень скоро в официальных английских кругах поняли, что дружба Черчилля с Линдеманом нерушима и что Линдеман обладает реальной властью. Так же быстро все привыкли к тому, что власть эта простирается довольно далеко, а как только привыкли, смирились, потому что лицезрение человека, уверенно пользующегося властью, действует по большей части завораживающе, как своего рода гипноз. И дело тут не только в своекорыстии, хотя элемент своекорыстия в этом смирении тоже присутствует.
Тот факт, что идея стратегических бомбардировок почти не встретила сопротивления, является типичным примером гипноза власти. Заключения Тизарда и Блэкетта читало не так мало людей. Но многие из них – люди всегда люди – считали, что если можно так бесцеремонно убрать с дороги ученого, занимавшего пост государственного советника, то всем остальным лучше не высказывать своего мнения. В обстановке кризиса, когда многие решения принимаются тайно, люди часто отказываются от права думать и поступать самостоятельно. Я до сих пор помню, как однажды темным вечером ко мне подошел знакомый, которого я всегда считал человеком умным и настойчивым. «Премьер и профессор решили, – сказал он. – Кто мы такие, чтобы им возражать».
Линдеман достиг своей цели; если мерить этой простой меркой, следует признать, что он был самым удачливым придворным политиком нашей эпохи. Чтобы найти другого «Серого кардинала», сумевшего сделать хотя бы половину того, что сделал он, нужно вернуться вспять по крайней мере до того времени, когда жил отец Жозеф. Существует, кроме того, романтический стереотип придворного – гибкого беспринципного человека, занятого только тем, чтобы сохранить свое место при дворе. С этой точки зрения, выражаясь формальным языком, Линдеман был придворным из придворных, и при всем этом трудно назвать человека, более далекого от стереотипного придворного, чем Линдеман. Жизнь не так проста, как кажется, и не так безнадежно скверна. Дружба с Черчиллем вовсе не лишила Линдемана его собственного лица. Целый ряд интересных идей принадлежал как раз ему, а не Черчиллю. Это была действительно двусторонняя дружба. Конечно, Линдеман относился к Черчиллю с восхищением, но и Черчилль относился к Линдеману не менее пылко. Такого рода дружба встречается нечасто: в жизни Линдемана это было самое бескорыстное и самое горячее чувство; в жизни Черчилля, гораздо более богатой личными привязанностями, она также занимала очень большое место. Ирония судьбы заключалась в том, что дружба, в которой было столько благородства, дружба, которая пробуждала в обоих мужчинах их лучшие чувства, когда дело касалось их двоих, в общественной жизни приводила к ошибочным суждениям.
В закрытой политике все три формы, о которых я рассказывал по отдельности – создание комитетов, иерархическая политика, придворная политика, – переплетаются, взаимодействуют и проникают одна в другую[104]104
Несколько примеров такого рода процессов можно найти в моих романах «Наставники», «Новые люди», «Возвращения домой», «Дело».
[Закрыть]. И каковы бы ни были цели – достойные или недостойные, – способы остаются теми же, так как это всего лишь приспособления, которыми люди пользуются, чтобы добиться каких-то практических результатов. Мои слова не имеют никакого отношения к сатире. Сатира – это дерзость[105]105
Это замечание, которое кажется мне тем более справедливым, чем больше я о нем думаю, позаимствовано мной у Памелы Хэнсфорд Джонсон.
[Закрыть]. Это месть тех, кто на самом деле не понимает окружающего мира или не в силах приспособиться к нему. Лично я хотел бы, чтобы мой рассказ был воспринят как нейтральное изложение фактов. Насколько мне удалось познакомиться с политикой, это то, на чем вертится мир, и не только наш мир; эти же колесики будут приводить в движение тот будущий мир, который в силах нарисовать наше воображение, – более справедливый и более разумный мир. Мне кажется, что люди доброй воли должны постараться понять, как вертится мир, потому что это единственный способ сделать его лучше.
X
Можно ли на основании того, что мы узнали о борьбе Линдемана с Тизардом и о приемах, которые в этой борьбе применялись, составить какое-либо руководство к действию? Существует ли какая-либо возможность проникнуть в скрытую от непосвященных область взаимодействия науки и правительства и позаботиться о том, чтобы решения, которые принимаются, были хотя бы чуть более разумными?
Я хочу сразу же оговориться, что не знаю простых ответов на эти вопросы. Если бы такие ответы существовали, наверное, они были бы уже известны. Проблема в целом не поддается урегулированию; это самая неподатливая из всех проблем, стоящих перед организованным обществом. Отчасти она является выражением – в сфере политики и администрирования – того разрыва между культурами, о котором я уже говорил в другом месте[106]106
«Две культуры» (см. выше, с. 17).
(В файле: раздел «Лекции и статьи», глава «Две культуры и научная революция», статья 1 «Две культуры». – Прим. верст.)
[Закрыть].
Но хотя ответов пока нет, я думаю, что мы прошли достаточную часть пути, чтобы научиться обходить наиболее опасные места. Мы знаем некоторые источники неправильных суждений и неверных решений. Я думаю, что большинство из нас понимают, какую угрозу таит в себе единоличное управление наукой. И какая угроза кроется в ситуации, когда тот, кто командует наукой, чересчур близок к управлению страной, а рядом с ним нет ни одного ученого – только политические деятели, которые считают его премудрым и всезнающим Профессором, то есть относятся к нему так, как относились к Линдеману некоторые коллеги Черчилля. Мы уже видели все это, и нам не хотелось бы, чтобы подобные вещи повторились.
В то же время меня иногда одолевают сомнения: не становлюсь ли я слишком осторожным, не заболел ли я старомодной любовью к учету и подведению итогов? Линдеман принял несколько неверных решений, но ему же принадлежит целый ряд таких идей, которые могли родиться только в голове ученого.
Представим себе, что в таком же положении единовластного научного правителя оказался бы Тизард или что Ваннивер Буш был так же близок к Рузвельту, как Линдеман к Черчиллю. В обоих случаях объективная польза была бы огромной. Тем не менее я позволю себе напомнить, что ничего подобного пока еще ни разу не случилось. Шансы, что в роли научного диктатора окажется Тизард или Буш, очень малы. В целом же я склонен думать, что явные опасности превышают проблематичные преимущества.
По существу, все ясно. Нельзя допускать, чтобы один ученый обладал такой безграничной властью, какой обладал Линдеман. Тем более ясно, во всяком случае мне, что есть такие ученые, которые вообще не должны располагать властью. Мы уже столько раз видели, с какой легкостью некоторые деятели науки отступают от своих убеждений, что можем указать тот тип людей, который представляет наибольшую опасность. Научные суждения довольно часто искажаются под влиянием разного рода страхов – впрочем, и ненаучные тоже, – но особенно часто источником самообмана является склонность к фетишизации. К фетишизации приборов, к фетишизации секретности. Обычно, хотя и не всегда, эти две склонности легко уживаются. Под их влиянием принимается 90 % ошибочных научных решений. Ученые, зараженные фетишизацией, не должны принимать участия в правительственных обсуждениях и решениях; ради того, чтобы лишить их этой возможности, стоит идти почти на любые жертвы. Даже если эти ученые – прекрасные специалисты в своей области. Даже если прибор[107]107
Под «прибором» я подразумеваю любое практическое устройство, начиная от приспособления для разбивания яиц и кончая водородной бомбой. Тот, кто способен обожествить яйцеразбивалку, вполне способен обожествить и водородную бомбу.
[Закрыть], о котором идет речь, так же эффективен, как атомная бомба, не говоря уже о случае, когда он так же бесполезен, как мины на парашютах, которые предлагал сбрасывать Линдеман[108]108
Роу, видевший, как принималась большая часть научных решений Англии между 1935 и 1945 годами, склонен считать, что из всех ученых, с которыми он сталкивался, чаще всего ошибался Линдеман. И притом ошибался главным образом тогда, когда речь шла о приложении науки к военному делу (письмо к Ч. П. Сноу от 3 августа 1960 года).
[Закрыть]. Даже если речь идет об ученом, абсолютно уверенном в своей правоте; на самом деле ученые, самоуверенность которых порождена фетишизмом, опасны вдвойне.
Принцип ясен: тот, кто одержим прибороманией, представляет собой реальную угрозу. Любое решение, которое примет такой человек – особенно если ему придется сравнивать свои достижения с тем, что сделано в других странах, – скорее всего, будет ошибочным. Чем более высокий пост он займет, тем больше вреда принесет своей стране.
Особенно пагубна для такого рода ученых непосредственная близость к собственному детищу. Это нетрудно понять. Прибор здесь, рядом. Ученый знает, что это его творение. Он знает, какими прекрасными качествами оно обладает – кто может знать это лучше его! – знает, какие трудности пришлось преодолеть при его создании. Я сам испытал нечто подобное по отношению к приборам, которые хотя и не были моим детищем, но создавались у меня на глазах.
Когда я в 1942 году увидел, как летит первый английский реактивный самолет, я не мог отказаться от мысли, что вижу нечто уникальное. Это было так же трудно, как отказаться от собственной индивидуальности и поверить, что где-то существует другой человек, точно такой, как я. На самом же деле в то время уже имелось довольно много реактивных двигателей. Причем устройства, созданные немцами, были куда совершеннее наших. Когда я вновь обрел хладнокровие, это обстоятельство перестало казаться мне таким невероятным, так же как тем, кто был связан с радарами, перестало казаться невероятным, что аналогичные приборы в аналогичной обстановке столь же лелеемой секретности разрабатывались одновременно в Англии, в Соединенных Штатах, в Германии и других странах.
Те, кто живет в непосредственной близости от приборов и тратит свои творческие силы на их усовершенствование, обычно не хотят считаться с некой весьма мрачной истиной, заключающейся в том, что во всех странах, находящихся примерно на одинаковом уровне технического развития, изобретаются примерно одни и те же вещи. Поэтому, в частности, почти невозможно себе представить, что в соревновании США и СССР одно из государств сможет добиться сколько-нибудь значительного, не говоря уже о решительном, технического перевеса, так как в обеих странах уровень развития почти совпадает, а размеры вложения научных сил и денег также примерно одинаковы.
Зато есть очень много шансов на то, что одна страна на короткое время окажется впереди в какой-то одной области, а другая – в другой. Такая ситуация при всех колебаниях в общем остается неизменной и может существовать сколь угодно долго. Было бы весьма нереалистично и чрезвычайно опасно надеяться на то, что западный мир как нечто целое добьется постоянного и решительного военного превосходства над Востоком как единым целым. Такого рода надежды нужно считать типичным порождением приборопоклонничества. Оно принесло Западу гораздо больше вреда, чем любой другой предрассудок. История и наука развиваются иными путями.
У того, кто живет в некотором отдалении от приборов, больше возможностей сохранить остатки здравого смысла. Известие о создании первого ядерного реактора пришло в Англию и стало достоянием некоторых из нас в 1943 году. Выражаясь несколько вульгарным языком тех дней, мы поняли, что атомная бомба в пути. Мы слышали, как люди, опьяненные этим открытием, предсказывали, что Соединенные Штаты станут всемогущими и сохранят это положение навечно. Мы не верили им. Мы вовсе не обладали особым даром предвидения, но мы не были заражены фетишизмом. Мы, конечно, не знали точно, сколько лет потребуется стране с такой научной и технической базой, как СССР, чтобы повторить открытие США, о котором там стало известно. Нам казалось, лет шесть. Мы ошиблись. В подобных случаях сроки всегда преувеличиваются. На самом деле Советскому Союзу понадобилось четыре года.
Большинство хороших администраторов из числа моих знакомых твердо убеждены, что ученые, как правило, не в состоянии справиться с делом, которое они делают. Для этого убеждения есть достаточно оснований, включая чисто человеческие слабости, и в конце я еще вернусь к нему. Но одна из причин распространенности этого мнения представляется мне весьма характерной. Многим администраторам приходилось выслушивать советы ученых-прибороманов. Бриджес и его коллеги, так же как другие ответственные должностные лица, имевшие отношение к истории Тизарда – Линдемана, вряд ли могли проникнуться уважением к тем, кто был до такой степени лишен широкого и непредвзятого взгляда на вещи[109]109
К самому Тизарду таких претензий, разумеется, никто не предъявлял.
[Закрыть]. Естественно, что многие из них пришли к убеждению, что в каждом ученом кроется что-то от приборомана.
Мне ничего не остается, как согласиться, что в чем-то они правы. Только я сформулировал бы эту мысль иначе. Приборомания – это некая доведенная до крайности особенность темперамента, которая характерна для всех людей, занятых научной работой. Та или иная степень одержимости свойственна большинству ученых. Многие виды творческой научной работы, быть может, даже большая часть такого рода работы вообще невозможна без одержимости.
Для того чтобы сделать что-то настоящее, ученый, во всяком случае когда он молод, должен напряженно и неотступно, в течение длительного времени думать над какой-то одной задачей. Администратор же, наоборот, должен за очень короткое время мысленно охватить широкий круг различных проблем, так или иначе связанных друг с другом. Отсюда коренное различие в манере их мышления и в поведении. Я уверен, и позднее еще скажу об этом подробнее, что люди, получившие научное образование, могут стать прекрасными администраторами и составить ту прослойку, без которой мы не сможем двигаться вперед иначе, как ощупью, но я согласен с тем, что ученые, пока они поглощены творческими поисками, не склонны уделять внимание административным проблемам и не очень способны в них разобраться.
Фетишизация секретности оказывает такое же пагубное влияние на умственные способности, как и фетишизация приборов. Я знал людей, для которых секретность стала чем-то вроде алкоголя, хотя во всех остальных отношениях они оставались людьми вполне умеренными. Под влиянием секретности у человека появляется ни на чем не основанное ощущение власти. Совершенно неважно, какие секреты они ценят больше всего – свои собственные или секреты своих противников. Довольно часто можно встретить людей, внешне совершенно заурядных и ничем не примечательных, которые высказываются, отбросив всякую осторожность, потому что они охотятся за секретами другой стороны; при этом они совершенно забывают, что кто-то с другой стороны, почти неотличимый от них самих, охотится как раз за секретами, которые выбалтывают они. Нужно иметь необычайно крепкую голову, чтобы годами хранить секреты и хоть чуточку не помешаться. Бессмысленно прислушиваться к советам того, кто чуточку помешан.
XI
Я готов продолжить список запретов и почерпнутых из опыта рекомендаций. Мы более или менее представляем себе, чего не надо делать и кого не следует привлекать к работе. Познакомившись с историей Тизарда – Линдемана, мы можем дать два-три практических совета. Так, первое, что необходимо при любом разногласии в методах действий, – это наметить положительную программу и уметь четко ее изложить. Дело не в том, правы вы или ошибаетесь. Это обстоятельство имеет второстепенное значение. Главное – есть у вас положительная программа или нет? Борясь за радары, Тизард и его сторонники твердо знали, что это единственная надежда Англии, а Линдеман не мог противопоставить их уверенности ничего, кроме голой софистики и нескольких разрозненных утверждений. Настаивая на стратегических бомбардировках, Линдеман не сомневался, что знает, как выиграть войну, а Тизард был убежден, что Линдеман не прав, но не мог предложить какой-либо иной план, столь же простой и продуманный во всех деталях. Даже когда решения принимаются на высшем уровне, сложности грубой реальности никому не доставляют удовольствия, и едва намечается какое-нибудь простое решение, как все торопятся его принять.
Мы видели также, что при соблюдении определенных условий такой комитет, как тизардовский, является одним из самых действенных инструментов в руках правительства. Что же это за условия? Их можно сформулировать примерно следующим образом.
1. Задача, поставленная перед комитетом, должна быть конкретна и не слишком величественна. Научный комитет, который занимается проблемой благоденствия всего человечества, вряд ли добьется успеха. Задание, полученное комитетом Тизарда – защитить Англию от воздушных нападений, ожидавшихся в ближайшем будущем, – являлось, по-видимому, максимумом того, с чем может справиться какой бы то ни было комитет.
2. Комитет должен быть «включен» в систему правительственных учреждений. Обычно этого нетрудно добиться, если за дело берется человек, который достаточно хорошо знает государственную машину (или государственный организм, потому что «машина» – плохое слово). Различные типы государственных машин требуют различного обращения, и обычно иностранцу, как бы прекрасно он ни ориентировался в новых условиях, трудно решить, какое звено является оптимальным для такого рода включения.
Комитет Тизарда пришелся как нельзя более к месту в государственной машине английского образца отчасти благодаря распорядительности организаторов, а отчасти благодаря везению. Он находился не настолько высоко, чтобы потерять связь с рядовыми администраторами и с армейскими офицерами или возбуждать слишком сильную зависть (необычайно важное обстоятельство в такой тесной стране, как Англия). Но вместе с тем он имел свои собственные каналы связи с министрами и высшими чиновниками. В Соединенных Штатах, если я верно это себе представляю, проблема состоит не в том, что комитет должен непременно стать частью хорошо организованного и мощного государственного аппарата, а в том, чтобы его не удушили конституционные и договорные хитросплетения, гораздо более сложные, чем те, с которыми знакомы англичане. Что же касается Советского Союза, то, как мне кажется, правильное «включение» связано там с общим вопросом о статусе Академии наук СССР.
3. Чтобы принести реальную пользу, комитет должен обладать властью (или захватить ее, как комитет Тизарда). Ему необходимо по крайней мере иметь право осуществлять надзор и инспекцию. Без этого комитет окажется оторванным от реальных фактов, которые должны служить основой для его решений, а заодно и от людей, которым придется проводить эти решения в жизнь. Консультативные комитеты в тех случаях, когда они ограничиваются чисто теоретической деятельностью и не пытаются применить свои рекомендации на практике, в конце концов погружаются в летаргический сон.
Мы уже знаем, что, когда такие условия создавались, комитеты успешно делали свое дело. Создать их снова в каждом отдельном случае достаточно просто. Особенно просто – к несчастью для всех нас, – когда речь идет о военных задачах. Они почти всегда более конкретны, чем «мирные» задачи, поэтому изобретательным людям легче разрабатывать технические проблемы, связанные с войной.
Оковы секретности, опять-таки к несчастью для нас, влияют на сравнительное мышление, но не влияют на развитие науки. В более либеральную эпоху, когда в Кембридже царил Резерфорд, в Копенгагене – Бор, а в Гёттингене – Борн, ученые склонны были считать, что расцвет науки возможен только в свободном обществе; это убеждение было оптимистическим актом веры в тот идеал, который должен быть истинным, потому что он делает жизнь приятнее.
Мне бы хотелось, чтобы они были правы. Я думаю, что каждый, кто знает, что такое секретная наука и секретные решения, тоже хотел бы, чтобы они были правы. Но почти все факты говорят об обратном. Наука нуждается в дискуссиях – это верно; наука нуждается в критике; но и то и другое вполне можно обеспечить – что и делается – при самых секретных заданиях. Ученые доказали, что они могут работать формально вполне благополучно, а по существу весьма эффективно в таких условиях, которые великие свободолюбивые практики науки сочли бы несовместимыми ни с какими научными занятиями. Но секретность, закрытая тематика и сама обстановка, которая прежним ученым показалась бы морально непереносимой, стали теперь вполне сносными. Если бы можно было сравнить скорость развития одного из засекреченных разделов науки[110]110
То есть из разделов, непосредственно связанных с развитием военной техники.
[Закрыть] с другими, пока еще избежавшими этой участи, я не уверен, что мы заметили бы существенную разницу. А жаль.
Хотя разница все-таки есть, и касается она прежде всего скорости внедрения в практику достижений открытой науки. Поскольку эти области науки, по определению, не могут быть связаны с военными целями, достижения открытой науки внедряются в практику медленнее. Исключением из этого правила, хотя только частичным, является медицина. В области медицины отдельные задачи часто бывают так же конкретны, как и военные[111]111
Верно, конечно, что общество проявляет самую серьезную заинтересованность в военных вопросах и в медицине и что это накладывает глубокий отпечаток на развитие этих областей знания. Если бы общество проявляло такой же большой интерес, скажем, к вопросам транспорта, мы бы очень быстро нашли научное решение этой проблемы.
[Закрыть]. На самом деле между ними действительно есть некое мрачное и весьма близкое сходство. Оно-то и придает такой живой интерес и остроту развитию медицины. Скорость развития науки не зависит от того, какую цель она преследует: идет ли речь о разрушении или поддержании жизни – безразлично. Важно лишь наличие самой цели.
Я здесь все время говорю как человек со стороны, но человеку непостороннему тоже трудно сказать, что следует понимать под эффективностью научных исследований и как оценивать развитие науки. Если эти слова имеют какой-нибудь смысл, я считал бы, что и в Соединенных Штатах, и в Англии эффективность исследований в области медицины гораздо выше, чем в военной науке. Решения, которые определяют развитие медицины – может быть, потому, что здесь не обязательна дилемма: все или ничего, – как правило, принимаются гораздо более обдуманно. Это в равной степени относится к обеим нашим странам – Англии и США, – хотя техника администрирования у нас разная. Наш Научно-исследовательский совет по вопросам медицины существует, по американским нормам, на нищенские средства и является необычным примером правительственного учреждения, которое действует не как контрольный орган, а как импресарио, что не может не вызвать восхищения всех, кто интересуется государственным управлением.
Таким образом, в военной науке и – в меньшем масштабе – в медицине правительству обычно удается добиться каких-то результатов. Но жизнь состоит в основном из проблем, которые не связаны с попытками приблизить или отдалить смерть.
В этой обширной промежуточной области приложения науки затруднены расплывчатостью задач, менее четкими побудительными стимулами и меньшей заинтересованностью государства. Многие добрые начинания кончаются безрезультатно, хотя правительства Соединенных Штатов и Англии – второе с меньшей убежденностью, – по-видимому, считают, что а) государство тут ни при чем и б) что добрые начинания так или иначе будут поддержаны самим обществом. Вопрос этот спорен, но лично мне подобные соображения кажутся малоубедительными. Правительствам, впрочем, тоже, так как они создают нечто вроде трамплина, откуда полезные начинания могут устремляться в жизнь. В Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь, этим трамплином должен служить Национальный совет научных исследований. В Англии – Консультативный совет по вопросам науки. В Советском Союзе таким трамплином является сама Академия наук, которая представляет собой гораздо менее громоздкую организацию, чем Академия наук США или лондонское Королевское общество. Академия наук СССР состоит примерно из 250 академиков и 150 членов-корреспондентов. В нее входят историки, экономисты, специалисты в области литературы и даже писатели. Что касается Англии и Соединенных Штатов, то, наверное, нельзя не согласиться, что наши научные учреждения недостаточно гибки и работоспособны.
Стоит ли обращать на это внимание? Осталась ли еще для нас с вами какая-нибудь работа? Нужно ли поощрять развитие науки на Западе, если приложения ее и так уже проникли почти во все области жизни?
Нужно ли здравомыслящему человеку иметь больше материальных ценностей, чем имеет заурядный преуспевающий американский специалист? Или хотя бы столько же? Я не склонен осуждать тех, кто задает мне эти вопросы. И все-таки в конечном счете я их осуждаю.