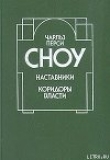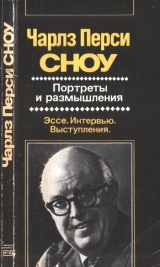
Текст книги "Портреты и размышления"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Но как бы там ни было, он часто пытался навязать мне свои мнения. Почему бы мне не вернуться опять к занятиям физикой? Ведь я бы мог сделать «громкую работу». Он не хотел признать, что и я по-своему так же тверд, как и он сам. Следует добавить, хотя этого он мне не говорил, что у него, возможно, были другие основания, чтобы пытаться убедить меня вернуться к научной деятельности. Он не был уверен в том, что мое литературное творчество окажется достаточно самобытным. Ему понравился мой роман «Поиски», но, как я подозреваю, он считал, что сам он мог бы написать его лучше. Когда в 1940 году Уэллс прочитал мою книгу «Чужие и братья», я получил от него длинное письмо. «Это действительно самобытное произведение», – писал он. И тут же согласился с тем, что я был прав, изменив свой жизненный путь.
Итак, Уэллс не стал профессором. Он был занят множеством разных неподходящих дел: преподавал в частных школах, правил статьи для такого любопытного учреждения, как заочный университетский колледж, писал руководство по зоологии и вдобавок еще занимался журналистикой. Это была жизнь достаточно трудная для молодого человека, и словно для того, чтобы сделать ее еще трудней, он заболел туберкулезом и какой-то неизвестной болезнью почек, так что все думали, что он умрет. Но это не явилось препятствием ни для того, чтобы в свободное время добиться получения первой ученой степени по зоологии, ни для того, чтобы жениться. Это был единственный случай, когда Уэллс пожалел себя. Было бы горько умереть, не познав радостей любви. Китс, еще один отважный юноша, так же проклинал за это свою судьбу. Туберкулез убил Китса, тогда как Уэллс к тридцати годам был здоров.
Болезнь и толкнула его к тому, чтобы целиком отдаться литературному труду. Это было единственное, чем Уэллс мог заниматься, когда у него открылось кровохарканье и он длительное время не работал, довольный уже тем, что пока жив. Он начал строчить одну статью за другой (в 90-е годы прошлого века сбывать их было легче, чем теперь, семьдесят лет спустя) и написал «Машину времени».
Как и Диккенс, Уэллс был, конечно, прирожденным писателем. Чем бы он ни занимался, он всегда был изобретателен, внося что-то свое, ни у кого не заимствованное. Но у него был дар и более существенный для романиста. Это была способность – ее он унаследовал от Диккенса, а не перенял у него – безо всякого усилия или напряжения ясно «представлять» события, словно они сами собой легко возникали в памяти.
В его научно-фантастических романах способность изображения достигла высокой степени: реальность описания в первой главе «Войны миров» так же совершенна, как и в первой части «Дэвида Копперфилда». Та же способность видна еще и в превосходном романе «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна»{195}, написанном двадцать лет спустя. После этого писательская работа шла урывками: Уэллс потерял интерес к написанию романов.
Я не собираюсь утверждать, что нет еще более высоких способностей, которыми мог бы обладать романист. Но их нельзя приобрести. Этому писатель не может научиться: он или имеет дар, или не имеет его. Если имеет, люди будут читать его, если не имеет, то им могут восхищаться, но читать не будут.
Генри Джеймс, с которым Уэллс был дружен много лет и который был более великодушен к Уэллсу, чем Уэллс к нему, бился над разгадкой этой тайны. В своем творчестве Уэллс нарушал все эстетические каноны Генри Джеймса и, в сущности, вовсе не обращал на них внимания.
Джеймс с грустью писал ему:
«Я читал вас так, как я всегда вас читаю и как никого еще не читал, с полным отречением от всех тех „принципов критики“… с которыми я брожу, спотыкаясь, по страницам других писателей, связанный в какой-то степени с еще любимой мной теорией, и в то же время с самой циничной непоследовательностью отбрасываю ее, как только поддаюсь вашим чарам».
Да, это был большой талант. Его тотчас признали. Как только вышли «Машина времени» и «Война миров», Уэллс стал известным и состоятельным писателем. К тому времени улучшилось и его здоровье. К 1900 году, когда ему исполнилось тридцать четыре года, относится начало его деятельности на ниве просвещения, которую он считал более важной, чем труд романиста. Великий просветитель из самых обычных людей, между прочим. «Он пророк», – писал Уинстон Черчилль, когда уже был глубоким стариком.
Как и Толстой, Уэллс не мог не быть педагогом. Это было у него в крови. Если бы этого не было, то его лучшие романы – «Тоно-Бенге», «Киппс», «История мистера Полли» – были бы совсем другими книгами. Однако дидактическая жилка – ее, между прочим, можно найти у многих больших художников – была, я полагаю, усилена в нем тем смятением чувств, которое Уэллс испытывал в своей личной жизни. Ему хотелось, как в таких случаях поступает большинство из нас, оправдать себя. Хотелось жить в таком обществе, которому подошел бы его образ жизни. Однако для этого потребовалось бы довольно значительно изменить само общество, потому что жизнь Уэллса была весьма странной.
Подобно Диккенсу, на которого он во многом походил, Уэллс был человеком страстным. Как и Диккенс, он в молодости не сумел найти себе подругу жизни. Он влюбился в свою кузину, которая, по-видимому, была милой, простой девушкой. Невзирая на свою болезнь и бедность, он женился на ней, но в семейной жизни не нашел удовлетворения, а через год или два оставил ее, увлекшись одной из своих студенток.
Нечто подобное произошло в свое время и с Диккенсом. После многих лет безрадостного брака он оставил жену и ушел к Элен Тернан, с которой тоже был несчастлив. Но с Диккенсом это произошло в зрелом возрасте, а Уэллс еще молодым женился во второй раз. Судя по им же созданной сатире на «маленького человека», Уэллс был гораздо более безжалостным, чем Диккенс. Он знал, чего он хочет от жизни, знал, что получит это, только если возьмет сам, и не желал обманываться на этот счет. Поэтому его вторая жена оставалась для него любящей помощницей – это были странные и трогательные отношения, а радости жизни Уэллс искал вне дома.
Внешне Уэллс не выглядел особенно привлекательным. Он был небольшого роста, а к тридцати пяти годам, когда его здоровье окрепло, быстро превратился в коротышку-толстяка. Он всегда немного стеснялся своего вида и своего тонкого хриплого голоса, и если что-то в его внешности и могло произвести впечатление, так это прекрасный лоб и печальные, не от мира сего, красивые и выразительные глаза. Однако он скоро узнал, как он часто говорил, что любовь может вызвать любовь, но желание, конечно, может вызвать только желание. Он был большой весельчак, изумительный рассказчик; он любил женщин, и они любили его.
Не только привлекательность женщин, с которыми он был знаком, но и их интеллект отразились в обликах героинь в таких его полуавтобиографических романах, как «Анна-Вероника»{196}, «Новый Макиавелли»{197} и «Мир Уильяма Клиссольда»{198}. Его необычная, противоречивая жизнь вызывала неодобрение и зависть современников. Уэллс не обращал на это внимания, он брал от жизни все, о чем в дни своей горькой юности мог только мечтать.
Не без воздействия всех этих осложнений складывались его представления о новом обществе и роли просвещения. Новое общество должно быть основано на научном знании. Нищета, голод, материальные лишения оскорбляют человеческий разум и должны быть полностью уничтожены. Многое в его социальном мышлении сохранило свою свежесть и в наши дни. Отдельные его поучения не будут перечитывать – они тонут в общих рассуждениях. Зато другие его книги читают все больше; исполненные тонкой иронии, они сверкают искрами природного дара, которым Уэллс так мастерски владел.
Кое-кто пытался пренебрежительно отнестись к его социальным идеям, говоря, что он излишне оптимистичен. Поскольку в глазах иных людей это являлось одним из самых суровых обвинений, которые только могут быть предъявлены современному писателю, они не считали нужным что-либо добавить к этому. В действительности этот упрек – просто вздор. Уэллс не больше, чем святой Августин, склонен был считать людей хорошими и мудрыми от рождения. Он по складу своего характера не мог в это поверить, да и эволюционная теория учила чему угодно, но только не тому, что выживают самые добрые и невинные. Уэллс был убежден, что за то время, пока люди ползли из пещер к обветшалому обществу 1900 года, род человеческий научился немного лучше управлять своей судьбой, поэтому нельзя допускать, чтобы большинство человечества жило впроголодь и преждевременно умирало. С присущим ему нетерпением он считал, что такой переворот может произойти быстрее, чем предполагалось. Если это излишний оптимизм, то побольше бы его нам.
Его личное восприятие жизни было, в сущности, довольно мрачным. Шоу был другим. Но Шоу, который мог быть и более добрым, и более холодным человеком, никогда не приходилось бороться со своими страстями. Уэллс часто бывал жизнерадостней многих, но в глубине души и у него не было иллюзий. Это ясно видно в его самых ранних книгах, таких, как «Машина времени» и «Остров доктора Моро»{199}, а также и в некоторых более поздних. (И тут снова возникает параллель с Диккенсом. Недавно Бернард Бергонци{200} опубликовал об этом некоторые интересные данные.) Но наряду с этим у него было страстное желание учить, вера в то, что человек может стать образованнее, и пылкие социальные упования.
Когда мы сблизились, он был уже стар. Печальное настроение находило на него все чаще. Помню один вечер в 1938 году, когда он приехал в Кембридж на конгресс Британской научной ассоциации{201}. Днем он делал доклад в секции по вопросам образования, одетый в докторскую мантию, в шапочке, похожий на одного из созданных им маленьких смешных персонажей. (Он недавно приступил к работе над докторской диссертацией, словно был по-прежнему молод. Это казалось странной прихотью человека с мировой известностью. Ниже я попытаюсь объяснить это.)
Вечер мы коротали, сидя вдвоем в гостиной университетского отеля. Было уже поздно, за полночь, и мне все казалось, что мы ждем кого-то из знакомых. Так или иначе, мы бодрствовали, уставившись на пальмы, и перед каждым из нас стоял стакан виски. Уэллс говорил, что, по его наблюдениям, единственное различие между кругом моих друзей в тридцатые годы и его друзьями в девяностых годах прошлого века заключается в том, что мои друзья пьют значительно больше. Обычно он любил поговорить, но на этот раз разговор не клеился. Паузы становились все продолжительней. Мы молчали. Неожиданно он прервал молчание и без всяких предисловий задал вопрос:
– Сноу, вы никогда не думали о самоубийстве?
После некоторого раздумья я ответил:
– Да, Герберт Джордж, думал.
– Появилась эта мысль и у меня. Но после семидесяти.
Ему было тогда семьдесят два года. Мы выпили еще виски и продолжали угрюмо рассматривать пальмы.
То, что он сказал, не до конца было правдой. Человек он был очень честный, но, как и большинство из нас, скорей способен был сказать правду о том, что он чувствует в данную минуту, чем правду вообще. В его автобиографии (она вышла за четыре года до нашего разговора) говорилось, что уже в шестнадцать лет он хотел покончить с собой. Мануфактурная лавка стала для него тем тупиком, где он дошел до предела отчаяния, по ночам убегал к морю и думал о том, что броситься в волны было бы лучшим исходом. Но когда мы беседовали в гостиной отеля, он забыл об этом: настоящее было тоже достаточно безрадостным.
Многое угнетало Уэллса и в последние годы его жизни. Нет, речь не о войне. Когда падали бомбы, он спал на верхнем этаже дома на Риджент-парк так же спокойно, как и другие лондонцы. Все дело было в том, что прошла счастливая пора наслаждений и утех. Утрачено влияние, развеялось большинство надежд. Он плохо вел свои литературные дела и терял почитателей. У него никогда не было заметного писательского тщеславия, а надо бы иметь его хоть немного. Была у него лишь одна честолюбивая мечта, но она так и не осуществилась.
К концу второй мировой войны Уэллс умирал от рака. Но он был слишком сильный человек, чтобы сразу сдаться. Когда я в последний раз видел его, он был так же весел, как и прежде. Это было осенью 1941 года. Он приехал в Кембридж, чтобы принять участие в заседании, посвященном памяти Коменского{202} (это была одна из тех фигур, подобных Роджеру Бэкону{203} и Макиавелли{204}, с которыми Уэллсу нравилось ради забавы отождествлять себя).
Когда он сообщил мне о своем приезде, я решил удрать из военного Лондона и собрать на встречу с ним кого только смогу из моих друзей, что помоложе. Я считал, что такую возможность, быть может последнюю, они не должны упустить.
Герберт Джордж (ему нравилось, когда его так называли, особенно молодежь) был в самом веселом настроении. Мы устроили в честь Уэллса обед, глава колледжа провозгласил тост, в котором назвал его современным Коменским. В ответ Герберт Джордж проскрипел, что современный Коменский валялся бы сейчас под столом. Потом мы расположились в комнатах, где я жил раньше. Уэллс устроился в кресле у огня, и мы слушали его почти полночи.
Когда стали укладываться спать, он сказал мне, что ему хотелось бы вызвать на разговор молодых людей, но это не относится к числу его талантов, а кроме того, каждый в его состоянии этой ночью предпочел бы поберечь себя. Да, это верно, что его надежды не сбылись. Всю свою жизнь он говорил человечеству о пользе сомнений, а что толку – опасность лишь возросла. Говорил он это с печальной иронией. Он верил в конечный успех войны с фашизмом, и его военные суждения впоследствии оказались правильными. Шли ночные часы, и настроение Уэллса постепенно поднялось. Он опять спал веселым и проницательным, сварливым и шутливо-поэтичным, словом, точно таким, каким он был в своих живых, беззаботных книгах, написанных им в молодости. Он тут же мог бы внезапно загореться каким-нибудь новым изобретением или мимоходом кинуть фразу, которая сразу прояснила бы весь спор (совершенно особый дар, который я раньше ни у кого не встречал, да и потом не знал никого, кто владел им хотя бы в малой степени).
В это утро я услышал его голос в последний раз. Мы легли спать около трех часов ночи, и я крепко спал, но вдруг проснулся от тяжелых ударов в дверь моей спальни и от криков: «Гестапо! Гестапо!» Это был Герберт Джордж. Шел девятый час утра. Уэллс отправлялся завтракать. «Выходите, чтобы увидеть Эдди! Выходите!» – кричал он.
«Эдди» был мой сослуживец, выдающийся биолог Ч. Г. Уэддингтон. Таковы были последние слова Уэллса, которые мне пришлось услышать. Их трудно забыть отчасти еще и потому, что никто больше не называл Эддингтона таким необычным именем.
Последние годы Уэллса были незавидными. А ведь даже незначительное внимание со стороны администрации могло, пусть на день или два, озарить их. Для него существовала только одна форма почести, которую он давно и страстно желал. Это началось еще в дни его юности, когда он мечтал стать ученым. Он хотел быть академиком, членом Королевского общества{205} содействия успехам естествознания. И это желание вместо того, чтобы с годами ослабевать, все более овладевало им. Со всевозрастающим унынием он чувствовал, что только в этом мог бы найти оправдание всей своей жизни. Я совершенно убежден, хотя это и догадка, что именно это побудило его в семьдесят лет проявить ученое усердие для получения докторской степени. Надо было доказать, что он может написать вполне солидную научную работу.
Уэллс может показаться странным или даже немного не в себе в этом стремлении стать членом Королевского общества. Если вы Г. Дж. Уэллс, то для чего вам, собственно, научное звание? Таков был один из доводов, который выдвигали некоторые мои друзья из Королевского общества. Но в том-то и дело, что для него это имело значение. И этого было бы достаточно. Он был провозвестником науки двадцатого века, более действенным, чем кто-либо из нас. Просто возмутительно, что Королевское общество с таким безразличием отнеслось к нему.
Джулиан Хаксли{206} и другие биологи, члены Королевского общества, сделали все, что могли, но встретили решительное сопротивление. Не являясь членом этого общества, я не мог принимать участия в полемике, но старался убедить своих друзей, которые в него входили, помочь Уэллсу. Даже от тех, кого я уважал, я слышал неопределенные, туманные ответы. Более или менее вразумительное объяснение заключалось в том, что Королевское общество в настоящее время состоит исключительно из лиц, которые занимаются научными исследованиями, внося творческий вклад в науку. Уэллс сделал значительно больше, но вот именно этого он не сделал. А если один раз допустить исключение, хотя бы даже для него…
Довод как будто убедительный и почтенный, но это была явная неправда. Королевское общество всегда имело обыкновение время от времени принимать в свои члены министров и других высокопоставленных лиц. За два или три года до возникновения спора об Уэллсе оно приняло лорда Хэнки[26]26
М. П. Хэнки в течение ряда лет был английским военным министром. – Прим. перев.
[Закрыть]. Потом еще несколько политических деятелей и чиновников высокого ранга. Все они оказали услуги государству – это верно; их избрание было актом благодарности – прекрасно; но если можно принять их, то почему нельзя принять Уэллса? Я просто был вне себя. И теперь, через двадцать лет, я все еще не могу вспомнить об этих спорах без вновь охватывающего меня чувства гнева.
Он так и не был избран. Кое-как существовал и умер в восемьдесят лет. Как-то раз он сказал мне в своей озорной, вызывающей манере:
– Умирать-то, во всяком случае, дело дрянное.
Так оно и оказалось.
Роберт Фрост{ˇ}Пер. Г. Льва
Через несколько месяцев после смерти Роберта Фроста[27]27
Американский поэт Роберт Фрост (1874–1963) был большим другом советской страны. Приехав в 1962 году в Москву, он сказал: «Ваша эмблема – серп и молот, моя – коса и топор. Мои любимые занятия: косить, рубить дрова и писать пером. Я знаю вас лучше, чем госдепартамент: я изучал Россию по русской поэзии и приехал проверить все, что она мне сказала. Поэзия – это мечта, создающая великое будущее». – Прим. перев.
[Закрыть]{208} я был в Москве. В Библиотеке иностранной литературы я увидел объявление о том, что вечером состоится лекция о Фросте, и решил пойти на эту лекцию. Мне было известно, что незадолго до смерти Фрост посетил Россию и имел там такой успех, какого на нашей памяти еще не было ни у кого из американских писателей. Как мне сказали, в конце концов удалось великолепно перевести Фроста на русский язык. Его стихи, на первый взгляд такие простые, почти всегда становились мучением для переводчика (это же можно сказать и о Твардовском, которого так же трудно переводить). Простоту языка и образов трудно передать в переводе, а вот что-нибудь вычурное и причудливое переводить, конечно, значительно легче. Однако проблема перевода Фроста на русский язык была решена{209}, и в Советской стране теперь знают его поэзию. Как поэт и как человек он стал близок советским людям.
С Фростом я встречался несколько раз. Впервые я увидел его в Англии лет за шесть до его кончины. Крепкий старик, ироничный и остроумный, он непринужденней, чем кто-либо из писателей, которых я знал, властвовал над умами студенчества. Я немного слышал о нем в Америке; теперь мне хотелось услышать, что о нем скажут в Москве.
Московская лекция о Фросте – одна из посвященных его памяти – была необычайно трогательной. Читал ее литовский поэт. Зал был переполнен, в нем собралось, должно быть, несколько сот человек. На столе, покрытом зеленым сукном, стояла большая фотография поэта и лежали его книги на английском и русском языках. Лектор говорил горячо и проникновенно, он хорошо знал и понимал поэзию. Поэзия Фроста, сказал он, рождена большим жизненным опытом, глубочайшим ощущением жизни. Она не символична в прямом смысле слова, но поэт пользуется конкретными образами, реально существующими в повседневной речи, придавая им всеобщее значение. Это то, что мы видим у величайших русских и английских поэтов и у самого Пушкина.
Зал с восхищением слушал стихи, часть из них на английском. А лектор говорил, что «друг, об утрате которого мы глубоко скорбим», был не только поэтом большого таланта (это звучит несколько сдержанно, но в русском нет большого различия между словами «талант» и «гений» – можно часто слышать, как говорят о таланте Толстого), но и человеком с пылким и благородным сердцем. Он был другом Советской страны и поборником мира, в нем счастливо сочетались мудрость и юмор. Спокойный, ласковый, любящий людей, дарящий им радость, Фрост дожил до глубокой старости. И всегда, и прежде всего, он был просто хорошим человеком.
В зале горячо и взволнованно аплодировали. Такой душевный отклик лекция памяти Фроста могла бы вызвать и в Англии или Америке, однако это происходило в России, где люди еще более непосредственно выражают свои чувства.
Если бы эта лекция читалась в Англии, она прошла бы подобным же образом. Позднее, вечером, я почувствовал себя в неловком положении, когда русские друзья обсуждали ее. Я, как и они, искренне восхищался поэзией Фроста, хотя и с некоторыми оговорками. Но я, по существу, мало знал о нем, пока год спустя не прочел его переписку с Унтермейером{210}. Однако не все и тогда понял. Стоит ли обсуждать его политические взгляды? Он действительно оказал большое влияние на улучшение американо-советских отношений, а это само по себе прекрасно. Русские любили его, в восемьдесят шесть лет он уверовал в сосуществование (но не раньше, подумал я про себя), и это было достаточно хорошо. А что касается его характера, то русские, самые неутомимые психологи, исследовали его со всех сторон. Некоторые из моих русских друзей не уступали Фросту в проницательности. Иногда они видели глубже, чем многие из нас. Но на этот раз мне казалось, что их подход слишком упрощенный. И все-таки, думал я, хотя они ошибались в деталях, но были правы в своем отношении к Фросту как к очень серьезному человеку. Он прожил страстную, пылкую жизнь. Много страдал. Чувством он постиг все.
Фрост не был так добр, как Эйнштейн или Харди, и его не назовешь великодушным или уравновешенным человеком, который привык сдерживать себя. Он был сложным, подчеркнуто скрытным. Он никогда ничего не делал против своего желания; представляясь беспомощным, он часто добивался почти всего, чего ему хотелось. Это была натура изменчивая и не такая цельная, как у других людей, о которых я пишу в этой книге. Но по своему характеру он был независим, насколько это вообще возможно для человека.
Почти все это давно известно. Правда, это противоречит тому облику, который Фросту так долго удавалось сохранять в глазах других. Когда я впервые встретился с ним, то, подобно большинству, считал его таким, каким он казался. В нем было очень много привлекательного. Приятно было чувствовать это и думать о его поэтической простоте, проницательности и независимости. Однако когда узнаешь Фроста немного ближе, то привлекательность остается, но иллюзия простоты рассеивается. Начинаешь понимать, что это тонкий человек, которого не так-то легко постичь. Если бы не случай, то сомнительно, понял ли бы его кто-либо, кроме самых близких. Сама простота. Беспристрастность. Он говорил о себе, что он прост, как Марсель Пруст, и более беспристрастен, чем Ллойд Джордж.
У Фроста был очень близкий друг, которому он любил писать письма. В течение почти пятидесяти лет он переписывался с Луисом Унтермейером, и эта переписка – одна из интереснейших в истории литературы (опубликованы только письма Фроста, так как, возможно, Фрост не сохранял ответных писем Унтермейера или тот не пожелал опубликовать их).
Противник модернизма, незаурядный американский поэт и критик, Унтермейер был на десять лет моложе своего друга. Он стал одним из первых почитателей Фроста в Америке, когда его там еще совсем не знали. До самой смерти поэта он оставался самым ревностным поклонником его таланта и преданным, бескорыстным другом.
В некоторых кругах на Фроста смотрели как на одного из святых в литературе; правда, это было недолго. Если кого-то и можно считать святым, то Унтермейер скорее заслуживает этого. Между прочим, как правило, именно младший партнер в литературном союзе оказывается более чуткой натурой: Эккерман был лучше Гёте, а Макс Брод лучше Кафки{211}.
Ради этой дружбы ему пришлось многим поступиться. Человек благородных побуждений, искренний и подлинный либерал, он должен был в течение многих лет мириться с обычно весьма мрачным, а иногда просто грубым и жестоким консерватизмом Фроста. Более того, личные невзгоды – а их было немало у Унтермейера – тонули в потоке жалоб, исходивших от его друга. Даже мелкие житейские неприятности Фроста обычно становились более важными и неотложными, чем что-либо действительно серьезное в жизни Унтермейера. Очень часто в письмах Фрост просил извинить его за эгоизм. Казалось, он испытывал искреннее раскаяние, но затем все оставалось по-прежнему. В конечном счете Унтермейер все же был вдвойне вознагражден. Его радовало, что он был задушевным другом большого поэта, человека неуживчивого, трудно сходившегося с людьми и лишь к нему одному питавшего несомненные дружеские чувства. Другой наградой была художественная ценность писем Фроста, а Унтермейер был истинным ревнителем искусства. Его долготерпение и доброта вознаграждались тем, что он получал ценнейший литературный материал. В письмах Фроста отбрасывалось в сторону всякое, или почти всякое, притворство, сглаживались все противоречия его натуры. Одно из его противоречивых свойств как раз и заключалось в том, что он мог быть то неискренним, то беспощадно правдивым.
Даже в старости Фрост оставался выдумщиком и мистификатором. Хорошо известно его столкновение с Т. С. Элиотом в Бостоне, когда он выдал ранее написанное стихотворение за только что рожденный экспромт. Вполне вероятно также, что он сочинил и дату своего рождения.
В действительности Роберт Фрост родился в 1874 году в Сан-Франциско. (В продолжение многих лет он настаивал на другой дате, на год позже, и только в конце пятидесятых объявил, что обнаружил ошибку. Но он, вероятно, единственный из прославленных людей, отметивший восьмидесятилетие через четыре года после семидесяти пяти.) Его отец, происходивший из зажиточной семьи в Новой Англии, по окончании Гарвардского университета работал журналистом в местной газете Сан-Франциско.
Некоторые американцы посмеивались над той легендой о своем происхождении, которую создал Фрост. С самого начала поэтической карьеры Фрост выступил (так оно и было в действительности) как коренной обитатель Новой Англии, дитя неподатливой каменистой земли, фермер из фермеров.
Скептики указывали на то, что он родился в Калифорнии, и если бы не ранняя смерть отца, когда Роберту Фросту было одиннадцать лет, то он продолжал бы жить в этом городе. Так что же это за миф о Новой Англии? Оказывается, он не лишен некоторых оснований.
Несколько поколений семьи Фростов жили в Новой Англии. Когда-то они, как и все переселенцы XVII века{212}, были, вероятно, фермерами. Однако давным-давно оставили земледелие, и оно сохранилось лишь в романтической выдумке поэта. В действительности, как только в Новой Англии начался процесс индустриализации, предки Фроста ушли в город. Его дед занимал скромную должность мастера на фабрике в городе Лоуренсе, в штате Массачусетс. Скопив немного денег, он надежно припрятал их, как это обычно делалось в Новой Англии или в Йоркшире{213}. Но дедушка не скупился на то, что он считал нужным, и давал деньги внуку, когда тот дважды предпринимал неудачные попытки продолжать свое образование сначала в Дартмутском, а потом в Гарвардском университете.
В Лоуренс после смерти мужа переехала с двумя детьми и мать Роберта. Здесь, сначала поблизости от города, а потом и в самом городе, она открыла частную школу. Подобно многим американским юношам, Роберт во время школьных каникул нанимался на разные подсобные работы. Вся его юность прошла в закоптелом промышленном городе, хотя, насколько я помню, он упоминает об этом только в одном своем стихотворении.
В средней школе Фрост учился хорошо, если не говорить об удивительной неспособности грамотно писать, оставшейся у него на всю жизнь. Он был вожаком своего класса, искусным в разных соревнованиях и играх (увлечение это сохранилось у него до старости), отличался крепким здоровьем и поразительно цветущим видом. Даже когда он был глубоким стариком, все обращали внимание на его глаза: они сохранили свою живость и совсем не потускнели. А в молодости глаза его были ярко-голубыми. Очень рано он почувствовал, какое впечатление производит на женщин. Но еще подростком Фрост влюбился в свою одноклассницу, умную и красивую девушку, и в двадцать один год женился на ней. Это был брак по глубокой и страстной любви, прочный союз любящих сердец, который длился сорок лет вплоть до ее смерти. На долю обоих выпало много страданий, но особенно тяжело приходилось жене Фроста.
Как только Фрост окончил среднюю школу, он тут же дал ясно понять, что не собирается делать то, чего не хочет. Его считали ленивым. Быть может, лень была для него удобным прикрытием? По-видимому, он решил, что ему следует отказаться от всякого соревнования с другими: для его гордости нестерпима была мысль о том, что он может оказаться на вторых ролях. Поэтому, когда его отправили учиться в превосходный колледж гуманитарных наук в Дартмуте, где можно было и себя показать, и померяться силами с другими способными юношами, он спустя три месяца уехал оттуда, предпочитая заняться несложной работой в частной школе своей матери. Не желая ничего добиваться, он вряд ли нашел бы себе подходящее занятие. Но, став поэтом, он, как и всякий поэт, до конца дней своих ревностно следил за успехами своих собратьев, в глубине души соперничая с ними.
Еще совсем молодым Фрост твердо решил, что хочет стать поэтом. Он писал стихи, и некоторые из них печатались в малоизвестных журналах. Ему почти ничего не платили, и до сорока лет Фрост мало что получал за свой поэтический труд. Он сам не знал, хороший ли он поэт. Его письма полны сомнений. Многие ли его стихи имеют ценность? И есть ли вообще у него такие стихи? Задавать такого рода «проклятые» вопросы свойственно, конечно, большинству поэтов, но у него они были особенно настойчивыми, так как, очевидно, сомнения весьма глубоко терзали его. Часто в письмах он просил ободрить его и помочь ему обрести уверенность в себе. Это ему было необходимо и для того, чтобы превзойти Т. С. Элиота; причем в данном случае соперничество было односторонним, ибо Элиот и не подозревал о нем.
Несомненно также, что только потому, что он нуждался в поддержке и одобрении, он каждый год с трепетом ожидал присуждения ему Нобелевской премии, напрасно прождав ее до последних дней своей жизни. Какими бы ни были у него сомнения в собственной значимости, он был совершенно уверен в романтической сущности художника и заодно в том, как художник, то есть он сам, должен прожить жизнь. Это было одно из свойственных ему противоречий, которые он долгое время пытался отрицать. Просто фермер из Новой Англии, верный супруг, добрый гражданин – что общего было у него с романтическими художниками, которые не признавали никаких обязательств и которых он не любил и презирал? Оказывается, коротко говоря, почти все. Даже то, что он был фермером, было романтично (правда, не в поэтическом смысле). Более того, он так же, как и Верлен, считал, что искусство было его самооправданием. Что жизнь, посвященная поэзии, не требует никакого оправдания. Что его первейший долг – писать стихи. Что ради поэзии, в случае необходимости, надо жертвовать всем, включая собственное благополучие. Ему это было довольно просто, потому что поэзия принесла ему личное процветание. А материальным благополучием всех, окружавших его – жены, детей, друзей, – нужно пожертвовать. Это было нелегко, но не остановило его.