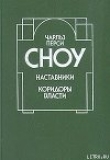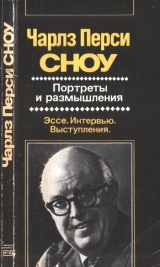
Текст книги "Портреты и размышления"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Как и большинство его друзей-интеллектуалов, Харди высоко ценил Германию. Ведь в девятнадцатом веке она была крупным центром просвещения. Восточная Европа, Россия и Соединенные Штаты Америки многому научились у германских университетов. Но немецкая философия и литература не оказали большого влияния на Харди, он больше почитал античность. Однако во многих отношениях германская культура казалась ему выше, чем культура его собственной страны. В отличие от Эйнштейна, который значительно глубже понимал политическую жизнь, Харди, по существу, мало что знал о кайзеровской Германии.
Подобно Бертрану Расселу и большинству рафинированной кембриджской интеллигенции, Харди не верил, что разразится первая мировая война. Когда же это произошло, то вследствие укоренившегося в нем недоверия к нашим политиканам он считал, что большая ответственность – на нашей стороне. Все же Харди не смог найти убедительного для себя основания, чтобы отказаться от военной службы. Он записался в добровольцы, но врачи признали его негодным к службе. Находясь в Кембридже, он чувствовал себя все более одиноким среди воцарившейся там шумной воинственности.
Как только представилась возможность, Харди оставил Кембридж. В 1919 году ему предложили профессуру в Оксфордском университете, и это стало началом счастливейшего периода его жизни. Он уже написал вместе с Рамануджаном и Литлвудом крупные научные работы, но теперь его содружество с последним достигло своей полной силы. Он был «во цвете лет для выдумки», как говорил когда-то Ньютон, но у Харди это происходило после сорока – необычно поздно для математика.
Этот поздний творческий подъем создавал у него ощущение сохранившейся молодости, что было для него важнее, чем для многих других людей. Харди вел жизнь молодого человека, каким он и был по своей натуре. Он еще играл в теннис, и даже лучше, чем раньше. Ему нравилась Америка, и он часто приезжал в американские университеты. Но Харди был, пожалуй, одним из немногих англичан своего времени, одинаково почитавших как Соединенные Штаты, так и Советский Союз.
У себя в квартире он повесил большой портрет Ленина. Радикализм у Харди был до некоторой степени стихийным, но всегда искренним. Как я уже указывал, он родился в скромной учительской семье, затем почти всю жизнь ему пришлось провести среди состоятельных буржуа, но он вел себя как некий аристократ романтического склада. Быть может, в чем-то он подражал своему другу Бертрану Расселу.
Харди легко сходился, без всякой тени покровительства, с бедными, несчастливыми и скромными людьми, со всеми, кому трудно жилось. Он предпочитал их тем, кого он называл «толстозадыми». В глазах Харди ими были самодовольные, процветающие епископы, директора школ, судьи и все политические деятели, за исключением одного лишь Ллойда Джорджа.
Только для того, чтобы показать верность своим идеям, Харди однажды согласился занять общественную должность. В течение двух лет (1924–1926) он был президентом Ассоциации научных работников. Харди саркастически заметил, что это довольно странный выбор, поскольку он «самый непрактичный представитель наиболее непрактичной в мире профессии». Но в важных делах он вовсе не был так уж непрактичен.
Его вторая молодость в Оксфорде в двадцатых годах была такой счастливой, что многие думали, что он уже никогда не вернется обратно в Кембридж. Но в 1931 году он вернулся. Как я полагаю, это было вызвано двумя причинами. Первая (и главная) была связана с научными интересами, так как Кембридж все еще оставался центром английской математики. Вторая, несколько странная, объяснялась заботой о своей старости. Дело в том, что в оксфордских колледжах, где обстановка в целом была весьма теплой и дружеской, существовало одно безжалостное к старикам правило: после отставки в 65 лет профессор должен был освободить занимаемую им университетскую квартиру. А вернувшись обратно в кембриджский Тринити-колледж, Харди мог бы жить при колледже до конца своих дней.
Мое знакомство с Харди началось, когда он вернулся в Кембридж и наступила, так сказать, вечерняя заря его большой деятельной жизни. Он был еще счастлив. У него еще были творческие силы, хотя и не такие, как в двадцатые годы, но, как и в Оксфорде, Харди был полон воодушевления. Он оставался почти таким же, как и в свои лучше годы.
Когда мы стали друзьями, то обычно каждые две недели мы приглашали друг друга на обед в свой колледж. Само собой понятно, что летом мы постоянно встречались на университетской крикетной площадке. Огибая гаревую дорожку, он шел, как всегда, немного раскачиваясь, уверенным широким шагом. Голова опущена, а волосы, галстук, бумаги, которые он держит, – все развевается и как бы плывет в воздухе. На него нельзя было не обратить внимания. «Вот идет греческий поэт», – однажды сказал про него какой-то весельчак, когда Харди проходил мимо.
Он обожал крикет и находил в нем красоту, создаваемую грациозностью движений и характером игры. Те же эстетические черты были присущи и его математическим трудам вплоть до самой последней работы.
В тридцатые годы он продолжал на свой манер вести жизнь очень подвижного молодого человека. Затем внезапно все изменилось: в 1939 году у него обнаружили серьезное заболевание – коронарный тромбоз.
Он подлечился, однако с теннисом, с любой игрой в мяч, как и вообще с любимой им гимнастикой, пришлось окончательно распрощаться. Начавшаяся вторая мировая война еще больше омрачила его существование. В его глазах войны означали сумасшествие, ему казалось, что все мы сбились с пути, и он, как и в 1914 году, не мог примириться с этим, хотя одно ему было ясно: страна должна выстоять. В это время трагически погиб один из его ближайших друзей. Думаю, что все эти горести в конце концов и привели к тому, что после шестидесяти лет в нем угасли духовные силы и, во всяком случае, творческие силы математика.
Вот почему его «Апология математика», если ее читать с тем вниманием, какого она заслуживает, представляется книгой неотступной печали. Да, эта книга остроумна, тонка, отмечена веселой живостью ума; да, она написана с кристальной ясностью и прямотой; она – откровение подлинного художника. Но в то же время эта книга – страстное и мужественное сожаление об исчезнувших творческих силах, которые никогда больше не вернутся. Другой такой книги на английском языке я не знаю, вероятно, потому, что большинство людей с литературным талантом, пускаясь в откровения, не вполне искренни, да и весьма редко писатель полностью сознает, что для него все уже кончено.
В последние годы жизни Харди я редко встречался с ним. Во время второй мировой войны я глубоко завяз на Уайтхолле[33]33
Улица в Лондоне, где находятся правительственные учреждения. – Прим. перев.
[Закрыть], у меня была масса дел, часто я очень уставал, и мне трудно было выбраться в Кембридж.
После окончания войны я не вернулся в Кембриджский университет, но в 1946 году несколько раз побывал у Харди. Он по-прежнему находился в угнетенном состоянии, чувствовал себя физически слабым и задыхался, сделав несколько шагов. Наши долгие веселые прогулки после крикета навсегда ушли в прошлое. Он радовался тому, что я опять вернулся к литературному труду и пишу книги: ведь творческая жизнь – это единственно приемлемое существование для серьезного человека. Говоря о себе, он сказал, что хотел бы снова, как и прежде, жить творчески, но его жизнь уже прожита. Может быть, это не совсем его слова, но все было так непохоже на него, что я пытался обратить их в шутку или поскорее забыть.
В начале лета 1947 года утром у меня раздался телефонный звонок. Звонила сестра Харди. Она сообщила, что он в очень тяжелом состоянии. Не могу ли я сразу приехать к ним, зайдя предварительно в Тринити-колледж? Я не мог понять, для чего мне надо заходить в колледж, но повиновался. Там у привратника была оставлена для меня записка, в которой говорилось, чтобы я зашел на квартиру к Дональду Робертсону.
Профессор греческого языка и литературы Робертсон был близким другом Харди. Он встретил меня спокойно. За окном было солнечное утро.
– Вы должны знать, что Харди пытался покончить с собой, – сказал Робертсон. – Сейчас он уже вне опасности и пока что цел и невредим, если так можно сказать.
Робертсон так же, как и его друг Харди, был человеком прямым.
– Жаль, что попытка окончилась неудачно, – продолжал он. – Здоровье Харди становится все хуже, и он во всяком случае долго не протянет. Даже пройти из своей квартиры до столовой колледжа стоит ему теперь большого труда. Харди сделал вполне обдуманный шаг. Жизнь в таком состоянии невыносима, в ней нет ничего. Так вот, он собрал достаточное количество снотворных таблеток, но принял их слишком много.
Мне нравился Дональд Робертсон, но до этого я только изредка встречался с ним в столовой Тринити-колледжа. Впервые мы разговаривали с глазу на глаз. С вежливой настойчивостью он сказал затем, что я должен как можно чаще навещать Харди. Хотя видеть его в таком состоянии тяжело, но это наша обязанность, которая к тому же, вероятно, не продлится долго. Мы оба чувствовали себя ужасно. Я попрощался и никогда больше не видел Робертсона.
В частной лечебнице на кровати лежал Харди. Казалось, какой-то оттенок фарса был в том, что под глазом у него красовался большой синяк. Он упал и ударился головой о ванну.
Сейчас, лежа на кровати, он пытался иронизировать. Подумать только, как он опростоволосился. Кто-нибудь устраивал когда-либо большую кутерьму?
Никогда еще я не чувствовал себя менее расположенным к шуткам, но решил подладиться под его тон.
Затем я приезжал к нему в Кембридж по меньшей мере раз в неделю. Почти каждый раз, когда я бывал у него, он заговаривал о смерти. Он желал смерти и не боялся ее. Чего бояться в небытии? К нему снова вернулся его непоколебимый интеллектуальный стоицизм. Он не сделал бы новой попытки покончить с собой. Да у него и не было сил для этого. Он приготовился ждать. Но с непоследовательностью, которая, очевидно, мучила его (подобно большинству людей его круга, он придерживался рациональных начал, а в данном случае поступал нелогично), Харди с мрачным беспокойством напряженно следил за развитием своей болезни.
Почти все время, что я находился у него, мы разговаривали исключительно о крикете. И если бы я не приносил ему какие-то новости, то он пребывал бы в том мрачном одиночестве, что приходит к людям перед концом.
Несколько раз я пытался расшевелить его. Может быть, нам стоит рискнуть и отправиться поглядеть на крикет? Я теперь богаче, чем раньше, говорил я, собираясь взять такси и отвезти его на любую крикетную площадку, которую он выберет. Он оживлялся, но затем уверял, что на руках у меня может оказаться мертвец. Я говорил, что этого не случится, да и он сам понимал, что смерть его – дело нескольких месяцев. Мне же очень хотелось, чтобы хоть один день он снова был как-то радостен и весел. Но когда я в следующий раз приехал к нему, он с какой-то злостью отрицательно покачал головой. Нет, ему не стоит даже пытаться: нет смысла.
Подчас мне было тяжело беседовать с ним о крикете, но еще труднее приходилось его сестре, обаятельной, умной женщине, которая не вышла замуж и почти всю свою жизнь посвятила заботам о брате. С забавным рвением, таким же, как и у него, она вырезала из газет все сообщения о крикете, хотя сама ничего не понимала в этой игре.
За две или три недели до смерти Королевское общество удостоило его своей высшей награды – медали Копли. Узнав об этом, Харди в первый раз за последние месяцы оживился и с великолепной мефистофельской усмешкой сказал:
– Теперь я знаю, что должен скоро умереть. Когда люди торопятся оказать вам почести – это самый верный признак, что конец близок.
После этого я еще дважды побывал у него. В последний раз – дней за пять до печального конца. Индийская крикетная команда отправилась тогда на матч в Австралию, и мы говорили об этом.
На той же неделе он сказал сестре:
– Даже если бы я знал, что умру сегодня, то все равно хотел бы услышать о крикете.
Ему почти удалось это. Всю ту неделю сестра перед сном читала ему по одной главе из истории крикета в Кембриджском университете. В одной из глав и оказались последние слова, которые он услышал в своей жизни, так как умер внезапно на рассвете.
Дж. Д. Бернал{ˇ}Пер. Г. Льва
Бернал{307} – великий человек. Это ясно. Тут невозможны преувеличения. К тому же он человек со странностями. Часть этих странностей – внешние. Зато другая часть существенна и знаменательна. И чтобы понять значение этого человека для своего поколения, нужно разобраться в соотношении внешних и знаменательных черт его характера.
Уже с первого взгляда ясно, что он не похож ни на кого на свете. Величественная голова. Не принимающая загара белая кожа. Копна белокурых непокорных волос (это тоже имеет значение). Красивые, полные юмора карие глаза. Художники и скульпторы не раз пытались дать его портрет, но проникнуть за внешность им удавалось редко. Сложность натуры изолирует иногда Бернала, и люди начинают больше обращать внимание на чудачества, а не на то, что он действительно думает и говорит. Как раз поэтому долгое время не удавалось подыскать ему подходящего имени. Когда человека называют не тем именем, на которое он привык отвечать дома, то в этом первый признак того, что человек выделен среди других, не чувствует себя с ними легко и уверенно. В тридцатые годы друзья и последователи Бернала называли его обычно Сейдж. Среди левых он был известен как Дес. И лишь сравнительно недавно за Берналом установилось правильное и подходящее для него имя – Десмонд. Только в Советском Союзе его повсюду и неукоснительно называют по первому имени – Джон. На родине называть его так никому не приходило в голову.
Симптомы странности сопутствуют Берналу с момента появления на свет в 1901 году. Он родился в католической фермерской семье графства Типперери. Берналы из сефардов-евреев, но семья с давних пор приняла христианство. В XIX столетии они покинули Испанию и обосновались в Ирландии. Отец Бернала был предприимчивым и беспокойным человеком. В детстве он убежал из дому, скитался по морям. Потом разводил овец в Австралии. А вернувшись на родину в Нинаг, женился на американке, женщине в духе героев Генри Джеймса – начитанных, утонченных, живущих на чужбине.
Конфликт традиций в семье был острым, родители мало подходили друг другу. Юный Бернал рос под влиянием беззаветной веры в науку и романтического ирландского национализма. Это противоречивое наследство всегда заставляло Бернала воспринимать англичан с некоторым юмором, что, правда, не распространяется на политику.
Для матери сын всегда был тем образованным собеседником, которого трудно отыскать среди мало приверженного к чтению ирландского фермерства. С отцом у Бернала мало общего, хотя отец и был общительным, приятным в компании человеком. Еще в ранние годы у Бернала развился так называемый «самсонов комплекс»{308} – страх, что отец «острижет его наголо».
Бернал не испытал бедности. Семья была буржуазной, если только этот термин приложим к ирландскому обществу, которое то времена детства Бернала напоминало скорее Россию XIX века, а не современную Англию. Отец, конечно, считал себя джентльменом, у него и повода не было сомневаться в этом. Финансовое положение семьи бывало шатким, но всегда находились богатые родственники. Деньги никогда не были предметом поклонения и надежды. Это в Бернале осталось. Его необыкновенная щедрость, которую он проявляет всю жизнь, восходит, видимо, к финансовой безалаберности ирландских сквайров из романов Троллопа. Жил Бернал неуравновешенной, иногда грудной жизнью богемы, но тут уж его вина и его добровольный выбор. У него просто не было того уважения к деньгам, которое возникает у пролетария из постоянной нужды, а у мелкого буржуа – из забот о собственной респектабельности. В отношении к деньгам, как и во многих других отношениях, Бернал был более свободен, чем большинство людей.
Воспитывали Бернала католиком, и в детстве он был даже горячим адептом католичества. Еще и сейчас, то ли в силу укоренившейся привычки, то ли с грустью подшучивая над прошлым, он часто пользуется католической терминологией. Учиться его определили в Стоунихерст, в колледж иезуитов. Здесь он основал «Общество постоянного поклонения». Началось с того, что он прочитал житие святого Алоизия Гонзага, покровителя детей у иезуитов. Узнав, что поклонение желательно, Бернал, следуя Алоизию, со свойственной ему неумолимой логикой заключил, что поклонение не должно прекращаться. И опять же со свойственным ему организаторским талантом он по очереди вытаскивал по ночам своих коллег из кроватей и заставлял подолгу молиться. По ночам в спальне всегда стояла молящаяся фигура, пока благоразумие отцов-наставников не прекратило эту затею. Уже в то время, как бы предвосхищая будущее, Бернал брал на свои плечи больше забот, чем ему полагалось.
До шестого класса в Стоунихерсте не учили естественным наукам, поэтому Бернал, испытывая неодолимую тягу к науке, решил перебраться в Бедфорд{309}. С 12 лет он сам планирует свое образование, найдя себе союзника в лице матери. Отец умер, когда Берналу было восемнадцать. В школе Бернал сумел проявить творческое мышление как в математике, так и в физике. Г. Г. Харди не раз говорил, что Бернал мог бы стать настоящим математиком. В устах Харди это высшая похвала. Но склонности Бернала определились рано. Уже в юности он, видимо, чувствовал, что ему придется пользоваться математикой, а не творить ее. Подобно многим из тех, кто мог бы отличиться в математике и не использовал эту возможность, Бернал иногда испытывал чувство потери.
В Кембридже Бернал появился в 1919 году, в том самом году, когда бывший морской офицер Блэкетт поступил в колледж Магдалины, а Резерфорд вернулся в Кавендишскую лабораторию{310}. Бернал учился в колледже Эммануила. Это был бурный период в жизни Кембриджа, и события того времени наложили отпечаток на характер Бернала. По вкусам, а отчасти и по духу он до сих пор дитя двадцатых годов. Его писатели – Джойс и Донн{311}. Художники – Пикассо и Сезанн. Беспорядочная жизнь богемы – его родная стихия.
Как и многие другие из его поколения, Бернал стал убежденным марксистом. Процесс интеллектуального перерождения не был, по всей видимости, ни болезненным, ни трудным. С самого начала он основывался на глубоком понимании того, чем может стать наука для человечества. Какое-то время он был одновременно и католиком, и марксистом. Порвал он с католицизмом не столько из-за теологии, сколько из-за социальных приложений религиозной догмы.
Студенческая жизнь Бернала вошла в легенды. Еще бы, красный, к тому же ирландец, который отбросил условности среднего класса! Бернал и тогда был, да и теперь остается, самым красноречивым оратором Кембриджа. Вдобавок ко всему он еще очень походил на Пайда Пайпера. Когда в 1928 году я впервые попал в Кембридж, о Бернале рассказывали множество историй. Одна из них (за ее истинность я не могу поручиться) особенно любопытна. Те качества, о которых я только что говорил, очень привлекательны для молодых интеллектуалов, но они далеко не столь привлекательны для молодых морских офицеров. Офицеры не жалуют эксцентричных мыслителей. И вот однажды моряки решили прорваться к Берналу в комнату и, схватив его, выкупать в пруду. Рассказывали, что рейд был задуман Маунтбеттеном{312}, под началом которого Берналу пришлось впоследствии служить. Офицеры, число их меняется от рассказчика к рассказчику, но было их, видимо, пятеро или шестеро, поднялись, как и было задумано, по лестнице и ворвались к Берналу. Они успели заявить ему, что он в этом городе нежелателен, но не успели сообразить, что перед ними находчивый, бесстрашный и физически сильный человек. Бернал выключил свет, и, так как противники курили, он мог их видеть, а они его нет. Бесстрашие и силу Бернал доказал, когда смело пошел врукопашную: он хватал противников за ворот и сталкивал друг с другом, так что в общей свалке офицеры принялись тузить друг друга. Тем временем он выскочил из комнаты и вскоре вернулся с подкреплением.
У этой истории забавный эпилог – через двадцать два года Бернал снова встретился со своими противниками в кают-компании у берегов Франции.
Бернал не остался в Кембридже, он перешел в Исследовательскую лабораторию Дэви-Фарадея{313} на Альбемарл-стрит в Лондоне. К этому времени он уже выбрал кристаллографию в качестве своей научной специальности и теперь в течение пяти лет осваивал экспериментальную технику. В этом немалая доля иронии. Кристаллография – прекрасная дисциплина, но ее экспериментальная техника в двадцатые годы, как и теперь, требовала усидчивости и терпения. Иногда она попросту скучна, а ум Бернала никогда не отличался терпением, он у него творческий, иногда срывающийся в беспочвенные фантазии.
Как бы то ни было, но Бернала увлекли замеры структуры графита и его поверхностей. В то время в лаборатории под руководством старого Брэгга{314} работала группа молодежи: г-жа Кэтлин, Лонсдейл, Астбери, Робертсон. Позднее они стали ведущей группой в кристаллографии и биофизике, но уже тогда они открывали новую страницу в исследовании веществ. Бернал живо интересовался их работой. С самого начала ему везло в собственных исследованиях, и он вел их беспечно, не проявляя заботы о приоритете.
Лондонская жизнь Бернала за стенами лабораторий менее всего была скучной. Он увлекся политикой, но она не отняла у него веселья и живости. Всегда, за исключением разве самых тяжелых моментов жизни, он оставался веселым и шутливо настроенным. В те годы было принято делить вкусы на высокие, глубокие и тонкие, причем высшим считался тонкий. Бернал возглавлял людей с тонким вкусом. С ним происходило множество любопытнейших происшествий, которые нужно было записать, пока они не стерлись в памяти. Так, однажды Пайк при активной поддержке Бернала пробовал скупить по себестоимости большую часть мирового производства меди. Медь им потребовалась, чтобы удовлетворить альтруистическое желание – основать в Кембридже школу художественного литья.
В 1927 году в Кембридже ввели преподавание кристаллографии, ввели не без противодействия Кавендишской лаборатории. Резерфорд не признавал других отраслей физики, кроме его собственной. Учитывая глубокое знание им предмета, вакансию предложили Берналу. Я обосновался в Кембридже через несколько месяцев, так что начиная с этого периода большая часть фактов о Бернале основана на моих личных наблюдениях.
До сих пор помню, как Артур Хатчинсон, в то время ректор колледжа Пембрук и профессор минералогии, рассказывал о первой беседе с Берналом. Бернал вошел в комнату и сел, опустив голову. (Бернал всегда был внешне застенчив, терпеть не мог процедур представления и всяких тонкостей светского ритуала.) Да, он признает, его действительно зовут Берналом. Да, он признает факты собственной служебной карьеры. Больше из него ничего не удавалось вытянуть. В конце концов председательствующий Хатчинсон спросил в отчаянии, что он будет делать с кафедрой, если ее получит. Тут Бернал резко откинул голову, встряхнул волосами, как знаменем, и сказал: «Нет!» (так он обычно начинает свои лучшие речи). Сказал: «Нет» и начал говорить. И произнес замечательную, увлекательную, мастерскую речь на сорок пять минут.
«Нам ничего не оставалось, как избрать его», – говорил потом Хатчинсон.
Сам Хатчинсон корректен и вежлив, но он всегда испытывал неодолимую тягу к талантам. Как раз по его предложению вводили чтение лекций по кристаллографии.
«С тех пор я только тем и занят, – заключил он свой рассказ, – что убираю битые горшки за этим молодым человеком».
Бернал читал в Кембридже ровно десять лет. Все это время он не был членом совета какого-либо колледжа, хотя многие из нас пытались провести его кандидатуру в своих колледжах. Мне это не удалось сделать у себя в Крайст-колледже. Один из престарелых коллег заметил: «С такими волосами нельзя быть нормальным».
Влиянием Бернал пользовался огромным, оно распространялось на науку, политику, социальное предвидение. Бернал готов был говорить с первым встречным, но чаще он выступал в узких кружках, вроде основанного им же дискуссионного клуба ученых, где было около десяти членов. Когда Берналу приходило желание говорить публично, в аудиторию сразу набивались студенты. Но наибольшим влиянием он, мне кажется, пользовался у молодых преподавателей и ученых в возрасте от 25 до 35 лет. Некоторые из них в то время уже определили свое призвание, другие были на пути к этому. Это люди, подобные Холдейну{315}, Нидаму, Эддингтону, Пири, в большинстве своем естественники, хотя были и филологи. Все они переросли пору ученичества, большинство имели твердые убеждения и сложившиеся взгляды. Они критически воспринимали действительность, не лишены были самомнения и совершенно не были расположены признавать чье-то лидерство. Было бы неверно предполагать, что они видели в Бернале своего духовного вождя. Разумеется, нет. И все-таки огромное влияние Бернала на их научное и социальное мышление – факт очевидный.
Бернал не смог бы добиться этого, не будь у него трех преимуществ. Прежде всего, он был признан всеми как крупный ученый. Никто не мог сомневаться в этом, даже если бы захотел. В таком профессиональном и замкнутом мире, каким был Кембридж тридцатых годов, было бы просто невозможно завоевать твердое уважение, не будь человек первоклассным мастером своего дела. Следует напомнить, что в те годы в Кембридже работал еще Резерфорд. В Кавендишской лаборатории вела исследования группа выдающихся физиков: Чедвик, Капица, Блэкетт, Кокрофт. В Кембридже были Гоуленд Хопкинс{316}, Дирак находился в апогее творчества, а также группа чистых математиков во главе с Харди и Литлвудом, которые хотя и прошли уже вершину творчества, но сохраняли силу блестящего интеллекта. Здесь были Витгенштейн{317}, Кейнс{318}, а также такой крупный филолог, как Хаусмен. Не многие университеты могли бы похвастаться подобной плеядой талантов, работающих вместе в одно время. На таком фоне трудно было выделиться и стать равным. Все признают, что Берналу это удавалось.
В науке Бернал оказался в центре тех революционных событий, которые были связаны с внедрением методов физики и химии в биологию. Идея перестройки биологии стала основной в работе Бернала еще до возвращения в Кембридж, может быть, несколькими годами раньше. Задавшись конечной целью – исследовать физическую природу жизни, – Бернал, как и в других случаях, работал по плану. Знакомство с экспериментальной техникой кристаллографии давало Берналу в руки мощный инструмент анализа неорганических структур. Он пытался применить эту технику на веществах, имеющих отношение к биологии, прежде всего на аминокислотах, стеролах и витаминах. Затем он перешел к исследованию воды, основной составляющей организмов. Затем – к белкам и вирусам. К загадкам воды он еще вернется через двадцать пять лет.
Так возникала молекулярная биология. Бернал не ограничивался использованием только собственной техники эксперимента. Он действовал, как импресарио, стараясь привлечь к работе других ученых, с другой техникой экспериментирования. Если персонифицировать ситуацию, Бернал действовал в роли посредника между Кавендишской лабораторией Резерфорда и биохимической лабораторией Хопкинса, отца биохимии, который в то время был еще одним реформатором научного мышления в Кембридже. Некоторые идеи Хопкинса появились преждевременно. При тогдашнем состоянии экспериментальной техники их нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Раньше своего времени появилась и некоторая, пожалуй, даже значительная часть идей Бернала. Но его основная тема, его собственный вклад в науку были точно рассчитаны по месту и времени.
Иногда спрашивают, какое место занимает Бернал в истории науки, если понимать историю в узком смысле слова. Ответ, видимо, должен быть таким: его природное дарование огромно, он самый образованный из естественников своего времени, возможно, даже последний ученый-естественник, к которому применим этот термин, включающий знание того, что представляет собой наука в целом. У Бернала необыкновенно смелое воображение и природный дар проникать в суть вещей. Он достиг многого в науке. И все же, если бы удалось составить список его дел, научные достижения Бернала не были бы в числе первых. В какой-то степени этот факт отражает свойства его натуры. Бернал любил начинать что-нибудь, подсказать идею, сделать первый шаг, а потом самоустраниться, кому-нибудь другому оставить доводить дело до завершающего результата. Во всех частях мира под разными именами опубликовано много научных статей, которые появлением своим обязаны Берналу. Самому Берналу недостает одержимости, которой обладает большинство ученых и которая заставляет их доводить до конца начатое исследование. Будь у него эта одержимость, Бернал завершил бы, видимо, значительную часть современной молекулярной биологии и получил бы несколько Нобелевских премий.
Но есть всему этому и более серьезная причина. Темперамент, горячее гражданское чувство вынуждали Бернала отдавать много времени деятельности за пределами науки. Это мешало ему использовать все свои возможности в науке и, естественно, мешало получить результаты, которые он по праву мог бы назвать своими. В 1937 году, еще очень молодым, он стал членом Королевского общества, и в том же году ему предложили место профессора физики в Бербек-колледже. Место необычное, но во многих отношениях почетное и удобное для Бернала. Пришли, как водится, и почести: медаль Королевского общества, избрание в члены зарубежных академий и т. п. Но Бернал мог бы достичь гораздо большего, как мог бы и написать значительно больше работ. Он, видимо, и сам это прекрасно понимал, к тому же многие из нас часто говорили ему об этом. Сказать, что все это ему совершенно безразлично, значило бы покривить душой. Во многих отношениях Бернал – альтруист, но что касается авторства или приоритета, то здесь полного безразличия, видимо, вообще не бывает. Мне приходилось видеть не так уж много людей, которые жертвовали наукой, любимым делом ради более высокого блага. Но мне не приходилось еще видеть людей, которые бы, как Бернал, пожертвовали столь многим. Возможно, он пожертвовал половиной того, чего он мог бы добиться в науке.
Полная политическая определенность Бернала – вторая причина его влияния на окружающих. Как марксист Бернал никогда не колебался. В свое время он начал с того, что смотрел на события глазами веры, но, однажды убедившись разумом в истинности марксизма, Бернал – последний из тех, кто мог бы отступиться. Было бы наивно думать, что он не знал тяжелых переживаний и мрачных мыслей. Острее, чем многие из нас, воспринимал он жестокость и даже простое равнодушие. Во время XX съезда КПСС и, надо полагать, во время венгерских событий Бернал прошел через большие раздумья. Но в конечном счете его марксизм только закалился и укрепился. По его мнению, это единственная философская система, которая придает смысл существованию мира, каков он есть и каким он стремится стать.