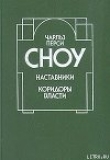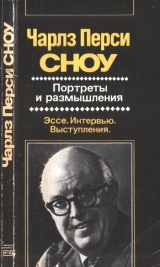
Текст книги "Портреты и размышления"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
В Кембридже тридцатых годов он со своими взглядами оказался среди англичан-эмпириков, которых можно было убедить во многом, но далеко не во всем. Вместе с тем мы знали, и в этом был третий источник его влияния, который мне хочется назвать самыми простыми словами, мы знали: Бернал – добрый человек. Он может быть раздражающе эгоцентричен, больше даже любого из нас, но в этом эгоцентризме нет и следа заботы о себе самом, о своих личных интересах. Он патологически благороден и добр по отношению ко всем. Даже после недолгого общения с ним убеждаешься, что он со свойственной лишь очень немногим людям настойчивостью ищет счастья для всего человечества. На первый взгляд странно, но именно эта его идеализирующая доброта заставит его позднее проводить бессонные ночи и – здесь мне придется коснуться личного – поведет к разногласиям между нами.
Бернал никогда не добивался личной власти, она его привлекала меньше, чем других. Но Бернал не допускал даже мысли, что у власти есть свои законы, что такая концентрация власти, как это было, например, при Сталине, опасна по своей природе. Я успел узнать кое-что о власти, прежде чем увидел ее в действии, к тому же по складу характера я много подозрительнее и пессимистичнее Бернала. Только сравнительно недавно я нашел свой собственный, нелегкий путь к надежде. Так что в оценке политической власти и ее свойств наши взгляды не совпадают.
Что же касается способности Бернала видеть будущее, когда речь идет не о деталях и конкретных проявлениях, то его воображение более продуктивно и дисциплинированно, чем у любого из нас. Обычно он оказывается прав. В его способности видеть будущее я не сомневался в тридцатые годы, не сомневаюсь и теперь. Тогда, в Кембридже тридцатых годов, он в каждого из окружающих вселял обоснованную, аргументированную, доказанную силой его интеллекта уверенность, что, используя прикладную науку, мы в состоянии избавить современное человечество от нищеты. Это и есть основная мысль его великой книги «Социальная функция науки». Еще до выхода книги в свет мы все прослушали ее. Она часть бесконечного диалога, который продолжался все тридцатые годы. «Диалог» здесь не совсем точный термин: говорил в основном один, а остальные были в роли коллективного собеседника. Нам приходилось соглашаться с большей частью того, что мы слышали, а потом читали в книге. Как и многие другие, я до сих пор разделяю основные мысли этого труда.
Когда пыль уляжется и прошлое покажет свое истинное лицо, то, может быть, в набросках путей использования науки, как они даны в «Социальной функции» и других трудах Бернала, обнаружатся моменты наибольшей заботы и тревоги. Это относится также к основному его труду по молекулярной биологии. Но так будет, когда пыль уляжется, а сейчас мы вправе поговорить о других вещах.
В войну, например, Бернал был в высшей степени самим собой, был больше Берналом, чем мы могли себе представить. Поначалу его мучили теоретические неувязки. Он не пацифист, но он марксист. Какая это война? Бернал решил этот проклятый вопрос со свойственной ему изобретательностью: стал сначала национальным, а потом мировым авторитетом по вопросам противовоздушной обороны. Предотвращать смерть людей от бомб приемлемо и благородно в любых этических стандартах. Сам способ действия, при помощи которого он поступил на государственную службу, характеризует не только лично Бернала, но и реализм английских правящих классов. Бернал и другие взяли приступом министерство внутренних дел, изводя его проектами «предупредительных мероприятий». Бернала пригласили на завтрак, где был также министр, сэр Джон Андерсен. Бернал красноречиво и понятно объяснил, что именно следует понимать под «предупредительными мероприятиями». Его тут же попросили участвовать в работе комитета Андерсена. Это, естественно, вызвало беспокойные запросы службы безопасности: разве Бернал не состоит в …? Андерсен ответил: «Меня мало заботит, так ли он красен, как огонь в аду. Без него нам не обойтись».
Свою службу государству Бернал обставил такими приключениями, которые вряд ли пришлись бы по душе кому-нибудь из нас. Обладая абсолютным физическим и моральным мужеством, он в течение всей войны шел на такой риск, которого любой на его месте попытался бы избежать, если есть хоть малейшая возможность. Не было, например, никаких разумных причин для того, чтобы в 1940 году спешить на вокзал Св. Панкраца разряжать неразорвавшуюся бомбу. К счастью для Бернала, обнаружилось, что перед ним не бомба, а стреляная артиллерийская гильза. Он тут же поспешил к начальнику вокзала и с подкупающим разочарованием сообщил ему: «Можете открывать ваш вокзал, мистер».
Но и такого рода приключений было ему мало. В войну он прошел долгий и сложный путь от организации активных воздушных налетов до работы в штабе объединенных операций, где стал научным советником лорда Маунтбеттена. Здесь Бернал был во всем многообразии своих качеств: веселый, выносливый, не знающий усталости, способный реализовать не только, свои собственные идеи, но и идеи других. Должна, например, стать когда-нибудь достоянием гласности эпопея с авианосцем-айсбергом «Хабукак», в которой принял участие также Пайк.
Бернал объездил весь мир. Был в Бирме, Индии, дважды пересекал Африку. В путешествиях по миру он на месте знакомился с острыми проблемами слаборазвитых стран.
Вокруг Бернала складывались мифы. Большинство из них имеет зерно истины. Мне больше других нравится история со 3 службой безопасности. Ее я могу подтвердить, так как все происходило у меня на глазах. В конце 1943 года Берналу понадобился еще один помощник. Вполне естественно, что он потребовал одного из своих прежних коллег, с которым они вместе работали до войны. Человека требовалось перевести из другой части; он, как и Бернал, работал на оборону. Перевод согласовали, но возникла необъяснимая задержка. Бернал не стеснялся беспокоить высокое начальство, и вскоре возмущенный голос Маунтбеттена осведомился, почему человек не прибыл. Он нужен Берналу. Задержка даже на день наносит непоправимый ущерб.
В отдел безопасности посыпались запросы. Последовал уклончивый ответ. Затем еще более уклончивый. Наконец – разъяснение:
– Да, нам пришлось задержать перевод этого человека.
– Почему?
– Видите ли, до войны он был связан с известным коммунистом.
– С кем?
– С Дж. Берналом.
Частью из-за секретности, которой были окружены все его действия, частью по другим причинам, но роль Бернала в подготовке высадки не получила должного признания. А ситуация была достаточно острой. Карты врали. Во всяком случае, их точность не соответствовала масштабу и точности задуманных операций. Бернал в то время часто говорил:
– А знаете, в сущности, никто представления не имеет, где находится Франция.
И конечно, никто не представлял, на что похожи французские берега. Бернал поднимал старые геологические отчеты, копался в средневековых хрониках о войне в Нормандии. Он высылал аквалангистов за пробами прибрежного грунта, и было трудно удержать его от попыток самостоятельно отправиться в подводное путешествие. В день высадки Бернал не выдержал. И хотя его должны были остановить, он все же сумел пробраться на место действий только для того, чтобы убедиться в правильности своих исследований. Здесь на берегу он и стоял в совершенно неправдоподобной по условиям места и времени форме лейтенанта-инструктора королевского флота.
После войны Бернал живет на виду, и то, что им сделано в этот период, не нуждается в описании. Не заботясь о здоровье и о других вещах, он всего себя отдает деятельности, которая, по его мнению, может помочь сохранить мир. Атомная бомба – единственное научное достижение, которое произвело на него угнетающее впечатление. «Это проклятое открытие», – говорил он о бомбе подавленно. Но Бернал никогда не перестает надеяться, и по крайней мере некоторые из его надежд становятся реальностью. Кстати говоря, ему подобное заявление показалось бы изрядно скучным. Если часть надежд Бернала становится действительностью, он воспринимает это как повод взяться за что-либо другое.
Между заседаниями, путешествиями по всему миру, растущими заботами о неполадках в устройстве мира Берналу удается выкраивать время для работы в чистой науке. Он делает это в таком возрасте, в котором большинство физиков давно оставили бы занятия наукой. Когда ему было около шестидесяти, он выдвинул связанную с основной научной темой гипотезу о структуре жидкостей, гипотезу, необыкновенно простую и оригинальную, и завершил одну из наиболее интересных своих работ.
Когда человек стареет, он (я, во всяком случае) начинает оглядываться в прошлое в поисках людей, которые оказали на него наибольшее влияние. С годами фигура Бернала растет в моей памяти. Я знаю людей, которым Бернал представляется человеком замкнутым, далеким, неотзывчивым. Действительно, к малым бытовым огорчениям он бывает порой равнодушен и маленьким бедам своих друзей уделяет не больше внимания, чем они его собственным. Но стоит прийти настоящей беде – я говорю о том, что я доподлинно знаю, – Бернал будет первым, кто отнесется к ней внимательно. Точнее, он будет первым по-настоящему внимательным; нет в делах помощи никого, кто был бы так оперативен, внимателен, практичен, способен забыть все, кроме необходимости помочь.
Из людей, которых я знал, Бернал, несомненно, самый смелый. У него самое широкое и дисциплинированное воображение. Если бы можно было рассматривать наши жизни в перспективе и взглянуть со стороны на события, участниками которых мы были, то для меня встречи с Берналом стали бы во многих отношениях выдающимися.
Пер. М. Петрова
Лекции и статьи
Две культуры и научная революция{ˇ}1. Две культуры
Примерно три года назад я коснулся в печати одной проблемы, которая уже давно вызывала у меня чувство беспокойства[34]34
«The Two Cultures». – «New Statesman», 6 октября 1956 года. – Здесь и далее прим. автора.
[Закрыть]. Я столкнулся с этой проблемой из-за некоторых особенностей своей биографии. Никаких иных причин, заставивших меня размышлять именно в этом направлении, не существовало – некое стечение обстоятельств, и только. Любой другой человек, сложись его жизнь так же, как моя, увидел бы примерно то же, что и я, и, наверное, пришел бы почти к тем же выводам.
Все дело в необычности моего жизненного опыта. По образованию я ученый, по призванию – писатель. Вот и все. Кроме того, мне, если хотите, повезло: я родился в бедной семье. Но я не собираюсь рассказывать сейчас историю своей жизни. Мне важно сообщить только одно: я попал в Кембридж и получил возможность заниматься исследовательской работой в то время, когда Кембриджский университет переживал пору научного расцвета. Мне выпало редкое счастье наблюдать вблизи один из наиболее удивительных творческих взлетов, которые знала история физики. А превратности военного времени – включая встречу с У. Л. Брэггом в вокзальном буфете Кеттеринга{320} пронизывающе холодным утром 1939 года, встречу, в значительной мере определившую мою деловую жизнь, – помогли мне, даже, более того, вынудили, сохранить эту близость до сих пор. Так случилось, что в течение тридцати лет я поддерживал контакт с учеными не только из любопытства, но и потому, что это входило в мои повседневные обязанности. И в течение этих же тридцати лет я пытался представить себе общие контуры еще не написанных книг, которые со временем сделали меня писателем.
Очень часто – не фигурально, а буквально – я проводил дневные часы с учеными, а вечера – со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя «две культуры» еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса{321} или Южного Кенсингтона до Челси{322}.
Это в самом деле сложнее, так как, преодолев несколько тысяч миль водных просторов Атлантики, вы попадете в Гринвич-Виллидж{323}, где говорят на том же языке, что и в Челси; но Гринвич-Виллидж и Челси до такой степени не понимают МТИ{324}, что можно подумать, будто ученые не владеют ни одним языком, кроме тибетского. Ибо это проблема не только английская. Некоторые особенности английской системы образования и общественной жизни делают ее в Англии особенно острой, некоторые черты социального уклада частично ее сглаживают, но в том или ином виде она существует для всего западного мира.
Высказав эту мысль, я хочу сразу же предупредить, что имею в виду нечто вполне серьезное, а не забавный анекдот про то, как один из замечательных оксфордских профессоров, человек живой и общительный, присутствовал на обеде в Кембридже. Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигурировал А. Л. Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед проходил, по всей вероятности, в колледже Сен-Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком, любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не слишком располагало к многоречию. Он попробовал завязать обычную для оксфордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа – и вновь услышал такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись, и один из них спросил: «Вы не знаете, о чем он говорит?» «Не имею ни малейшего представления», – ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит. К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему хорошее расположение духа. «О, да ведь они математики! – сказал он. – Мы никогда с ними не разговариваем…»
Но я имею в виду не этот анекдот, а нечто совершенно серьезное. Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе – художественная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди с удивлением сказал мне: «Вы заметили, как теперь стали употреблять слова „интеллигентные люди“? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон{325}, Дирак, Эдриан{326} и я – все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это представляется довольно странным, а вам?»[35]35
Эта лекция была прочитана в Кембриджском университете, поэтому я мог называть целый ряд имен без всяких разъяснений. Г. Г. Харди (1877–1947) – один из самых выдающихся математиков-теоретиков своего времени – был достопримечательной фигурой в Кембридже и в качестве молодого члена совета одного из колледжей, и возвращении на кафедру математики в 1931 году.
[Закрыть]
Итак, на одном полюсе – художественная интеллигенция, на другом – ученые, и как наиболее яркие представители этой группы – физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда – особенно среди молодежи – даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т. С. Элиот – вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли – рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, но и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для нового Кида{327} или нового Грина{328}. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде художественной интеллигенции; таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. «Это героическая эпоха науки! – провозглашает Резерфорд. – Настал елизаветинский век!{329}» Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессильны и их воображение, и их разум.
Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: «Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип»{330}. Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. «Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!» – сказали ему однажды. «Это правда, – ответил он, – но в конце концов я создал волну, не так ли?»{331}
Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее.
Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны.
Прежде всего о свойственном ученым «поверхностном оптимизме». Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы – лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были – самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, – воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще.
Но почти все ученые – и тут появляется луч надежды – не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивида кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми.
Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирают преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню: с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод.
Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход, и обычно они верят, что это возможно, до тех пор пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм – тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся.
Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно.
Я помню, как меня с пристрастием допрашивал один видный ученый: «Почему большинство писателей придерживаются воззрений, которые наверняка считались бы отсталыми и вышедшими из моды еще во времена Плантагенетов{332}? Разве выдающиеся писатели XX века являются исключением из этого правила? Йитс, Паунд, Льюис{333} – девять из десяти среди тех, кто определял общее звучание литературы в наше время, – разве они не показали себя политическими глупцами, и даже больше – политическими предателями? Разве их творчество не приблизило Освенцим?»
Я думал тогда и думаю сейчас, что правильный ответ состоит не в том, чтобы отрицать очевидное. Бесполезно говорить, что, по утверждению друзей, мнению которых я доверяю, Йитс был человеком исключительного великодушия и к тому же великим поэтом. Бесполезно отрицать факты, которые в основе своей истинны. Честный ответ на этот вопрос состоит в признании, что между некоторыми художественными произведениями начала XX века и самыми чудовищными проявлениями антиобщественных чувств действительно есть какая-то связь и писатели заметили эту связь с опозданием, заслуживающим всяческого порицания[36]36
Подробнее на этих вопросах я остановился в своей статье «Угроза интеллекту» («Challenge to the Intellect»), опубликованной в «Times Literary Supplement» 15 августа 1958 года.
[Закрыть]. Это обстоятельство – одна из причин, побудивших некоторых из нас отвернуться от искусства и искать для себя новых путей[37]37
Правильнее было бы сказать, что из-за некоторых художественных особенностей мы почувствовали, что господствующие литературные направления ничем нас не обогащают. Подобное ощущение в значительной мере усилилось, когда мы осознали, что эти литературные направления связаны с такими общественными позициями, которые мы считаем порочными или бессмысленными либо порочно-бессмысленными.
[Закрыть].
Однако, хотя для целого поколения людей общее звучание литературы определялось прежде всего творчеством писателей типа Йитса и Паунда, теперь дело обстоит если не полностью, то в значительной степени иначе. Литература изменяется гораздо медленнее, чем наука. И поэтому периоды, когда развитие идет по неверному пути, в литературе длиннее. Но, оставаясь добросовестными, ученые не могут судить о писателях только на основании фактов, относящихся к 1914–1950 годам.
Таковы два источника взаимонепонимания между двумя культурами. Должен сказать, раз уж я заговорил о двух культурах, что сам этот термин вызвал ряд нареканий. Большинство моих друзей из мира науки и искусства находят его в какой-то степени удачным. Но люди, связанные с сугубо практической деятельностью, решительно с этим не согласны. Они видят в таком делении чрезмерное упрощение и считают, что если уж прибегать к подобной терминологии, то надо говорить по меньшей мере о трех культурах. Они утверждают, что во многом разделяют взгляды ученых, хотя сами не принадлежат к их числу; современные художественные произведения говорят им так же мало, как и ученым (и, наверное, говорили бы еще меньше, если бы они знали их лучше). Дж. X. Плам, Алан Буллок и некоторые из моих американских друзей-социологов настойчиво возражают против того, чтобы их принуждали считаться помощниками тех, кто создает атмосферу социальной безнадежности, и запирали в одну клетку с людьми, с которыми они не хотели бы быть вместе не только живыми, но и мертвыми.
Я склонен относиться к этим доводам с уважением. Цифра два – опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие «две культуры» подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.
На одном полюсе – культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым.
Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллигенции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опять-таки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции[38]38
Было бы любопытно проанализировать, из каких учебных заведений выходит большая часть членов Королевского общества. Во всяком случае, совсем не из тех, которые готовят кадры, например, для министерства иностранных дел или для Совета Королевы.
[Закрыть]. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то, что называется общей культурой.
На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем – в силу привычки мы просто этого не замечаем, – придает привкус ненаучности всей «традиционной» культуре, и часто – чаще, чем мы предполагаем, – эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители «традиционной» культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало[39]39
Сравните «1984» Дж. Оруэлла – произведение, наиболее ярко выражающее идею отрицания будущего, – с «Миром без войны» Дж. Д. Бернала.
[Закрыть]. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство.
Поляризация культуры – очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях.
Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30–40 тысяч тех и других, то есть примерно 25 %. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам.
Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: «Видите ли, я пробовал читать Диккенса…» И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке{334}, то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы.
Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и постоянно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова «субъектный», «объектный», «философия», «прогрессивный»[40]40
«Субъектный» на современном технологическом жаргоне значит «состоящий из нескольких предметов»; «объектный» – «направленный на определенный объект». Под «философией» понимаются общие соображения или та или иная нравственная позиция. (Например, «философия такого-то ученого, касающаяся управляемых снарядов», очевидно, приведет к тому, что он предложит некоторые «объектные исследования».) «Прогрессивной» называется такая работа, которая открывает перспективы повышения по службе.
[Закрыть], то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные.
Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением – музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: «Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов». Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их «использует». Может быть, в качестве молотка? Или лопаты?