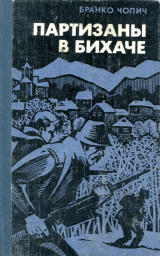
Текст книги "Партизаны в Бихаче"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
26
Часами я сидел в партизанском трибунале и слушал страшные признания усташеских палачей и безжалостных убийц, которых там судили.
«Неужели же и такое бывает на этом свете? Неужели эти страшные дела творились на берегах зеленой Уны, красавицы краинской?» – мысленно спрашивал я себя, словно слушая чей-то рассказ о страшном, почти невероятном сне.
Тенистые парки и длинные аллеи Бихача, скрытый в густых зарослях родник, говорливая речушка Привилица, шумные водопады пенистой Уны от Рипача до Боснийской Крупы (докуда простирался мой, казавшийся бескрайним мальчишеский мир) – все это навсегда приворожило меня тихим шепотом, мягкими переливами красок, вечным светом волшебного царства бесконечной вечерней сказки. Открою глаза – и вот она, сказка, тут, за ближними ивами. Опущу веки – и в ту же секунду вокруг меня зазвенит шумный и беззаботный гимназический день, от которого начинает кружиться голова…
А перед председателем, нашего сурового партизанского трибунала, высоким красивым черногорцем Перой Радовичем, стоит какая-то сгорбленная черная фигура, похожая скорее на пень, чем на человека, и тянет свой жуткий, от которого мороз по коже дерет, рассказ о убийствах, допросах, пытках и длинных братских могилах под Бихачем на поле Гаревице.
«О каком городе они говорят? – спрашиваю я себя, леденея от ужаса. – Неужели все это происходило в моем милом Бихаче, городе моей юности, который когда-то принял меня, простого деревенского парня, в свои надежные объятия. В том Бихаче, в котором я носил в сердце так никогда и не спетую песню:
Уна голубая, Бихача краса,
Здесь я свой новый дом обрел,
Когда, оставив рощи и леса,
На берега твои пустынные забрел.
Здесь песни первые сложил
О людях своего родного края,
Который навсегда останется мне мил,
Залитый солнцем, красками играя».
Сердце хранит дорогие воспоминания о том далеком Бихаче из моих гимназических дней, а здесь, перед нами, мрачное чудовище в человеческом обличье убивает своими рассказами и наш беззаботный смех, и милые воспоминания, и голубое небо, распростертое над Плешивицей и Грмечем.
– Скендер, ты слышишь? И все это происходило в моем родном Бихаче!..
– Не в твоем это было Бихаче. Это было… Эх, да что там говорить!..
Последние его слова, как тихий дружеский вздох, убедили меня в том, что он крепко верит в тот мой грустный и веселый Бихач из гимназических дней. Верит, что это – единственный и настоящий Бихач, и этот Бихач живет и будет жить, а кошмар, о котором мы слышим в зале суда, – это всего лишь дурной, болезненный сон.
– Слушай, Скендер, а ты вообще веришь моим рассказам о том славном Бихаче? Вели еще и ты решишь, что это только пустые басни, тогда…
– Что за дурацкие мысли лезут тебе в голову, – добродушно гудит Скендер. – После Козары я всему верю, не верю только в то, что нас что-нибудь может остановить на нашем пути: временное поражение, смерть товарищей или зверства нелюдей… Ничего, еще будешь ты гулять по свободному Бихачу и шептать свои небылицы на ухо какой-нибудь Зоре.
– Вовсе это не небылицы, – сказал я и облегченно вздохнул.
– Да, да, будешь. А когда-нибудь сложишь рассказ или песню о своем учителе физкультуры Йове Лакиче и об учителе сербского языка Вуятовиче, который открыл в тебе талант. Мы с тобой слышали сегодня, какой мученической смертью они оба погибли. Расскажи о них, это твой долг. То были твои учителя, гимназист бихачский.
– Ты прав, надо рассказать об этом, пусть войдет в легенду все лучшее, что они носили в себе, – ответил я полушепотом, но уже спокойно, найдя в себе твердую опору. – Каждый должен бороться своим оружием.
– Именно своим оружием, – просто и убежденно подтвердил Скендер. Он-то уже показал на Козаре, как поэт должен бороться своим оружием, и теперь был спокоен и уверен в себе. – Пусть военный трибунал делает свое дело, а ты делай свое. Так будет лучше всего.
Вот тогда-то, на заседании партизанского трибунала, глядя на тупые, заросшие щетиной лица убийц, я и начал сочинять рассказ, посвященный памяти моего учителя-мученика. Всего один рассказ об одном из своих учителей.
Мой добрый учитель физкультуры простит мне, что я в своем повествовании изменил кое-какие подробности и имена. Простит и строгий Вуятович, преподаватель сербского, если рассказ окажется не «на пять с плюсом».
Нашему учителю физкультуры из реального училища было ни много ни мало пятьдесят лет, это был один из тех сухощавых, жилистых людей, которые, даже перевалив за шестой десяток, сохраняют юношескую подвижность, крепкое здоровье и живой интерес к любимому делу. Его знал весь небольшой боснийский городок, и, когда он показывался в конце улицы, в рубашке с распахнутым воротом, чуть-чуть кривоногий, стремительный, всегда куда-то спешащий, словно на спортивное состязание, все лавочники а торговцы оживлялись и начинали заранее улыбаться, готовя разные шутки-прибаутки.
– Эй, сосед, гляди, Ярич идет.
– Э-ге-ге, куда это в такую рань, господин учитель? – кричит кто-то из распахнутых настежь дверей.
– Неужели купаться в такой холод? Вот, люди, что значит спортсмен!
– Эй, господин учитель, тебе Шемсо Арнаут привет велел передать. Говорит, что не прочь опять с тобой побороться на ярмарке.
А Ярич, счастливый, радостно шагает, словно идет сквозь строй восхищенных зрителей, приветственно машет рукой направо и налево и добродушно говорит:
– Да уж постарели мы – и я, и Шемсо. Это ведь давненько было.
Всегда без галстука, в рубашке или пиджачке нараспашку, он до первого снега ходил без пальто и только уж в самые лютые холода надевал поношенный зеленый плащ, незастегнутый, словно назло холоду, и легким шагом направлялся к гимназии.
Только тогда он прекращал свои ежедневные купания в реке на своем любимом месте, у маленькой беседки, где его с высокого деревянного моста могли видеть все прохожие.
– Ого, Ярича сегодня утром уже не видать на реке, – сообщал своему соседу обувщик Тарабич и добавлял, дуя в ладони: – Зима, сосед, настоящая зима, видать, наступила.
В гимназии уже с первого класса Ярич отбирал лучших спортсменов, которых тренировал до окончания учебы. Они становились его любимцами и даже, больше того, его детьми, о которых он по-отечески заботился, тем более что своих детей у Ярича не было.
В воскресенье после обеда, гуляя со своей пухленькой медлительной женой по главной улице, он с гордостью и любовью показывал ей своих любимцев:
– Вон, видишь, это наш школьный чемпион в тройном прыжке. А вот тот, плечистый, помнишь, я тебе уже про него рассказывал, рекордсмен в толкании ядра. Одиннадцать с половиной метров!
На уроках его любимцам было все дозволено. Они могли шуметь, скакать, уходить с площадки, когда занятия проходили во дворе, или из спортзала домой. Им разрешалось самим выбирать вид и место занятий, им даже не возбранялось гонять его шляпу по двору вместо мяча, а нередко, заупрямившись из-за какого-нибудь пустяка, они самовольно выходили из общего строя и, обидевшись, удалялись в какой-нибудь угол. Ярич тогда с несчастным видом подходил к обиженному и что-то долго шептал ему на ухо, пока наконец оба не возвращались к остальным: Ярич – сияющий, точно прощенный преступник, а мальчишка, шмыгая носом и со следами слез на лице, все еще немного дуясь.
Летом у себя в саду над рекой Ярич часто заставал своих лучших гимназистов, которые воровали у него яблоки. Он гнался за ними, но когда мальчишки, попрыгав в воду, что есть силы удирали вплавь на другой берег, он, узнав своих любимцев, забывал про яблоки и подбадривал беглецов, словно находился на спортивных состязаниях:
– Вперед, Бобо, вперед! Браво, Никица, молодец!
Все эти выдающиеся спортсмены были обычно шустрыми, пронырливыми и драчливыми городскими детьми, в то время как школьники из окрестных сел, как правило, были неповоротливыми, стеснительными и не выказывали особого желания меряться силами с кем бы то ни было. Изредка среди них оказывался какой-нибудь метатель камня, от которого можно было ожидать приличных результатов. Оттого Ярич без особого воодушевления относился к гимназистам, пришедшим из деревни. В начале учебного года, нахмурив брови, он долго прохаживался вдоль неровного строя остриженных «под нуль» деревенских ребят и наконец мрачно спрашивал:
– И что вы все в школу заявились? А кто же будет пахать, кто будет сеять, а?
Из числа этих деревенских увальней Ярич в первые месяцы учебы выбирал «главного классного олимпийца», лицо немаловажное для его метода обучения. Обычно это был какой-нибудь особенно неловкий гимназист, медлительный и неповоротливый, которому при ходьбе «мешали» ноги, который не мог выполнить даже самого простого упражнения и с которым все время происходили разные неприятности: то он спотыкался о каждый камешек на площадке, то у него спадали трусы или расшнуровывались башмаки, так что все время находился повод для смеха и шуток.
– Вот сейчас наш олимпиец Вучен Билетина покажет, как надо делать тройной прыжок! – торжественно объявляет Ярич, и гимназисты хохочут, радуясь возможности пошуметь и покричать, вытягивают шеи, предвкушая веселое развлечение.
«Олимпиец» вначале, конечно, сердится на то, что ему отводится такая незавидная роль, но вскоре понимает, что он у Ярича тоже находится на привилегированном положении, так же, как и лучшие спортсмены, потому что на фоне его медвежьей неуклюжести они особенно хорошо выделяются своей ловкостью и красотой движений.
Со временем «олимпиец» все больше смелеет и начинает на занятиях физкультурой отпускать шутки, от которых покатывается весь класс, он вертится, разгуливает во время урока по классу, толкается, а Ярич делает вид, что ничего не замечает, считая все это вполне нормальными вещами. Он даже позволяет разошедшемуся шалуну безнаказанно залезать за доску и строить оттуда рожи товарищам и самому учителю, когда тот не видит этого.
Основная же масса школьников, те, что не был ни выдающимися спортсменами, ни полными неумехами, словно вообще не существовала для Ярича, в лучшем случае им отводилась роль болельщиков или же слушателей.
Зимой, когда нельзя было заниматься на улице, Яри, бывало, собирался преподавать теорию, но тут ученики, заговорщически перемигиваясь, начинали его «заговаривать» в надежде послушать о спортивных состязаниях или об известных борцах, о канатоходцах, о гимнастах и вообще о сильных людях. «Олимпиец» чаще всего выполнял роль уговорщика.
– Господин преподаватель, – начинает он очень серьезно, – и Ярич, польщенный уже самим обращением, хмурит брови, чтобы скрыть довольную улыбку. – Господин преподаватель, расскажите нам, как вы боролись с Шемсо Арнаутом, когда он еще был борцом в цирке.
Шемсо Арнаут, известный каждому гимназисту продавец слоеных пирогов, здоровенный детина, в котором сто сорок килограммов веса, является одной из главных городских достопримечательностей, без которых вообразить город вообще невозможно, точно так же, как без круглой белой беседки, что установлена в парке у моста. Поэтому при упоминании его имени класс сразу оживляется.
– Расскажите, расскажите, господин преподаватель! – просят все хором.
– Хм, Шемсо! Шемсо – это борец каких поискать! – Ярич и сам начинает воодушевляться своим рассказом. – Шея, как у вола, ручищи во какие, плечи вон в ту дверь не пролезли бы… С ним бы не смог сравниться даже сам…
– Даже сам Вучен Билетина! – вставляет «олимпиец» Билетина.
Весь класс покатывается со смеху, а Ярич, все больше воодушевляясь, увлеченно размахивает руками и расхаживает по классу, деревянные доски под ним скрипят и стонут, словно на них в самом деле состязаются в ловкости и силе разгоряченные борцы-тяжеловесы.
С таким же жаром Ярич рассказывал о Геркулесе, олимпиадах в Древней Греции, о римских гладиаторах, наших атлетах того времени – Лео Штрукеле, Мариане Матиевиче и других, но особенно он восхищался Спартой и спартанцами, их царем Леонидом и легендарным бегуном из Марафона.
Когда он начинал о них рассказывать, весь класс словно переносился в древнюю Элладу, гимназисты вместе с героями древней Спарты как бы участвовали в сражениях и спортивных состязаниях и в полном боевом снаряжении спешили принести в родной город весть о победе. Только школьный звонок, раздававшийся вдруг точно из другого мира, возвращал гимназистов к действительности – в жарко натопленный класс с запотевшими окнами, за которыми лежал укрытый снегом городок.
На примере славных подвигов героев Древнего мира Яричу удавалось увлечь спортом и своих учеников. Именно потому гимназия побеждала на многих соревнованиях, показывая лучшие результаты, а в конце учебного года в ней устраивался традиционный спортивный праздник, на который с удовольствием приходили все гимназисты, преподаватели и просто горожане.
Так Ярич и жил от одного крупного спортивного соревнования до другого, неизменно радуясь каждому новому успеху своих учеников и каждому новому спортсмену, который приходил к ним в гимназию. Он долго помнил тех, кто в свое время закончил школу, и годами рассказывал новым поколениям об известном гимнасте Лемиче, бегуне Видиче, метателе ядра Дреновиче. В его рассказах на них ложился отсвет легендарной славы древних спартанских героев.
В тот год, когда началась война, в восьмом классе особенно выделялся как отличный бегун некий Даниша Зорич, худощавый черноволосый паренек с личской границы. Ярич с большим энтузиазмом готовил его к межшкольным соревнованиям, которые были намечены на конец учебного года и где он должен был непременно занять первое место. Хотя бы раз в неделю Ярич выходил с ним на тренировку за город, их видели вдвоем на прогулках, дни вместе купались, ловили рыбу, точно закадычные друзья. Учитель словно молодел рядом со своим учеником, ему казалось, что вернулось то время, когда он сам был мальчишкой, быстро бегал, высоко прыгал и побеждал на соревнованиях.
Их дружба была прервана начавшейся войной с Германией. В считанные дни в государстве все переменилось, перепуталось, потеряло всякий смысл, с катастрофической быстротой разрушился порядок, казавшийся до этого незыблемым. Власть в городе захватили усташи, начались аресты и преследования сербов, и однажды ночью Ярича подняли с постели и арестовали, а через два дня перевезли в маленький, глухой городок, где был создан один из первых концлагерей. Там он в первый же день встретился с группой своих бывших учеников, среди которых был и его любимец Зорич.
– Зорич, а ты как здесь оказался? – с горестным удивлением воскликнул Ярич, который за очень короткое время так сильно поседел и постарел, что гимназист при виде его вздрогнул, точно встретив привидение.
Учитель и ученик, старые друзья, при этой неожиданной встрече испытывали такое чувство, будто были знакомы когда-то очень-очень давно, в каком-то совсем другом мире, где люди и чувствовали, и думали совсем иначе.
Они говорили недолго, каких-нибудь минут десять, но этого было достаточно, чтобы оба поняли, что нечто очень важное, еще вчера связывавшее их, куда-то безвозвратно ушло, умерло. Исчезло то, что их объединяло и сближало, и теперь оба они словно смотрели другими глазами: Ярич видел перед собой растерянного юношу, а Зорич – совершенно седого человека, стоявшего на пороге старости, у которого не было силы помочь даже самому себе.
Однажды утром заключенным приказали собираться в дорогу. По маленькому лагерю разнеслось известие:
– Идем в Госпич.
Так как ходили слухи, что в окрестных лесах много вооруженных «бандитов», осторожные усташи стали связывать молодых лагерников по двое. Толстых веревок не хватало, и гимназистов они связали обычной бечевой, которая оказалась под рукой.
– Вставай, учитель, строй свое войско, двигаем! – наполовину в насмешку, наполовину всерьез бросил Яричу лейтенант усташей, показывая на связанных гимназистов.
Ярич прежде всего отыскал глазами своего Зорича. Разумеется, он должен идти во главе колонны.
– Зорич! Эй, Зорич!
Юный спортсмен был связан в паре со своим товарищем, бывшим главным классным «олимпийцем» Васой Лаврней – неприметным и низкорослым гимназистом. Ярич горько усмехнулся, ставя их в голову колонны.
– Ну вот, Лаврня, и ты наконец оказался первым, оправдал-таки свое звание «олимпийца»!
В зловещей тишине колонна вышла из городка, перевалила через гряду невысоких холмов и зашагала по бесплодной каменистой равнине мимо видневшихся кое-где чахлых берез. Местность вокруг дороги была испещрена мелкими оврагами и небольшими котловинами, окруженными зарослями корявого орешника и бересклета. Слева, метрах в ста, поднималась темная стена дубовой рощи.
Был сумрачный день, небо затянули тучи, как часто бывает в этих местах в середине весны, и арестованных все больше томила тяжелая неизвестность, предчувствие, что их уводят, чтобы передать в руки чужим, жестоким людям, которых в последнее время становится все больше. Те, что были постарше, начали встревоженно перешептываться, а гимназисты шли спокойно, радуясь вольным просторам, свежему ветру, движению и не задумываясь о конечной цели своего путешествия.
Вспотевший и бледный, Ярич, стараясь не отставать от своих учеников, шел рядом с колонной, точно так же, как раньше, когда водил их на стадион. Он то и дело поглядывал на своего любимца, который шагал в голове колонны беззаботно и легко, точно на прогулке.
Вдруг среди арестованных, шедших впереди, произошло какое-то замешательство. Колонна распалась и остановилась, и тут из толпы заключенных вырвался Зорич и стрелой понесся к лесу. За ним бросился и приземистый Лаврня, сделал несколько неуклюжих прыжков, свернул вправо и быстро скрылся в ближайшем овраге.
Сзади раздались крики усташей:
– Сбежал! Сбежал! Держи!
В погоню за беглецами бросились несколько усташей. Грохнул выстрел, но тут же раздался крик:
– Не стрелять, хватайте их живыми!
Те, что бросились вслед за Зоричем, не имели времени, чтобы хорошо прицелиться, остальные не стреляли, боясь попасть в своих. Расстояние между Зоричем и преследователями все больше увеличивалось. Зорич даже не пытался укрыться в каком-нибудь овраге, уверенный в быстроте своих ног. Внимание усташей было приковано к любимцу учителя, бежавшему на виду у всех, и это дало возможность спастись второму беглецу, Лаврне, который скрылся в овраге, как мышь в норе.
Вся колонна, затаив дыхание, следила за этой погоней. Ярич, казалось, помолодел. Забыв, что его ученик бежит от верной смерти, он вскочил на бугор у дороги и, размахивая кулаками, стал восторженно кричать:
– Вперед, Зорич, вперед! Браво, марафонец, браво, чемпион! Жми!
Эти крики, казалось, прибавляли Зоричу силы, он точно на крыльях летел меж редких берез, быстро приближаясь к опушке дубовой рощи. Ярич был вне себя от восторга:
– Браво, брависсимо! Вперед! Вперед!
Только тогда, когда уже стало ясно, что беглеца охраннику не догнать, вслед ему раздалось несколько выстрелов. Последняя пуля, предательски выпущенная в упор, была предназначена для его учителя и болельщика. Счастливый и гордый за своего ученика, Ярич взмахнул руками и пошатнулся от неожиданного удара, все еще не сводя глаз со своего любимца-победителя, который уже вбежал в густой спасительный лес.
27
Когда Бихач был полностью освобожден, мы узнали, что в нем живет наша с Бурсачем учительница из начальной школы, Мара Вукманович, и решили ее отыскать.
Николетина старательно побрился, засунул в свою сумку брошюру Ленина «О праве наций на самоопределение», позаимствованную у Йовицы Ежа (бог знает откуда она взялась у Йовицы), оставив в залог недоверчивому приятелю две ручные гранаты. Кроме того, он выпросил у интенданта новенькую портупею (точь-в-точь как у товарища Тито, клянется Джураица Ораяр) и повесил на нее свой огромный револьверище, смахивающий на колотушку, которой бабы бьют белье у ручья.
– Ну вот, теперь я в полной боевой готовности! – Николетина выпятил грудь колесом. – Еще «зброевку» на плечо – и не стыдно будет показаться перед старой госпожой, как мы когда-то называли нашу Мару.
– Неужели с пулеметом к учительнице пойдешь? – изумился Йово Станивук.
– Ну конечно. Пусть поглядит старушка, какого героя она воспитала. Она ведь все акации перед школой оборвала на розги, которыми нас частенько уму-разуму учила. На тех акациях до сих пор, наверное, ветки не выросли, а мы уж вон какими богатырями вымахали.
– Ничего, ничего, еще вырастут, еще для твоих детей пригодятся, – говорит Станивук. – Если в своего папашу пойдут, придется все акации в округе на розги оборвать.
– Эх, брат ты мой, такие, как я, с войны не возвращаются, – невесело ответил Николетина. – Это ты, раскрасавец наш, на развод останешься. Если от всех твоих писем, которые ты девушкам шлешь, какой-нибудь прок будет, ты бы смог целую школу маленьких станивучат наплодить.
– Ой! – воскликнул Джураица Ораяр и, покраснев до ушей, спрятался за мою спину.
Тут же оказалось, что Мара учила и Скендера в Боснийском Петроваце, так что наша делегация увеличилась еще на одного героя. Присоединился к нам и Джураица Ораяр, заявивший, что хочет поглядеть на учительницу, которая учила в школе поэтов.
Так мы и двинулись через город: Николетина, выпятив грудь, шагает впереди со своим пулеметом, за ним – мы со Скендером, как цыплята за наседкой, а в арьергарде семенит Джураица. Должно быть, наша процессия имела вид довольно странный, потому что прохожие останавливались и изумленно смотрели нам вслед.
Когда мы подошли к мосту, нас остановил партизанский патруль из Третьей краинской.
– Куда это вы направляетесь, товарищи? Пропуска у вас есть?
Пока мы со Скендером искали свои пропуска с подписью Косты и печатью Оперативного штаба, Николетина начал объяснять часовому:
– Это наши поэты, Бранко со Скендером, про которых ты, наверное, уже слышал, а про этого мальца еще услышишь.
– Чуешь? – подмигнул я Джураице.
– Так куда же вы направляетесь? – спрашивает часовой, довольный, что ему посчастливилось увидеть живых поэтов.
– Идем к нашей бывшей учительнице, – таинственным шепотом отвечает Николетина.
– Наверное, какая-нибудь усташеская холуйка, и товарищи поэты хотят у нее книги просмотреть, – решил часовой, бросив уважительный взгляд на пулемет Бурсача.
– Вовсе нет. Это наша общая учительница – Скендера, Бранко и моя, – объясняет Николетина, – вот мы и решили ее навестить и поздравить с освобождением города.
– Поздравьте ее и от меня, – попросил часовой. – Она заслужила благодарность за таких учеников.
Когда мы наконец отыскали нужный дом и спросили у одного из жильцов про учительницу, тот испуганно осмотрел нашу делегацию и остановил взгляд на Бурсаче и его грозном оружии.
– Госпожу Мару? – недоверчиво пробормотал он наконец.
– Да, да, госпожу Мару, лично! – подтвердил Николетина, а я вдруг почувствовал, что у меня почему-то начинают дрожать поджилки, как когда-то в школе, когда во дворе во время перемены вдруг раздавался крик: «Учительница идет!»
Из коридора было слышно, как жилец перепуганно говорит:
– К учительнице Маре партизаны пришли, целый отряд со здоровенным таким минометом.
Через минуту он вернулся:
– Сейчас она выйдет к вам.
Взволнованные, мы выстроились в шеренгу, как на смотре, а когда в коридоре раздался знакомый голос, Бурсач громко скомандовал:
– Отделение, смирно! С пулеметом на правый фланг! Равнение направо!
Мара остановилась в дверях, скользнула строгим взглядом по нашему строю и уверенно заключила:
– Бурсач Никола! Нисколько не переменился!
– Ага, его узнала! – воскликнул Скендер. – Ну-ка, а меня?
– А как же, я бы даже твоего отца Селих-бега узнала. Как он, кстати, живет?
Меня она даже по голове погладила.
– Мой маленький Бранко, и ты здесь. Стоит себе смирненько, как и раньше, посмотришь – тише воды, ниже травы, однако на язычок ему лучше не попадайся!
– Вот это верно сказано! – обрадовался Скендер. – Вы его давно раскусили.
Джураицу Мара потянула за длинный чуб и с укоризной покачала головой:
– Тебе, дружок, я бы в школе живо эти вихры обстригла.
Через минуту мы с величайшей осторожностью рассаживаемся в аккуратной комнатке учительницы. По-прежнему робея в присутствии Мары, мы ужасно боимся что-нибудь запачкать или испортить. Это ведь не какая-нибудь усташеская казарма, по которой можно полоснуть очередью или швырнуть гранату – и дело с концом.
Учительница, как когда-то в начальной школе, заглянула к Бурсачу в сумку, вытащила оттуда ленинскую брошюру «О праве наций на самоопределение» и строго спросила:
– А это ты у кого взял? Ты ведь таких книг не читаешь?
Николетина в растерянности отвел взгляд в сторону, понимая, что нет никакого смысла врать всезнающей учительнице.
– Вот, видишь, какое дело, – повернулся он к Скендеру, словно призывая его в свидетели, – это мне Йовица вчера дал почитать.
Пока мы настороженно оглядывали комнату, словно прикидывая, куда бежать в случае опасности, Николетина засунул руку в широченный карман своих штанов и достал пачку сигарет.
– Вот, госпожа учительница, те самые, которые вы раньше курили, нишская «Морава».
«Откуда, черт возьми, у него нишская «Морава»? – Мы со Скендером удивленно вытаращили глаза. – Он же ведь не курит! И как это он только вспомнил, черт носатый».
Старая госпожа вдруг сразу утратила весь свой строгий вид, который наводил страх даже на нас, увешанных оружием краинских молодцов. Держит она в руках эту сине-голубую пачку сигарет, молчит, а на колени капают слезы. Нам стало как-то не по себе, мы даже немного рассердились на Николетину.
– Черт его дернул с этими сигаретами, будь они неладны!
Когда мы в сумерках возвращались назад, Скендер не выдержал и досадливо бросил:
– Нигде ни крошки табаку нет, а у него, некурящего, полная пачка «Моравы», и не какой-нибудь, а настоящей, довоенной. Вот и верь после этого в войсковое товарищество. И откуда только он ее взял, хотел бы я знать?
– У людей чего хочешь можно найти, – с довольным видом гудит Николетина, гордо и широко шагая впереди, словно косарь, который возвращается с поля, неся на плече свое благородное орудие.








