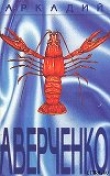Текст книги "Призвание"
Автор книги: Борис Изюмский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА XII
Во время большой перемены Серафима Михайловна на ходу разрешила уйму неотложных дел, – мало ли их можно успеть разрешить, пока стоишь у двери класса или идешь в учительскую.
В коридорах не было крика и толкотни, хотя всюду слышался веселый смех, детские голоса и на каждом шагу встречались оживленные лица.
Дежурные комсомольцы, окруженные малышами – «адъютантами», расхаживали вдоль стен у своих постов.
– Серафима Михайловна, вот в наш ящичек для вопросов бросили, – подошел к учительнице озабоченный Платой Тешев и протянул несколько листков.
Серафима Михайловна пробежала их глазами.
«Почему империалисты хотят, чтобы война была?»
«Почему у стариков ноют кости?»
«Почему Некрасов писал такие грустные стихи?»
«Почему, когда плачут, то слезы соленые?»
«Почему, когда ударишься лбом, из глаз искры сыпятся?»
«Почему собака высовывает язык, когда ей жарко?»
– Ответим! – успокаивающе сказала Серафима Михайловна Платону. – А если мы с тобой затруднимся, – спросим у Бориса Петровича.
– Ответим! – убежденно подтвердил Платон, тряхнув русой головой, и добавил, имея в виду директора. – Он все знает!
Подошел редактор классной газеты Ваня Чижиков с Женей Тешевым.
– Серафима Михайловна, мы шестьдесят книг собрали для школы в Кривых Лучках. Там наш директор учился, когда маленьким был. Ваня Стоянов заметку написал, чтобы в других классах тоже собирали.
– Молодцы! – похвалила учительница. – А это что у тебя? Новая заметка?
– Это Женя Тешев написал: «Я хочу поскорее вырасти и на деле показать, как сильно люблю свою Родину»…
Серафима Михайловна ласково посмотрела на Женю.
– Вот это правильно, – самое лучшее – на деле показать! Ну, а ты что, Платон?
Платон протянул ей портрет стахановца. Над открытым лицом, с немного несимметрично нарисованными глазами, была сделана надпись: «Он уже выполнил пятилетний план».
Портрет всем понравился, а Петр Рубцов предложил:
– Серафима Михайловна, давайте стахановцу письмо напишем!
Но учительница возразила:
– Нам сейчас еще нечем особенно хвалиться, надо сначала улучшить свои дела, а потом написать… У Жени, например, тройка по арифметике.
– Я отвечу на пять! – клятвенно пообещал Женя, прикладывая руку к груди.
– Посмотрим… А Вене ты помогаешь?
– Помогаю, – радуясь, что может сообщить об этом, воскликнул Женя. – Мы утром, как приходим в школу, друг у дружки проверяем: перья есть? промокашки есть? Вчера я перышко сломал, он мне запасное дал.
– Так и должно быть, – одобрила учительница, – мы люди дружные, нас потому никто и не одолеет! Ну, марш, марш отдыхать, – притворно сердитым голосом сказала она, – сейчас у вас иностранный, ведите себя примерно, – и строго поглядела на Плотникова.
Толя кротко потупил взор, но сквозь щелочки приспущенных век глаза поблескивали озорно.
– Товарищи учащиеся, – раздался голос диктора, – говорит радиоузел школы имени Героя Советского Союза Василия Светова. Сегодня мы передаем советы учителя: «Как лучше готовить уроки» и обзор: «Новости школьного спорта»…
* * *
Возвратившись в свой класс после того, как окончился урок иностранного языка, Серафима Михайловна по многим мелочам – безупречной чистоте пола, ровным рядам парт, спокойным лицам детей – безошибочно определила, что урок прошел хорошо. Но вот она нахмурилась. Доска с написанной по-французски фразой «Мы за мир» не была вытерта. Она подошла к доске, взяла тряпку.
– Если дежурному так трудно выполнять свои обязанности, – сухо сказала она, – я за него это сделаю, – и начала медленно вытирать доску.
Подскочил дежуривший Веня Стоянов.
– Серафима Михайловна, я сам! – умоляюще воскликнул он.
На него зашипели со всех сторон:
– Дежурный называется!
– Руку лень поднять!
Под осуждающими взглядами товарищей Стоянов вытер доску.
Особенно возмущался промахом дежурного «завхоз класса» Женя Тешев. Должность эту учредили сами ребята и очень гордились тем, что у них – «свой Савелов».
У Жени в специальном ящичке хранились: стакан для воды, мыло и полотенце. Перед уроками он строго следил, чтобы дежурный протер стекло на столе Серафимы Михайловны и налил чернила в ее чернильный прибор.
В следующую перемену в учительской к Боковой подошла маленькая, белая как лунь, Вера Семеновна.
– Должна вас огорчить, Серафима Михайловна… Ваши пострелята сломали цветок в моем классе.
– Кто? – Бокова сжала губы, и от этого яснее проступили усики над ними.
– Но знаю… Боролись и сломали.
Когда окончился последний урок, Серафима Михайловна задержала класс. Обводя всех суровым взглядом, она опросила:
– Кто из вас сломал цветок в четвертом «В»?
Учительница заметила, что Толя Плотников сидел необычайно смирно, и подумала: «Неужели опять он?»
– Это не мы, – раздался хор голосов.
– Значит, я могу сказать директору, что виновные не в нашем классе? Я не обману его?
Класс молчал. В разных углах его раздавался взволнованный шопот. Петр Рубцов, сидящий за первой партой, с огорчением смотрел на учительницу серьезными глазами.
– Так я пойду к Борису Петровичу, – взяв свой портфель, решительно повернулась Бокова и пошла к двери, – скажу, что мы тут ни при чем!
– Подождите, Серафима Михайловна! – отчаянным голосом закричал Петр Рубцов, словно спасал учительницу от огромной опасности.
Все вскочили.
Серафима Михайловна возвратилась к столу, дети сели. Стоял только Петр Рубцов, потому что учительница осуждающе смотрела на него.
– Зачем же ты это сделал? – спросила она с недоумением.
– Это не я! – мрачно сказал Петр Рубцов. – Я не знаю, почему он сидит и молчит.
– Кто? – невольно вырвалось у Серафимы Михайловны.
– Пусть сам скажет! – гневно глянул через плечо Петр Рубцов и плотно сжал губы. Класс тревожно притаился. Над партой у окна поднялась рука Платона.
– Серафима Михайловна, кто за то, чтобы Петр Рубцов назвал… пусть поднимет руку?
Все тотчас подняли руки. Только Веня Стоянов, подняв ее с большим опозданием, опустил, словно отдернул, и с отчаянием воскликнул:
– Я нечаянно! Я пойду скажу…
– Ну, вот! – с облегчением вздохнул Петр Рубцов и сел.
Серафима Михайловна пожурила виновника. Решили один свой цветок отдать пострадавшим.
Учительница отпустила детей домой, а сама, оставив свой портфель в классе, зашла в школьную библиотеку. Она взяла свежий номер журнала, только что вышедшую книгу «Сын полка» и возвратилась в класс. Ее портфеля и тетрадей там не оказалось. Серафима Михайловна улыбнулась, – она уже знала, где они.
Энергичной походкой Бокова стала спускаться по лестнице. В синем пальто, плотно облегающем ее широкие плечи, с решительной поступью полных, словно выточенных ног, она была величава и по-своему красива. Зимой, осенью и весной Серафима Михайловна носила на шее неизменную бурую горжетку, из-за которой воинственно поглядывала на мир.
Она вышла на улицу. Подумала о своем младшем сыне, недавно уехавшем в артиллерийское училище: «Как Сашенька там?»
На школьном стадионе дети играли в мяч, и звонкие крики их разносились в воздухе. Как только появилась учительница, из-за угла вынырнул подстерегавший ее Толя Плотников. В одной руке он держал портфель Серафимы Михайловны, в другой – тетради, которые она должна была дома проверить. Через плечо Плотникова была переброшена полевая сумка на простой веревке в узлах.
Плотников оглянулся по сторонам и, смущаясь непривычной для него ролью, бочком подошел к учительнице.
– Я ваш портфель понесу, – грубовато объявил он.
Учительница поблагодарила Толю и взяла из его рук тетради.
Неожиданно появились Петр Рубцов и братья Тешевы. Они с завистью поглядывали на счастливца Плотникова.
– Серафима Михайловна, дайте, пожалуйста, тетради я понесу! – попросил Платон.
– Ну, что же, спасибо, – энергичным жестом протянула ему стопку тетрадей учительница.
Забияка Женя подскочил к брату – хотел отнять у него тетради, но Платон, пригнувшись, укрыл их.
– А ты, Платон, дай половину Жене, – посоветовала Серафима Михайловна.
Они поделили тетради – досталось немного и Петру Рубцову; он доволен – не ожидал, что перепадет.
К ним присоединилось еще несколько человек. Теперь дети плотно окружили медленно идущую учительницу. Все вместе они вошли в густой парк, растянувшийся на несколько кварталов. Около могил героев Великой Отечественной войны дети остановились, притихнув, их лица стали серьезными.
На могилах лежали свежие цветы.
– Наши комсомольцы принесли, – прошептал Петр Рубцов Плотникову.
– Мы, дети, не хотим войны и новых жертв, – сказала Серафима Михайловна со скорбью в голосе. Ученики знали, что у нее на войне погиб старший сын – моряк.
Постояв немного у могил, они пошли дальше.
Рядом с детьми Серафима Михайловна чувствовала себя особенно хорошо. Почему-то вспомнилась Рудина: «Поняла ли она, когда была вчера у меня в классе, как важно для учителя управлять коллективом? Надо будет к ней пойти на урок. Когда-то и я была такой… Крылышки у нее еще слабые, но окрепнут… Когда есть дружба – легко работать».
– Серафима Михайловна! – нарушил ее мысли голос Жени Тешева, – а папа гуся купил!
– Да ну!
– Не верите? Когда его зажарят, мы с Платоном вам подарим половину!
– Спасибо большое, – улыбнулась Серафима Михайловна, – съешьте лучше его сами за мое здоровье.
– Нет, мы принесем, принесем, – запрыгал на одной ноге Женя, приложив ладонь к уху так, словно в нем была вода, и он хотел ее вытряхнуть.
– Ты, Женя, сделай лучше мне другой подарок, – попросила учительница.
– Какой? – с готовностью спросил Женя, и длинные черные ресницы его на мгновенье замерли.
– Перестань подсказывать, – с укором посмотрела на него Серафима Михайловна.
Женя смиренно опустил глаза.
– Я вот тебе расскажу о Сталине, – негромко сказала учительница. – Ему было тогда столько же лет, сколько сейчас тебе. Лучше его – товарища не сыскать, но никогда Сосо не подсказывал. Учился вместе с ним беспечный лодырь Петре Адамашвили…
Плотников локтем толкнул Петра Рубцова в бок и, сделав гримасу, прошептал: «Петре». Рубцов молча отодвинулся от Плотникова.
– Петре Адамашвили все норовил шпаргалку получить, списать, за чужой счет прожить. Вот идут экзамены. Впереди Петре сидит Сосо. Адамашвили шопотом умоляет его: «Подскажи!» Сосо отрицательно качает головой. Петре предлагает ему свой широкий пояс, потом красивый перочинный нож, с замечательной ручкой, но Сосо неподкупен. Наконец, он говорит тихо:
– Не могу, Петре, понимаешь, – не могу, потому что тебе добра желаю… Хочу, чтобы жил ты своим умом и у тебя свои знания были…
Учительница умолкла. Несколько секунд молчат и ребята. Прервав паузу, Женя Тешев решительно заявляет:
– Я больше подсказывать не буду!
– Я верю, что ты – хозяин своего слова, – убежденно говорит учительница.
Они продолжают путь.
Толя Плотников, стараясь держаться поближе к учительнице, в разговоре особого участия не принимает, но слушает внимательно. В последнее время он стал учиться старательнее. Правда, еще считал «неудобным» для себя так сразу измениться к лучшему, стеснялся похвал, но по всему чувствовалось, что у него появилась внутренняя потребность быть серьезнее, насколько в состоянии быть серьезным мальчик его лет.
Две недели тому назад он послал собственный кроссворд в «Пионерскую правду». Оттуда ему тактично ответили, что составлять кроссворды – дело хорошее, но надо при этом и грамоте учиться – в послании Толи были ошибки. Он не скрыл от учительницы этого письма, а вскоре, составив новый кроссворд, пришел с ним к Боковой.
– Серафима Михайловна, вот, проверьте… – небрежно, как о деле пустяковом, попросил он.
Учительница удивилась.
– Зачем же нам газету обманывать? Я лучше дам тебе задание, выучишь правила, на которые ты ошибки допустил. Я проверю, как ты правила знаешь, а потом и пошлем кроссворд.
Он неохотно согласился.
…На перекрестке улиц Серафима Михайловна заявила тоном, не терпящим возражений:
– Ну, спасибо, ребятки, здесь мы распрощаемся. Я в поликлинику зайду…
Они стали уверять учительницу, что им тоже надо в поликлинику, Толя даже покачал молочный зуб в подтверждение, но Серафима Михайловна решительно отобрала свой портфель, тетради и приказала идти домой.
…Бокова заняла очередь к терапевту: пошаливало сердце. Да и немудрено, она прожила большую, нелегкую жизнь. С юных лет Серафиме Михайловне пришлось работать, мать-ткачиха умерла рано, только вечерами могла Бокова учиться: готовилась дома по программе гимназии. Потом были педагогические курсы, полуголодные годы, визиты пристава, подозревающего ее в неблагонадежности, запрет учительствовать. И, наконец, Октябрь. Он пришел, как свежий ветер, а сразу стало легко дышать, и поток школьных дел захватил, закружил…
Во время Отечественной войны она уходила от фашистов пешком, с рюкзаком через плечо.
Да, сердце пошаливало…
Она вошла в кабинет.
За столом сидел молодой врач в белом халате и что-то за писывал.
Бокова подошла к столу. Врач поднял глаза и вскочил так стремительно, что стул с шумом отодвинулся.
– Серафима Михайловна, – радостно крикнул он. – Не узнаете?
– Жора… Жора Симаков! – растроганно промолвила она я смутилась, – Георгий… не знаю дальше как…
– Серафима Михайловна, родная, для вас – всегда Жора!
Он усадил ее на стул, не мог оторвать от нее взгляда, и на лице его появилось то выражение восторженности и нежности, какое бывает у школьников, встретивших любимого учителя после долгой разлуки. Она была все такой же, те же полные красивые руки; только появилась седина – словно серебристая сетка наброшена на волосы.
…Кем бы мы ни стали, как бы ни выросли, школьный учитель всегда остается для нас самым близким и дорогим человеком, и среди высоких и святых чувств наших особое место занимает признательность к учителю. Он – первый проводник в жизни, учил складывать буквы в слова, открывал перед нами мир и, даже состарившись, даже умудренные жизнью, мы приходим к своему учителю, как сыновья, при встрече с ним доверчиво раскрываем все лучшее, что есть в нас.
…Они сидели рядом – Серафима Михайловна и Жора Симаков и вспоминали третий класс «А», каким он был четырнадцать лет тому назад.
– Ты на второй парте сидел, – говорила учительница, и ее блестящие черные глаза ласково глядели на него. – Помнишь, ты как-то сказал в классе: «Я дома кошку оперировал».
– А вы мне тогда посоветовали: «Врачом ты стать стремись, а кошек все же не мучай».
– А помнишь, однажды вместо того, чтобы прочитать: «чудо овощи» ты с выражением прочел: «чудовищи!»
– Да, неужто? – расхохотался доктор, – нет, этого я не помню!
Потом он начал рассказывать Серафиме Михайловне о том, чего достиг за эти годы, о своих планах. Это было обычное для учеников, долго не видевших своего учителя, подсознательное желание заверить его: «Вы не ошиблись в своем ученике, ваш труд не пропал даром».
Из поликлиники Серафима Михайловна вышла помолодевшей.
«Вот и лекарство получила! Какие, мы счастливцы, что можем видеть плоды своего труда!»
Она опять вспомнила Анну Васильевну. Та сетовала: «Работаю, а неясно – чего же добилась?»
«Увидишь и ты!» – мысленно пообещала ей сейчас Бокова.
Девушка была строга к себе, не прощала ни малейшей оплошности, и вчера исповедовалась перед Серафимой Михайловной: «Я когда писала на доске, загораживала ее собою. Поздно спохватилась… А в конце урока повысила голос из-за пустяка. Наверно, на мегеру походила».
«Зачем же так строго, – подумала Серафима Михайловна, и на ее широком загорелом лице появилось то выражение доброты, которое так любили в ней все, кто ее знал. – Нет. Анечка, ты подаешь неплохие… надежды. Вот, пожалуйста, завела на каждого ученика „лицевые счета“».
Она улыбнулась, вспомнив, как на последнем уроке Рудина в классе повторила присказку Бориса Петровича: «Правило без примера, что суп без соли».
«Надо ее предостеречь, чтобы попустому не тратила силы: при повторении в старшем классе можно иногда позволить себе сидеть; голос обязательно экономить: если негромко говоришь, то даже шопот в классе кажется вопиющим нарушением порядка».
Серафима Михайловна остановилась у крыльца своего дома, достала ключ и открыла дверь. Муж недавно возвратился из командировки и был сегодня дома. Он встретил ее радостным возгласом:
– Симочка, от Саши письмо!
– Где? – живо спросила она и, не присев, жадно начала читать письмо.
* * *
После уроков у Бориса Петровича и Якова Яковлевича бывал напряженный час «пик»: приходили родители, учителя, разбирались дела, заседал комитет комсомола и учком.
Сегодня этот час начался с неприятности. В кабинет Бориса Петровича ворвалась мать ученика шестого класса Альфреда Гузикова, похожая на оплывшую свечу, женщина лет сорока пяти. Свое чадо она тащила за руку. Еще у двери Гузикова начала кричать истерическим голосом:
– Это школа? Да? Это школа? Вот полюбуйтесь, полюбуйтесь! – трагическим жестом она указала на сына.
Под левым глазом Альфреда красовался изрядный синяк. Борис Петрович спокойно выжидал спада истерической волны. Тот, кто плохо знал Волина, мог решить, что он всегда невозмутим, так умел он владеть своими нервами и мимикой. Только иногда его выдавала лихорадочно пульсирующая жилка у виска. И лишь дома знали, чего ему стоила эта сдержанность, – вечерами после таких происшествий разыгрывалась невралгия.
Гузикова, видимо, не собиралась останавливаться. Она говорила так быстро, что, казалось, слово наскакивает на слово, а все они сливаются в булькающий поток.
– Учителям тысячи платят, они обязаны… А они ничего не делают… Ни за что двойки ставят. У них любимчики… Читали в газете статью? Формализм! Нет подхода!.. Альфред – золотой ребенок… А у вас пионервожатая, девчонка, назвала его лодырем… Я буду жаловаться в гороно!
«Золотой ребенок» не прочь был бы подпевать маме, но под суровым взглядом Бориса Петровича благоразумно помалкивал.
«Полюбуйтесь, – защитница Эдика Ч.», – подумал Борис Петрович и, не выдержав, гневно потребовал:
– Перестаньте!
Гневный голос его, если и не привел Гузикову в чувство, то, по крайней мере, заставил ее умолкнуть.
– Постыдились бы отзываться так о людях, отдающих свое здоровье и знания вашим детям… Кто это тебе синяк набил? – спросил Волин, повернувшись к мальчику, и прищурил, словно прицеливаясь, левый глаз.
– Ко-о-тька Бударов, – начал притворно хныкать Альфред, прижимаясь к сочувственно пододвинувшейся матери.
Борис Петрович открыл дверь в коридор и попросил вызвать с репетиции хора Костю Бударова.
– О каких несправедливо выставленных двойках вы говорили? – спросил он мать ученика.
– А как же! – оживилась она. – Ни разу ребенка по русскому не спрашивали и двойки в дневник поставили. К нему придираются, а у него сложная психика. Альфред очень способный ребенок…
– Это вам Альфред объяснил насчет двоек? – невесело усмехнулся Волин.
Он достал из стопки тетрадей одну, где делал свои отметки, и начал ее внимательно рассматривать.
– Ты двадцать первого правило не выучил? – обратился он к Альфреду.
– Не выучил, – покорно опустил голову тот, понимая, что отступать некуда.
– А двадцать шестого диктант плохо написал?
– Плохо, – еще тише ответил мальчик.
– А двадцать восьмого домашнюю работу не сделал?
– Не успел… – прошептал Гузиков, пряча глаза от матери.
– Альфред! – с воплем всплеснула она руками. – Ты мне лгал? За что же я купила тебе велосипед? Альфред!
– Слушай, парень, – нахмурился Борис Петрович, – совесть-то у тебя есть?
В это время в кабинет вошел крохотный Костя Бударов и, поглядывая исподлобья, выжидающе остановился у двери. Он был щедро разукрашен синяками, но, видно, не собирался никому жаловаться.
– Поглядите на этого «тирана!» – обратился Борис Петрович к Гузиковой.
Альфред стыдливо потупился.
ГЛАВА XIII
Леонид Богатырьков возвратился домой в четыре часа дня. Неторопливо разделся, положил портфель на свой стол и заглянул в соседнюю комнату. Там сестра, старательно склонившись над тетрадью, немилосердно грызла ручку; светлые косички перекатывались у нее по спине.
– Ленечка, – увидя брата, вскочила Тая, – у меня задачка не получается, – решаю, решаю, никак не выходит. Хоть умри!
Она умоляюще посмотрела на Леонида и в ожидании слегка вытянула вперед пухлый подбородок.
Леонид подсел к столу, не спеша прочитал условие задачи, подумал: «И мы в шестом классе эту решали», заглянул в тетрадь сестры и осуждающе сказал:
– Ход решения у тебя правильный, а вычисляешь невнимательно… торопишься.
– Я уже час вычисляю! – с отчаянием воскликнула Тая, но покорно села на стул, – знала, что иной помощи от брата не дождешься. И мама вот такая же, говорит: «Сама думай!» А если не надумаешь – покажет, но зато еще две задачи даст… Другой раз и не захочешь, чтобы за тебя решала.
Тая вздохнула и с силой опустила перо в чернильницу. На балконе промяукала кошка. «Дать ей хлеба? Нет, – потом, а то Леня опять скажет: „рассеиваешься“». Запахло паленым.
– Леня, что-то горит, – потянув маленьким носом, озабоченно сказала Тая.
– Ты знай работай! – добродушно посоветовал брат. – Я сам разберусь, горит или не горит…
Он вышел в коридор. Оказалось – соседский мальчишка жег резину.
Леонид принес со двора воды, наколол дров на завтра и, умывшись, сказал сестре:
– Пойду за Глебкой в детский сад.
Он выбрал самый ближний путь: через стадион, трамвайное полотно и строительную площадку.
«С Афанасьевым попрошу поговорить Костю. Он его так проберет, что Игорю не захочется больше драться», – думал Леонид, лавируя между штабелей досок. «В таких случаях сильнее всего действует общественное мнение… Но, с другой стороны, Анна Васильевна просила и помочь ему в учебе… Он начал отставать».
Путь преградила глубокая канава, Богатырьков легко перескочил через нее.
«А жаль со школой расставаться. Конечно, и на заводе появятся друзья, – Леонид решил по окончании школы поступить на завод, – и будет очень интересно, но здесь все так знакомо и дорого… Как хорошо Пушкин сказал: „От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам“».
Богатырьков вошёл во двор детского сада. Двор был широкий, с клумбами и горками чистого песку.
Глебка сидел на скамейке у веранды и увлеченно беседовал со своим другом Тодиком, таким же, как он, мальчиком лет шести, курчавым, как барашек.
Леонид подошел, к ним незамеченный.
– У меня кашлюк был, – с гордостью сообщил в это время Тодик, несколько свысока глядя на своего друга, – а у тебя?
– Не было, – виновато признался Глебка, – у дади Степы был, – стал фантазировать он, но тотчас спохватился, – нет, то у него пендицит был… – У Глебки совершенно белые волосы и губы такие полные, словно он постоянно немного обижен.
Увидя старшего брата, Глебка ринулся к нему:
– Ленчик! Ленчик!
По дороге домой он болтал безумолку:
– А Тодик говорит: «Уменя папа директор театра», а я говорю: «А у нас мама новые машины выпускает. Самые, самые новые! Две нормы делает». Ленчик, я когда вырасту, тоже буду два нормы делать…
– Ну, еще бы! – добро усмехается Леонид. – Конечно, будешь.
Рядом с Глебкой он выглядит еще взрослее. Спортивная байковая куртка с широким поясом делает его плотнее, кряжистее.
Крепко держа брата за руку, Леонид идет, стараясь соразмерить свои шаги с его маленькими и быстрыми, – но это ему не удается.
– Ты сегодня самолетик мне сделаешь? – деловито осведомляется малыш, снизу вверх поглядывая, на брата.
– Сделаю завтра, – баском отвечает тот.
– С мотором? – допытывается мальчик и ногой подбивает спичечную коробку.
– По специальному заказу, – улыбается Леонид, – Завтра и к папе пойдем.
Василий Васильевич Богатырьков вторую неделю лежит в больнице.
В прошлое воскресенье Леонид пришел в палату позднее всех. Отец лежал возле окна и читал книгу. У Леонида сжалось сердце при взгляде на его лицо, измученное болью, с комками морщинок у сухих уголков рта.
– Пришел, сынок! – обрадовался отец. – Мама говорила, что ты запоздаешь… Ну, как ваш воскресник?
Леонид неторопливо пододвинул стул к кровати, положил на тумбочку какой-то сверток.
– Сто десять деревьев посадили! – И с тревогой в голосе спросил: – Больно, папа?
– Да, что ж душой кривить, больновато, – признался отец. – Врачи говорят нежно: «камешки в почке», а мне кажется – булыжники ворочаются.
Он добродушно рассмеялся и положил шершавую ладонь на руку сына.
В палату вошла сестра. Она ходила между коек так осторожно, будто ступала босыми ногами по острым камням.
Где-то близко прозвонил на обед колокол, в окно Леониду видно было, как из машины выгружали фрукты.
– Как у вас с Балашовым? – спросил отец и поправил подушку. Ты бы как-нибудь привел его к нам домой…
Леониду очень приятна была и эта заинтересованность отца школьными делами, и его всегдашняя готовность помочь ему, и то, что разговаривал с ним отец, как с равным.
Но сейчас, в больничной обстановке, ему не хотелось говорить о школе – это казалось здесь неуместным.
– Мама собирается зайти к Балашовым, – сдержанно ответил он. – а Борис бывает у меня…
Он умолк и, ласково глядя на отца, стал неловко раскрывать сверток на тумбочке.
– Я вот тебе принес… – сказал он смущенно, поставив банку любимых отцом маринованных огурцов. Леонид разыскал их в магазине на другом конце города.
– Э, родной, вот этого-то мне как раз и нельзя! – с сожалением воскликнул отец и даже вздохнул. – Жалость-то какая, нельзя!
Леонид огорченно поглядел на банку и решительно завернул ее снова в бумагу.
– А ко мне вчера товарищи приходили, – сказал Василий Васильевич, и лицо его просветлело. – Наш цех на второе место вышел по заводу… Знаешь, как радостно?
От недавнего укола атропина зрачки его расширились и возбужденно блестели, он устало откинул голову на подушку. Палатная сестра издали посмотрела на Леонида, и тот, поняв, что пора уходить, встал.
– Ты за Таей приглядывай, – попросил отец, слабо пожимая руку Леонида, – ей усидчивости нехватает. Пусть она чаще вслух читает, с выражением…
…Сейчас, идя с Глебкой, Леонид вспомнил этот разговор с отцом и беспокойно подумал о сестре: «решила ли?»
Потом мысли его невольно возвратились к Балашову и товарищам. «Конечно, Костя прямее, душевнее Бориса, а Виктор скромнее и внутренне гораздо богаче его, но и Борис хороший парень, я в этом убежден; надо только, чтобы рядом с ним были добрые друзья».
Дома Леонида и Глебку уже ждала мать – Ксения Петровна. Она подогревала обед, и в кухне вкусно пахло жареным луком. На раскаленной плите клокотал и побулькивал суп.
– А, Богатырьковы прибыли! – увидя сыновей, радостно блеснула молодыми глазами быстрая в движениях и речи Ксения Петровна. – Тая, накрывай на стол! Мойте руки! – и, отбросив со лба прядь светлых волос, стала энергично скрести ножом кухонный стол.
Девочка с гордостью посмотрела на Леонида, и он, не спрашивая, понял, что задача решена.
Вчетвером они сели за стол. На матери было синее, в белую крапинку, платье, дети его особенно любили.
– Главному помощнику! – протянула Ксения Петровна Леониду тарелку супу, ласково улыбаясь круглым, с ямочками на щеках, лицом.
Глебка, вооружившись ложкой, терпеливо ждал своей очереди.
– Мамуня, – спросила Тая, поднимая на мать такие же голубые, как у нее, глаза, – Машу в комсомол приняли?
Богатырькова работала на заводе контролером, а помощницей у нее была молоденькая Маша Плетенцова, частая гостья в их семье и любимица Таи.
– Нет еще – готовится, – ответила мать и испытующе посмотрела на дочь, – да и тебе об этом пора подумать.
Девочка радостно вспыхнула.
– Мне только через три месяца можно будет…
После обеда Леонид ушел к себе заниматься. Тая, вымыв посуду, отправилась к подруге, в квартиру через коридор, а Ксения Петровна, поставив на стол швейную машину, склонилась над шпулькой.
– Мама, – обнял ее за шею Глебка, – а ты обещала рассказать, как Сталина видела.
– Раз обещано, значит, закон, – улыбнулась мать и немного отодвинула машину. – Ну, садись рядком, потолкуем ладком. – Глебка с готовностью подтащил свой стул к стулу матери, коленками уперся в ее колени и приготовился слушать.
– А дело было так… Приехали мы в Москву, рабочие с разных заводов, поговорить, посоветоваться, как еще лучше работать… И застал нас в Москве праздник майский. Пошли мы с утра на Красную площадь. Поглядел бы ты, что там было! Знамена, народ – вся Москва!
И как на беду – дождь. Да такой сильный! Так думаешь, кто-нибудь ушел? Ни один человек! Все идут, идут мимо трибуны. Ждут, вот-вот родной наш Сталин появится.
А дождь поутих и кое-где над площадью уже голубое небо проглянуло. Мы в это время как раз проходили мимо мавзолея, смотрим – Сталин!
Глебка сидел, затаив дыхание, устремив на мать горящие глаза.
– Рукой помахал, и каждому кажется – это ему привет… И будто солнышко засияло!
Свет лампы падал на сблизившиеся головы матери и сына. Было очень тихо. Пел свою песенку счетчик у окна. Из-за стены едва слышно доносились звуки пианино.
Леня у себя в комнате захлопнул книгу и начал негромко декламировать.
* * *
Костя, которому Богатырьков поручил «пробрать, как следует Афанасьева за драку», приступил к делу с присущей ему решительностью.
Разыскав в коридоре Игоря, он кратко сказал ему:
– После шестого задержись. Будет крупный разговор.
Сначала все шло так, как предполагал Рамков: он с Игорем отправился домой, путь их лежал через сад, и никто им не мешал. Костя, заранее продумавший, о чем он будет говорить, начал строго:
– Ты почему затеял драку?
В этом месте Игорь должен был оправдываться, а Костя – обрушиться на него со всей силой общественного гнева.
Но Игорь тихо сказал:
– Костя, я тебя очень уважаю…
У него дрогнул голос.
– Но ты пойми… если бы… о твоем отце… что он последний человек, и такая гадость, что дальше некуда…
– Во всяком случае, – не отказываясь от обвинительного тона, продолжал Костя, – я бы не дрался, а обратился к организации…
– Не могу… – еще тише, через силу сказал Игорь я опустил голову так низко, словно ее прижимал кто-то к его груди.
– … мой отец… правда такой… Он бросил нас…
Игорь начал рассказывать и не смог, зажал рот рукой, не давая вырваться рыданьям.
Горе товарища было таким огромным, так охватило все его существо, что Костя растерянно забормотал:
– Ну, что ты, что ты… Брось, – он стиснул хрупкие плечи мальчика, – мы тебе поможем. Вот чудак, да брось же!
Игорь, наконец, овладел собой и поднял голову.
– Я только тебе, Костя… Ничего, мы и сами… С мамой…
– Я понимаю… Я вот поговорю с Леней, с ребятами. Ну, тюка! Выше голову, гвардия! Вот так!
* * *
Девятиклассники Костя, Сема, Виктор и Борис договорились придти к Богатырькову под выходной день.
Юноши любили собираться в большой, просторной комнате Леонида. Им нравилось и спокойное гостеприимство хозяина, и то, что мать Леонида тактично не заходила в комнату сына, когда там находились его друзья, и то, что они могли свободно говорить обо всем и чувствовать себя непринужденно.