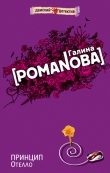Текст книги "Виктор Вавич (Книга 1)"
Автор книги: Борис Житков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Васильев напряженно дышал. В квартире певучим басом часы пробили одиннадцать.
"C'est la que je voudrais vi-i-vre!"* – пела Таня в пустой столовой.
–
* Там я и хотела бы жить! (фр.)
Наденька сорвалась к двери.
– Нельзя ли потише! Тут занимаются.
Филипп переписал без одной ошибки, без одной помарки, только еще гуще обросли строчки завитками, крючками...
Наденька проверяла, а Филипп вцепился глазами, не дышал, ждал.
Наденька положила тетрадку.
– А что? – сказал Филипп и выпустил дух. Покраснел, улыбнулся задорно. – Взяться надо уметь, – и хлопнул по тетрадке.
Наденька подхватила чернильницу, но было поздно: чернила потекли на адвокатский стол. Но Филипп мигом вырвал из тетрадки лист и погнал переплетом на бумагу чернильную лужу. Выплеснул в пальму. Выскочил в двери, и Наденька слыхала, как он командовал в кухне:
– Да чистую, чистую тряпку давай, что ты мне портянку тычешь.
Он вернулся с мокрым носовым платком.
Чуть заметное темное пятно осталось на зеленом сукне – Филипп присыпал его золой.
Старуха топталась около с чайником.
– А ну, газету какую-нибудь, живо! – гаркнул Филипп. Старуха и Наденька кинулись в двери. Филипп сгреб золу на газету, сунул, не глядя, Наденьке в руки. Мокрое пятно темнело на сукне стола.
– Высохнет и будет, как было, – сказал Филипп и осторожно погладил сукно.
Он уж снова сидел, придвинувшись вплотную к столу.
– "Яти" – это без привычки только, а делом взяться... Наденька не сразу нашла прежний голос. Когда Филипп встал, чтоб уходить, Наденьке стало жаль, и она уже в третий раз повторила:
– Грамматику вы оставьте, не учите, главное – зрительная память, глазная память, – и Наденька поднимала палец к глазам; Филипп мигал несколько раз в ответ.
Наденька пошла проститься с Таней. Но Таню она не узнала. На Тане было неуклюжее бумазейное платье, волосы были зализаны назад и мокрой шишкой торчали на затылке. Толстые линючие чулки на ногах и стоптанные ботинки. Грустной птицей глянула Таня на Наденьку.
– Это что еще за маскарад? – спросила Наденька, она натягивала перчатку в прихожей. Таня чуть повела губами в ответ и прошла, волоча ноги, в гостиную.
Вечером дома Наденька думала, как там, в знакомой ей комнате, сидит Филипп и решает те задачи, что отчеркнула ему в Евтушевском Наденька. Ей захотелось пойти туда, ходить по комнате, и чтоб он спрашивал. Наденька ясно видела стриженый затылок и Филиппову руку с искалеченным ногтем на большом пальце.
Бородач
– ЧТО, начал? – сказал себе под нос служитель, когда на третий день он уносил пустую кружку из камеры Башкина.
Башкин стоял лицом к забитому окну, засунув зябкие руки в карманы пальто. Башкин чуть не заплакал с обиды. Он шагнул в дальний угол камеры, где он пуговицей от пальто ставил черточки на стене... Он отмечал дни. Приносили утренний паек, и Башкин ставил пуговицей метку. Он отметил место, где должна прийтись пятая метка, и здесь поставил крест. Это значило, что на пятый день он должен умереть от голода. Он любил этот угол, он ходил по камере и посматривал на этот крест, и тогда слезы удовлетворенной обиды тепло подступали к горлу. Придут, а он вытянулся посреди пола. Гордый труп. Будут знать.
Теперь это пропало. Башкин сам не заметил, как, шагнув мимо кружки, он ущипнул кусочек – самую маленькую крошку черного хлеба. Потом подровнял, чтоб было незаметно... Тупое отчаяние село внутри тяжелым комом, как будто подавилась душа.
Башкин сел на табурет, поставил локти на стол и крепко зажал ладонями уши. Смотреть на пометки в углу теперь нельзя – крест корил и мучил. Башкин сидел, и холодным ветром выла тоска внутри.
Вдруг он услышал ключ в замке, отнял руки, испуганно оглянулся. Надзиратель распахнул дверь и крикнул с порога:
– Выходи!
Башкин все глядел испуганно.
– Выходи, говорят, – и надзиратель резко мотнул головой в коридор.
Башкин запахнул пальто, сорвался к двери.
Другой служитель уж подталкивал его в поясницу, приговаривал:
– Пошел, пошел, жива!.. Направо, направо, пошел, на лестницу!
У Башкина колотилось сердце и запал, куда-то провалился дух. Он шагал через две ступеньки.
Опять коридор, служитель быстро из-за спины открыл дверь. Парадная лестница с ковром и на площадке трюмо во всю стену: Башкин мутно, как на чужого, глядел на свою длинную фигуру в стекле.
– Стой, – сказал служитель и толкнул трюмо.
Трюмо повернулось, открыло вход, служитель за плечо повернул Башкина и толкнул вперед. Башкин слышал, как щелкнула сзади дверь. Служитель уж толкал его в поясницу. Они шли по паркетному натертому полу, по широкому коридору.
– Пальто снимите. Шапку тоже, – Башкин был в парадной прихожей. Два жандарма сухими, колкими глазами оглядывали его. Служитель ушел. Башкин коротко и редко дышал. Колени неверно гнулись, когда пробовал ступать. Он опустился на деревянный полированный диван, что стоял у стены.
– Встаньте, тута вахтера место, – сказал жандарм. Башкин дернулся, вскочил, в голове завертелось, он ухватился за косяк дверей.
– Проси, – сказал из коридора круглый мелодичный тенор.
– Пожалуйте, – сказал нарочито громко жандарм и зазвенел шпорами впереди Башкина. Он отворил дверь и, цокнув шпорами, стал, пропуская вперед Башкина.
Огромный кабинет, высокие окна, ковер во весь пол, мягкие кресла. У стола стоял жандармский офицер, гладко выбритый, с мягкими русыми усиками. Он приветливо улыбался, как почтительный хозяин.
– А! Господин Башкин! Семен... Петрович? Очень рад. Присаживайтесь.
Офицер маленькой холеной ручкой указал на ковровое кресло у стола. Томно звякнули шпоры.
Башкин поклонился, шатнувшись на ходу вперед, и опустился, плюхнулся в низкое кресло. Он тяжело дышал. Он взглядывал на офицера, будто всхлипывая глазами, и снова упирался взглядом в ковер.
– Плохо себя чувствуете? – спросил учтиво и ласково офицер. – А мы сейчас скажем, пусть нам чаю дадут, – и он нажал кнопку на столе. Мельхиоровую фигурчатую кнопку.
– Подай нам сюда чаю, – приказал офицер, когда цокнул шпорами в дверях жандарм.
Офицер уселся в кресло, за письменный стол. Башкин мутными глазами водил по малахитовому письменному прибору, по белой руке с перстнем. Перстень был массивный, он, казалось, отягощал миниатюрную ручку.
– Что, там так скверно? – спросил офицер участливо. – Но все это, вероятно, недоразумение. Мы сейчас с вами это попытаемся выяснить.
– Да, да, недоразумение, – потянулся к офицеру Башкин. – Совершенно ничего нет, я не понимаю.
– Поставь сюда, – сказал офицер жандарму и очистил место на столе перед Башкиным. Дымился горячий чай, блестели поднос и серебряные подстаканники. – Видите ли, недоразу-мений сейчас множество. И во все эти дела впутывают огромное количество совершенно непричастного народа. Вы себе не представляете, какое количество. Что ж вы чаю-то – простынет.
Башкин кивал головой, слабой, взлохмаченной.
– Вы войдите в наше положение, – продолжал офицер, придвигая свой стакан. – Нам приходится разбираться... Вы не социалист? Простите, я не настаиваю. Но я сам отчасти разделяю эти взгляды. Вас это, может быть, удивляет. Что ж вы сахару?
– Нет, почему же, – бормотал Башкин, силясь ухватить серебряными щипчиками кусок сахару.
– Правда, вы можете понять это; ведь вы философ. Да-да! Простите, я по службе должен был познакомиться со многими вашими мыслями.
Башкин покраснел. Он чувствовал, как кровь шумит в ушах и горит лицо все больше и больше.
– Вы простите, вы этого, может быть, не хотели, но меня многие ваши суждения поразили глубиной их смысла. Вы не курите? – Офицер поднес Башкину широкий серебряный портсигар. – Так, видите ли, сейчас так много просто беспокойных людей, просто такой молодежи, которая особенно тяжело переживает свой возраст, когда людям надо перебеситься. Конечно, всякому вольно сходить с ума по своему вкусу. Не правда ли?
Офицер дружески улыбнулся. Башкин поспешно закивал головой.
– Да, так извольте беситься за свой счет. И ведь из этих молодых людей потом выходят отличные прокуроры, профессора, врачи, чиновники... Да-с. Ну, а зачем же за ваш темперамент должны отвечать другие? Вы не понимаете, о чем я говорю?
Башкин во все глаза глядел на офицера, прижав стакан к груди.
– Я говорю про то простонародье, которое является каким-то страдающим материалом для упражнений... я сказал бы – выходок. Помилуйте, из господ! Образованный! Студент! Как же не верить? И он верит, а наш Робеспьер сыплет и сыплет. И семейный бородач начинает проделывать Прудона от самого чистого сердца. И бородач попадает в Туруханск,– а куда ж его деть-то, коли ему мозги повредили, – а студент уж, гляди, с кокардой ходит. Женился и безмятежно получает чины и казенное жалование. И вспоминает за стаканом вина грехи молодости. А бородач... Ведь вы представляете себе, что происходит?
Тут офицер глубокомысленно взглянул на Башкина, и даже несколько строго, и помешал ложечкой в звонком стакане.
– Да-с. А на бородача плевать, со всем его вихрастым потомством, со всеми Ваньками и Марфутками. – Офицер грустно помолчал, глядя в стол. – Так надо же кому-нибудь о нем подумать, об этом простонародье, а не играть русским открытым, доверчивым сердцем. Не чудесить судьбой серьезных и честных людей. Бейте лучше зеркала в кабаках, коли уж так там у вас силы взыграли. Нас вот ругают наши демократы доморощенные, а поверьте мне, что мы-то, презренные жандармы, пожалуй, ближе чувствуем... Гм... да. Так вот, что вы мне на все это скажете, Семен... простите... да, да, Петрович! Так вот, Семен Петрович... – Офицер встал из-за стола и прошелся по ковру. И опять томно позванивали его шпоры.
– Да, да, – говорил Башкин, – я во многом отчасти согласен с вами. Башкин умным взглядом вскидывался на офицера. Ему так приятно было видеть дневной свет, так хорошо было в чистой комнате, мягкое кресло, чистый стакан, и по-настоящему с ним говорит этот офицер, которого боятся эти жандармы, что толкаются, рычат на Башкина. Ему казалось, что вот, наконец, его освободил от дикарей, из плена сильный и культурный европееец. И все эти три дня показались Башкину диким сном, как будто он случайно провалился в яму, а теперь вышел на свет. Конечно, те дураки ничего не понимают и шпыняют его, будто он разбойник с большой дороги. – Да, да, я все понимаю, во многом, – говорил Башкин, благодарно кивая головой.
Он даже приободрился и откинулся слегка на спинку кресла.
– Я так и надеялся, что вы меня поймете. Поэтому я так откровенно с вами и говорил. Да, так вот, о Марфутках. Кому-нибудь же надо об них думать. Надо ведь кому-нибудь это дело делать. Но делать его с плеча нельзя. Вы согласны?
Башкин мотнул головой.
– Ну вот видите. А то вот получаются такие истории вроде вашей. Чего ж тут хорошего? И тут надо разбираться в каждом индивидуальном случае... И разбираться раньше чем действовать. Нет, вы не спорите?
– Нет, нет. Совершенно верно. – Башкин допил последний глоток холодного уже чая и осторожно поставил стакан на блестящий поднос.
– Так вот, мы одни не можем. – Офицер остановился, слегка наклонясь к Башкину. – Одни мы не можем, – повторил офицер вполголоса и поглядел Башкину в глаза. – Здесь нужен тонкий человек. И вы – вы психолог. Вы тонкий психолог. Я с такой радостью это заметил, читая ваш журнал. Да, да, это совсем не комплимент, это правда. Я много видел людей...
В это время на стене резко позвонил телефон.
– Простите! – И офицер взял трубку. – Так... так, – говорил офицер в телефон, – очень, очень симпатичное впечатление. Слушаю, ваше превосходительство. Сию, сию минуту иду... Вы меня простите, на несколько минут. Жаль, мне так интересно с вами, – и он заторопился к дверям.
Башкин остался один. Он глотнул последние сладкие опивки из своего стакана. Он так радовался, что спокойно можно сидеть в этом кабинете, что тут его не посмеют тронуть те, особенно после того, как офицер так с ним говорил, как с человеком, равным по положению. По-человечески говорил. Дверь отворилась. Башкин оглянулся, улыбаясь для встречи. Жандарм, сощурясь, глядел из полутемного коридора. Башкин нахмурился.
– Вы здесь чего же? – спросил жандарм с порога.
– А вот я жду господина офицера. – сказал Башкин и отвернулся к окнам.
– Пожалуйте сюда! – приказал жандарм. – Выходите! Башкин оглянулся.
– Ну! – крикнул жандарм и решительно мотнул головой в коридор.
– Так я же говорил... – начал Башкин, шагнув к жандарму.
– Выходите, выходите, живо, – жандарм нетерпеливо показал рукой. Марш.
Башкин вышел в коридор.
– Одевайтесь! – жандарм толкал его к вешалке.
Тот же служитель, что привел его из казармы, ждал в передней. И опять Башкин почувствовал у поясницы жесткую руку и без остановки зашагал впереди служителя. Он опомнился только, когда узнал подвальный коридор.
"Он вернется, а меня нет, им достанется", – думал Башкин, сидя на своей койке. Лампочка мутно краснела сверху.
Утром принесли один только кипяток. Хлеба не было.
– Вы хлеб забыли дать...
Служитель шагнул к двери, не оборачиваясь.
– Хлеб, я говорю... не доставили, наверно, сегодня, – сказал ласково Башкин.
– А ты что, дрова, что ли, колол, чтобы тебя кормить, – пробурчал служитель, запирая дверь.
В обед принесли краюху хлеба: кинули на стол.
Башкин с койки глядел из прищуренных глаз: путь думают, что спит.
Булавка
ТАНЯ проснулась рано. Белые шторы рдели от раннего солнца, и мухи звонко жужжали в тихой комнате. Таня вскочила, отдернула штору и зажмурилась, опустила глаза и увидала – зарозовела ее кружевная рубашка, стала легкой, сквозистой. Таня сунула на солнце голые руки, поворачивала, купала в теплом розовом свете. Таня погладила свою руку, чтоб натереть ее этим прозрачным розовым светом. Рука еще млела сонным теплом. Снизу дворник крякнул и зашаркал метлой по мостовой. Таня отдернула штору. Она мылась и не могла перестать полоскаться в фарфоровой чашке, и все поглядывала на свое отражение – нежное и легкое в полированном мраморе умывальника.
Потом стала сосредоточенно одевать себя, бережно, не спеша. Она приколола свою любимую брошку на лифчик – брошка круглым шаром светила на белом лифе. Под платьем не будет видно.
"А я буду знать", – думала Таня. И сделалось жутко: приятно и стыдно.
В зеркало Таня ни разу не взглянула и причесывалась наизусть.
На Тане была черная шелковая блузка. Красные пуговки с ободком, как жестокие капли крови, шли вниз от треугольного выреза на шее. Таня поглядела на красные пуговки, потрогала жесткую брошку под платьем, вздохнула, подняв грудь, и так остался вздох. Таня пошла в столовую, пошла легко и стройно, как никогда не ходила, и было приятно, что глянцево холодит шелковое белье и скользит у колен шелковая юбка. Она строгими руками достала посуду из буфета и поставила на спиртовку кофейник. Достала французскую книгу и посадила себя в кресло. Она держала книгу изящным жестом и, слегка нахмурясь, глядела на строчки и на свой розовый длинный ноготь на большом пальце. Таня щурилась и сама чувствовала, как тлеют под ресницами глаза. Теперь она пила кофе за маленьким столиком. Она красиво расставила посуду и старалась не хрустеть громко засохшим печеньем.
Город просыпался. За окном стукали по панели поспешные деловые каблуки, и первая конка пробренчала: открыла день.
Таня встала. Она чувствовала, как будто упругие стрелы выходят из нее, напряженные и острые. Казалось, не пройти в узком месте. Строгие и пронзительные, и стали вокруг нее, как крылья. Надела шляпу, жакетку, обтянула руки тугими перчатками, как будто спрятала в футляр красивые ногти, и боком глянула в зеркало, – не надо было: она изнутри лучше видела, какая она во всех поворотах. Она знала, что каждый день, каждое утро ей был подарок. Она не могла оставаться дома, – надо было куда-то нести все, в чем она была, и она протиснулась в дверь и осторожно прихлопнула французский замок. Дворник скручивал махорку, с метлой на локте. Просыпал махорку, чтобы сдернуть шапку.
– Добро утро.
Таня медленно, сосредоточенно наклонила голову. Она совершенно не знала, куда шла. Об этом она и не думала. Лакированные каблучки звонко стучали по пустой панели. Трое мастеровых, жмурясь на солнце, высматривали конку. Таня подошла и стала ждать вагона. Мастеровые прервали разговор и глядели на Таню.
Конка, бренча, подкатила и стала – летний открытый вагон с поперечными лавками.
Проехав мастеровых, конка стала перед Таней, будто подали карету. Таня прямо поднялась на ступеньку к той лавке, что пришлась против нее, ступила, не ища места, не глядя по сторонам. И студент, что сидел с краю, рывком отъехал вбок, как будто занял ее место и спешит отдать. Конка тронулась. Заспанные люди, плотно запахнувшись, везли еще ночную теплоту и покорно болтались на лавках, мягко толкались на поворотах; теперь они тупо моргали веками на красивую, строгую барышню. Другие и вовсе проснулись и сели вполоборота, чтоб лучше видеть. Санька Тиктин только раз глянул на свою соседку и потом только краем глаза чувствовал ее профиль.
А Таня напряженно глядела перед собой на мостовую в зябком прозрачном осеннем солнце. Санькино плечо прижалось к ее руке, – он берег это прикосновение, чувствовал его, как теплое пятно на своей руке. Конку встряхивало, они сталкивались плотней, отскакивали, но Санька снова восстанавливал это прикосновение.
"Вот настоящая; бывает, значит, настоящее", – с испугом думал Санька. И он думал, что бы он мог такой вот сказать, и не было о чем, и не было слов на уме. Такие не говорят, такие ходят по коврам и смотрят с картин.
И ему стало казаться, что все, что он ни сделай, ни скажи, – все будет не так. Если взглянет, то уж и это будет такое "не так".
И не глядеть, упершись глазами в пол, тоже глупо и стыдно, и Санька даже хотел, чтоб его не было, но чтоб было, было только это прикосновение.
На каждой остановке Санька замирал – вдруг здесь сойдет. Сошла молочница, увязанная платками накрест, как дорожный узел. Сошла и оглянулась на прощание на Таню. Теперь надо было отодвинуться, но Санька не мог. Он глядел в пол и не двигался. Было неловко, пассажиры глядели. Пусть, пусть. Сойдет, – и все, все пропало. Если б осталось на руке, на этом месте пятно, как обожженное, и носить его всегда, чтоб не сходило, и никому не говорить, не показывать до смерти, – и больше ничего не надо.
Вагон был уже полупустой, и конка бойко катила под гору по запустелой улице, хлябко, вразброд рякали подковами кони. "Теперь сойдет, сойдет наверно", – решил Санька, и сам не заметил, как сильней прижался к соседке. Таня чуть шевельнулась – это первый раз; Санька отдернулся, и стало холодно, как на сквозном ветру. А Таня выпростала руку и поправила сзади волосы под шляпкой.
"Как хорошо, как просто!" – думал Санька, и ему так понравился этот поднятый локоть, этот привычный женский жест, будто она первая его сделала. Санька задыхался. Конка заскрипела тормозами, кучер обернулся. Таня поднялась. Санька не знал, что делал. Он не дышал. Он протиснулся мимо Таниных колен, волчком слетел на землю и подал Тане руку.
И она оперлась и сказала:
– Мерси.
– Ну что, остаетесь, что ли? – крикнул кучер и хлестнул лошадей.
Таня пошла назад, вверх по улице.
Санька с другой стороны улицы следил, как она шагала. Ему казалось, что это не она идет, а тротуар, улица сама плывет под ней, подстилается сама. Санька глаз не спускал, толкая встречных. Он боялся каждых ворот, мимо которых проходила Таня, – сейчас повернет, скроется. Как это встречный прямо ей в лицо смотрит! Встречать бы ее, все время бы навстречу идти, а не сзади, как сейчас. А подойдешь, – выйдет, что пристал. И Санька то отставал, то снова нагонял Таню. Если б обернулась!
Если сильно думать, обернется. И Санька стал думать, пристально думать, до боли в висках.
"Оглянись, оглянись, милая. Ну повернись! Вот, вот сейчас повернись".
Санька не заметил, как стал шептать губами:
– Оглянись же! Оглянись, говорю. Ну!
Она не оглядывалась, а легко шла, и легко колыхалась ее юбка, и колыхалась синяя прозрачная тень. И то, что тень, и то, что юбка, и торжественная и легкая походка, и то, что не оглядывается, а смотрит строго вперед, – все это казалось Саньке чудом. Как он не замечал, что такое бывает у них в городе. "Вот она – настоящая-то! – решилось у Саньке в голове. – Счастье идет по городу. Неужели никто не видит, я один?"
Прохожие теперь часто замелькали. Санька глядел, не отрываясь, и, когда ее затирала толпа, он все равно с точностью, сквозь людей, знал, где она, видел, как мелькал кончик ее банта на шляпе, ее туфли среди мельканья брюк, сапог. Они были уже в центре города. Куда она несет себя? Дай Бог, чтоб не вошла! Таня поворачивала, сворачивал и Санька.
Открывали магазины, гремели железными шторами, газетчики орали, криком перебивали дорогу. Санька пробирался сквозь людей, как через кусты, и видел, как на той стороне, как будто ровным дуновением, неслась вперед она.
Повернула направо, в их улицу. Вот их парадная. Да! В нашу парадную! И Санька бегом перебежал улицу, вбежал в парадную и слушал, затаив забившийся дух, как по их лестнице ступали ее ноги. Он едва дыхание переводил и слушал. Знал, что она тут, перед ним. Вот второй этаж, тоненько застукали каблуки по площадке. Стала, стала!
И ясно в пустой, гулкой лестнице зазвонил звонкой дробью звонок. Санька боялся двинуться, не спугнуть: наверху открыли, их дверь открыли. Открыли и хлопнули. Санька через две ступеньки вбежал и задержал тяжелое дыхание, наклонил ухо к двери и слушал. Сердце стукало в виски, мешало слушать.
– Дома, дома барышня, – услышал Санька Дуняшин голос. – Сию минуту!
Санька не звонил, боялся, что не она, вдруг не она там, в их доме. Не может этого быть. Он стоял за дверьми и ждал.
– Ну вот, что за визиты! Снимай моментально шляпу.
Это Надька, Наденька командовала учительным голосом. И только когда простучали шаги по коридору, Санька нажал звонок. Нажал осторожно, как в чужую квартиру.
На подзеркальнике ее шляпа. Санька шмыгнул в свою комнату. Посидел с минуту, как был, в шинели. Слышал, как Дуняша прошла в кухню, и выкрался из своей комнаты. Огляделся. На цыпочках подошел к подзеркальнику, еще раз осмотрелся и осторожно, кончиками пальцев поднял за поля Танину шляпу. Подержал около лица, бережно положил обратно и погладил, едва касаясь.
Где-то скрипнула дверь. Санька топнул к вешалке и порывисто, зло стал стаскивать шинель. Андрей Степаныч, расчесывая на ходу мокрые волосы, взглянул из дверей в переднюю, поглядел на сына и нахмурился. Саньке показалось, что и ручку в своей двери отец повернул укоризненно.
Санька у себя в комнате прислушался к дому. Он слышал, как звонко побрякивала посуда в столовой. Дуняша собирала на стол к чаю. Все брякает. Санька вышел в прихожую и стал у зеркала. Он глядел в зеркало, нет ли кого сзади, и деловито хмурился на всякий случай. Дуняша все бренчала в столовой.
Санька схватил рукой за серебряную шпильку, за лилию, резко выдернул булавку из шляпы и быстро шмыгнул к себе в дверь.
Санька лежал на кровати, прижимался, что силы, щекой к подушке, а под подушкой сжимал в руке шпильку. Санька вдавил голову в подушку, закрыв глаза, затаив дух, шептал губами без звука:
– Милая, милая! И пел теплый ветер в груди.
Он услышал шаги в прихожей и весь осекся, вскочил на кровати.
– Отлично, отлично! – слышал он Наденькин голос. – Что ты ищешь?
– Булавку. Булавку от шляпы.
Первый раз услыхал ее голос Санька, подкрался к двери, припер ее ступней, как будто к нему собирались ворваться, сердце колотилось.
– Дуняша, тут не видали, булавку обронили.
– Ничего не было. Да на что она мне, булавка. Я шляп сроду не носила. Не было ничего.
– Ничего, дойду как-нибудь, – опять услыхал Санька ее голос.
– Найдется, я принесу, – сказала Наденька. Дверь хлопнула.
Шашка
У ПОРТНОГО на примерке в зеркале выходило, будто еще только делается квартальный: зеленый казакин весь был в белых нитках, как дом в лесах. Виктор украдкой взглядывал, боялся угадать, какой он будет в новом мундире. Хотел, чтоб сюрпризом сразу из зеркала глянул новый: околоточный надзиратель Виктор Вавич.
– Гимнастики делаете? – бормотал портной, сопел, едко пах материей и тыкал мелом по Виктору, как будто чертил на деревянной доске. Виктор стоял навытяжку.
От портного он пошел покупать шашку. Ему хотелось по-франтовитей, но боялся, что будет несолидно. Сразу скажут: "ветрогон".
– Больше такие берут, – и приказчик протянул Вавичу легонькую шашку. От ножен приятно пахло новой кожей. Вавич вытащил клинок. Клинок был дрянненький, но эфес галантно блестел.
– Не на войну-с ведь, для формы.
– Да, для формы, – сказал Вавич с солидным равнодушием.
– Прикажете завернуть?
Виктор кивнул головой. Не о такой шашке он мечтал.
– Присмотрюсь, там можно и другую купить.
А это была "селедка". Правда, новая, блестящая, но та самая, которую они в полку звали "селедкой". Потом выбрал погоны: черные суконные с серебряным широким галуном вдоль. Тут рядом под стеклом блестели золотом офицерские погоны. Черной замухрышкой казались эти полицейские погоны среди золотой знати. Все эти подпоручики и штабс-капитаны со звездочками чванно молчали под стеклом – "даже руки не протяни", подумал Виктор. Горькая слеза шевельнулась в груди.
– Две пары возьмете?
– Все равно, – хмуро сказал Виктор и пошел платить.
На улице стало веселее. Казалось, что все смотрят, что вот несет шашку, и, наверно, думают, что офицер. Ну, хоть прапорщик запаса.
Вавич ходил с шашкой по разным улицам: а то заметят, что нарочно показывается. Так он ходил часа два. Усталым шагом вошел Виктор в парк. Мокрый гравий шептал под ногами. Мокрые красные листья падали с кленов. Вавич присел на сырую скамью. Зажал между колен шашку и закурил. В парке было пусто. Никто не проходил и не смотрел на шашку. Вавич закинул ногу на ногу, раскинул руки на спинке скамьи. Сырой, ясный воздух плотно стоял вокруг, облил руки, лицо.
"Вот так бы сидеть офицером, подпоручиком", – думал Вавич. Даже почувствовал с волнением, как зазолотились на плечах погоны. Чуть плечами повел. Он оперся на завернутый эфес шашки. Сидит подпоручик. И чуть поднял подбородок. Зашуршали листья и зашлепали босые ноги. Двое мальчишек выбежали из-за поворота.
– Теперь моя, не дам, – кричал старший, рука была в кармане.
Младший бежал сзади и всхлипывал:
– Отдай, сво-ла-ачь!
Виктор строго взглянул на мальчишек, повернул подбородок. Оба пошли шагом, молча. Виктор видел, что оба они взглянули на шашку. Старший сел на край скамейки. Завернув конем голову, исподнизу глядел – все на шашку. Поерзал, подвинулся ближе. Младший стоял, выпуча заплаканные глаза. Виктор улыбался мальчикам. Он даже чуть заискивающе глянул на старшего. Мальчишка примерил лицо Виктора, смелей двинулся.
– Сабля? – спросил полушепотом.
– Ну да, – весело сказал Вавич, – шашка. Это, милый, шашка.
– Самделишная?
– Настоящая, конечно. Обыкновенная офицерская.
– А вы офицер – переодетый? А? – мальчишка ерзнул ближе.
– Офицер, – сказал Виктор.
– А она вострая?
– Нет, голубчик, не наточил еще. Это новая. У меня дома есть, та как бритва. Огонь – чик и шабаш, – и Виктор махнул рукой в воздухе.
Мальчишка был совсем рядом.
– А на войне были?
– Да, на маленькой, – сказал Виктор. – Повоевали.
– Много набили – шашкой?
– Ну да разве там разберешь, голубчик. Там, брат, пули – ввыть! вввы-ить! А в атаку идешь, тут уж не смотришь, какой подскочил, – раз! раз! А уж там солдаты штыками.
– Раз! раз! – повторил мальчишка и махнул накрест рукой.
– Аас! – махнул младший.
– А кого из пистолета, правда? Сразу его – трах! – мальчишка сделал рукой, будто целится. – Бах! бах его! ба-бах.
– Да, уж тут не разбираешь, – сказал Виктор.
– А можно потрогать? – мальчишка потянулся к шашке.
– Так ты, братец, ничего не увидишь. – Вавич надорвал бумагу. Заблестели золотом эфес и черная лакированная рукоятка.
– Только подержать, дяденька! Ей-богу! – и мальчик мокрой маленькой рукой вцепился в рукоятку. Виктор огляделся, не видит ли кто.
– Ну, довольно, братец мой, вырастешь, заслужишь офицера. Тогда... тогда, знаешь... заслужить, брат, офицера сперва надо... – говорил Вавич, уворачивая шашку в бумагу. – Подпоручика хотя бы. Вот как.
Виктор покосился на старика, что лениво сгребал палые листья.
Только подходя к гостинице, Виктор вспомнил о швейцаре. Он купил на углу у мальчишки на четвертак газет, зашел в ворота и укутал ими шашку, чтобы нельзя было узнать – что.
"Пусть и не подозревает до времени", – думал Виктор про швейцара.
Виктор быстро прошел в дверь и через две ступени заспешил по лестнице.
– Господин! А господин! Из двадцать девятого! – крикнул вслед швейцар. – Пожалуйте-ка сюда. Виктор шагнул еще два маха.
– Пожалуйте, говорят вам, – крикнул швейцар.
– Что... такое? – огрызнулся через перила Виктор. – Чего еще? – и остервенело глядел на швейцара.
– Ничего еще, а вот распишитесь, из полиции повестка, – швейцар говорил зловеще.
Виктор сбежал и не своим почерком расписался на бланке. Швейцар через очки проверял – там ли.
А Виктор, оступаясь на ступеньках, тер плечом стенку и все читал бланковый конверт:
"М. В. Д. Канцелярия Н-ского полицмейстера, №2820.
Номера "Железная дорога".
В. Вавичу".
Он заперся в номере и распечатал конверт, запустил трясущиеся пальцы.
"Окол. надз. В. Вавичу.
По распоряжению его высокоблагородия господина Н-ско-го полицмейстера вам надлежит явиться для отправления служебных обязанностей в Петропавловский полицейский участок 20-го числа сего месяца.
Упр. Канц.".
И тут шел целый частокол и росчерк.
Виктор торопил портного, раза по три на день заходил. Хмуро, ругательными шагами топал мимо швейцара в гостинице. По вечерам садился писать Груне. И не мог, ни одного слова не мог. Тушил свечку так, что стеарин брызгал на стол, ложился, натягивал одеяло, крепко с головой уворачивался, сжимая в кулаках колючую материю, стискивал зубы и шептал: "Господи, Господи, Господи", – а утром, не умываясь, бежал торопить портного.
За день до срока поспела форма. Ее в бумагах, в газетах, принес к себе в номер Виктор: был уже первый час ночи. Он спешил, хмурился, и подрагивали ноги от волнения, когда он просовывал их в новые брюки. Пристегнул погоны погребальные, серебряный галун по черному полю, казакин приятно облегал талию, – это бодрило. Но Виктору жутко было глянуть в тусклое зеркало в дверцах шкафа. Он уж боком глаза видел, как кто-то чужой копошится в зеркале. Спиной, к зеркалу, чтоб не взглянуть, Виктор продевал под погон портупею. Чужими шагами стукнули новые ботфорты. Виктор достал из картонки новую фуражку с чиновничьей кокардой и серебряной бляхой – гербом города. Теперь он был готов. Было тихо по-ночному. Тонкая свечка плохо светила. Виктор решил глянуть сперва на тень – он чуял, как ее огромное пятно ходило за спиной по грязным обоям. Он повернулся решительно и глянул. Чужая, не его, тень стояла на стене, как будто был кто-то другой, незнакомый, в комнате. Виктору стало жутко, но он зашагал прямо к тени, чтоб уменьшить ее, чтоб яснее видеть: незнакомые шаги заскрипели по полу, и Виктор на ходу видел, как в зеркале в шкафу прошел квартальный – и это он скрипел сапогами.