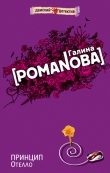Текст книги "Виктор Вавич (Книга 1)"
Автор книги: Борис Житков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Тебе ж это удобней всего. Именно потому, что никакого касательства. Барышня – и только.
И стал Санька, и сердце стало...
Навстречу поднимались Надька и она. Она шла немножко сзади, на одну ступеньку, а Надька, оборотясь назад, поднималась и не видала Саньки. Таня прямо, пристально глядела Саньке в глаза – в белом зимнем свете, на белой стене, черная, и, как клинок ножа, торчало острое перо из зимней шляпы.
Надя резко обернулась вперед, куда глядела Таня.
– А, – сказала Надя, – ты это куда? – и снисходительно улыбнулась. Знакомься – мой брат. – Таня стала против Саньки, одну секунду глядела ему в растерянные глаза и тогда протянула руку.
Санька взял ее руку в черной перчатке, взял неловко, как будто брал в руку книгу, риза ползла из-за пазухи вниз, и Санька нелепо прижимал локоть к своему животу. Таня чуть усмехнулась. Она пошла за Надей, оглянулась с площадки. Она повернула голову, глядя через плечо сверху, и вдруг что-то родное и преданное мелькнуло Саньке, будто спало жестокое серебро. Но только на миг, на миг. Санька в неловкой позе стоял, держась за живот. Риза сползла, он не мог двинуться, ждал, пока они уйдут. Надя все не попадала плоским ключом в щелку замка.
"Все, все теперь пропало, – думалось Саньке. – Больше она так не посмотрит. Подарила, не умел принять, она раскаялась, что оглянулась. Теперь за дело и больше ничего". И Санька подкинул тяжелый сверток на плечо и зашагал вразмашку. Сплюнул в сторону. И, как чужая, привередливо шевелилась булавка с лилией, когда Санька нажимал на ризу, что топорщилась под шинелью. Оглохли уши, и, как через вату, бубнил людской говор. В часовом магазине Санька увидал – половина четвертого.
– Двугривенный хочешь? – сказал Санька извозчику, сказал грубым, ломовым голосом. – А не хочешь, стой здесь до вечера.
Извозчик смутно глянул и без слов мотнул головой на сиденье.
На улице было серо, когда Санька вышел из ломбарда. За ризу дали двадцать восемь рублей. Ломовой голос не выходил из глотки, и Санька ругался с букинистами и хлопал стеклян– ными дверями. Он кричал на ты:
– Брось дурака клеить! Что оно – краденое?
Плевал в пол, стукал книгами о прилавок. Было уж больше пятидесяти рублей.
"Послать! Как его послать, – тем же ломовым голосом хрипел в уме Санька. – Помню я, что ли? Головачеву, Головлеву, Головину, дьяволу в зубы". И не хотелось соглашаться, что Головченко, учителю Головченке надо послать деньги, а он уж будет знать, что это для Алешки. Санька решил пойти на Слободку, шлепнуть Карнауху на стол деньги, – посылайте уж там сами, а то черт его там знает, головлей этих напутаешь. Санька поднял воротник, закурил. Он засунул руки в карманы и, подняв плечи, стал толкаться в гуще людей, что черным током лила по белой улице.
У старухи
ТАЙКА стояла на коленках, на коврике, в головах у маминой кровати. В комнате было полутемно, и затейливой звездой разливался на замерзших стеклах уличный фонарь.
– Мамулечка, – шептала Тая и поправляла подушку, – мамулечка, милочка. Витя женится, кажется. Что это? Не клоп? Нет, так только, – шептала скороговоркой Тайка и обдергивала одеяло, ползала коленками по мягкому коврику.
– На ком же, на ком? – громко сказала старуха и повернула на подушке голову. – На ком же это?
– Да еще неизвестно, – бормотала Тая, – кажется, на Сорокиной, на Груне.
И Тайка видела, что старуха силится приподнять голову, чтоб поглядеть ей, Тайке, в глаза.
– Это... какая же? Не припомню такой. Здешняя?
Тая кивнула головой.
– Что ж не привел, не показал? Ну, вот как... теперь все так, – и старуха опять потонула затылком в подушке, и Тайка не сразу увидела, что без звука, одними слезами заплакала старуха. Неподвижным казалось белое лицо в полутьме, только блестели при лампе две слезы.
– Мамочка! – сказала Тайка, задохнувшись. – Маленькая, миленькая. Витька пишет, что благословить просит. Мамочка хорошенькая, – и Тайка стала целовать старуху в мокрые глаза, – она любит тебя, она хорошая, красивая, добрая. Высокая, вот! – Тайка вскочила на ноги и на аршин выше себя показала рукой. А мать повернула голову и смотрела, внимательно смотрела, как показывала Тайка. – Она очень любит...
– Что ж, любит, – и старуха слабо мотнула здоровой рукой, – не придет даже. Как любить... не видевши? Господи, Христе милостивый, – тряскими от плача губами сказала старуха. – Господи, сама б пошла, – ведь калечство мое... что же это? Боже... ты... мой!
– Маменькин миленький! – У Тайки слезы встали в горле. – Ей-богу, только боится она. Она хочет... боится. Позволь – придет. Страшно хочет. Маменькин!
Тайка выбежала, выбежала так, будто Груня в прихожей ждала только, что вот – позовут. Тайка на ходу застегивала пальтишко, кутала голову вязаным платком. Захрустели морозные мостки. Тайка чуть не бегом пустилась вверх по улице. Тайка перебежала площадь и тут только сунулась в карман. Один двугривенный был завязан в уголке платка.
– За двугривенный к тюрьме, – сказала Тая извозчику.
– Шесть гривен положите! – гулко по морозу отколол слова извозчик, и весь извозчичий ряд шевельнулся, оглянулся. Тая шла вдоль ряда.
– Куда везти-то?
Но уж молчала и шагала скорее. И вдруг голос над самым ухом:
– Случилось что-то? Нет?! В самом деле? Тая быстро мотнула головой он, он, Израиль. И застукало сердце, как будто не было его раньше.
– Нет, я, кроме шуток, – говорил Израиль и шагал, загребая ногой. Может, несчастье, я знаю?
– Ой, мне скорее надо, – говорила Тая, запыхавшись, и еще быстрее засеменила.
– Куда ехать? – крикнул последний извозчик.
– Нет! В конце концов, куда ехать? – и Израиль придержал Таю за рукав. Тая глянула на него, улыбаясь и часто дыша.
– В тюрьму, в тюрьму!
– Что? – наклонился Израиль. – Кто-то у вас сидит? – спросил он шепотом. – Нет, а что?
– Там подруга, подруга, – говорила Тая, – к смотрителю, к знакомым, тараторила Тая. Израиль все тянул ее за рукав вниз. – Надо скоро, скоро, и Тая хотела двинуться. Но Израиль улыбался и не отпускал рукава.
– Давай сюда! – крикнул он извозчику. – В тюрьму и обратно, полтинник. Что? Цельная бутылка водки и один огурец сдачи. Ну а что? Садитесь, толкал Израиль Таю в сани, – помиримся, погоняй!
Извозчик тронул. Израиль на узком сиденье плотно прижался и рукой обхватил Таинькину талию.
– Не надо... зачем? Я пойду, – говорила Тая.
– Какая разница? – говорил весело Израиль и бережно отводил к себе Таю от встречных оглоблей. Тайка совсем наклонила голову и смотрела в колени.
Тайка боялась глядеть по сторонам, ей казалось, что все знакомые высыпали из домов и шеренгой стоят на панели. Стоят и провожают ее глазами. Ей казалось, что она задевает эти взгляды, они хлещут по глазам, как ветки в лесу.
Хорошо, как хорошо, что Израиль закрывает ее хоть с левой-то стороны! Таинька тряхнула головой, чтоб платок больше насунулся на лоб.
– Извозчик! – говорил весело Израиль. – Эй, извозчик! Ты дорогу в тюрьму знаешь? Да? Сам знаешь, так это уже хорошо. А что? Лучше, чем тебе кто-то покажет.
Очень весело переливался в морозном крепком воздухе Израилев голос, и Таинька улыбалась. Глядела на полсть саней, как вспыхивал на ней снег на свету фонарей.
И вот веет уж за спиной легким облаком городской шум, и серьезно по новому снегу заскрипели, закрякали полозья Снежная, мутная темнота потекла по сторонам. Израиль двинулся и крепко взял Таю за талию.
– Не боишься, что везешь жуликов? А, извозчик?
– Оно хорошо бы, коли жулики, я говорю, сами в тюрьму съехались. Э-ха! – махнул извозчик на лошадь.
– Вам не холодно в бок? – спросил Израиль и захватил в горсть Таинькино пальтишко, помял в руке, и Таинька чувствовала его пальцы. Воздух! Вы же захолонете... – Израиль сказал с таким испугом, что обернулся извозчик.
– Ничего, мне тепло, очень хорошо, – говорила Таинька.
– Вдвоем только и греться, – сказал извозчик, задергал вожжами.
– Ты пусти, извозчик, пускай бежит, я тебе гривенник на чай.
– Ничего, ничего, поспеем, – шептала Тая. Израиль растирал крепко и не спеша Тайкин бок.
– Хорошее дело, в таком демисезоне. Что, нельзя взять на ватин немножко, – приговаривал Израиль.
Как уголья в поле, тлели вдали красные окна тюрьмы. Извозчик подхлестнул. Таиньку откинуло назад, но Израиль удержал и сейчас же сильней прижал к себе. И Таинька прислонилась на секунду, совсем без думы прильнула и закрыла в темноте глаза. И от всего мира заслонил ее Израиль этой рукой, что обняла и разлаписто держала и грела, – в драповом рукаве, в толстой вязаной перчатке. На одну, на одну секундочку прильнула Таинька, так хорошо, так покойно замерла. Израиль повернул свой котелок с острым клювом и глядел сверху из поднятого воротника. Одну секунду.
– А куда ж заезжать? – обернулся извозчик.
– Туда, туда, – задохнувшись, крикнула Тая и наугад замахала ручкой в воздухе.
– К смотрителю, так вона, – извозчик ткнул кнутовищем в черноту.
– Вы бежите, я не смерз, – Израиль отстегнул полсть. Тая затопала замерзшими ножками к Груниной калитке и слышала, как Израиль весело сказал:
– Куришь, извозчик?
Она забыла, что бежит к Груне, она бежала – поскорей передохнуть от того, что было.
Тая дернула калитку, и крикнуло мерзлое железо, звонко хлопнула сзади щеколда. Еле видно было дорожку в белом, мутном снегу, и вдруг ярким квадратом распахнулась над крыльцом дверь, и большой черный Грунин силуэт в светлом квадрате.
– Кто, кто? – пропела Груня с порога.
– Я! – на бегу дохнула Тайка, и Груня в два шага слетела с крыльца, нащупала Тайку, схватила за руку и потащила. Спотыкались о ступеньки непослушные ноги, и вот уж в яркой кухне, и Груня целует жарким лицом Тайкины морозные щеки и давит так, что дыхание в груди спирает.
– Таинька! Душенька! Душенька! Таинька! Потом оттолкнула за плечи и смотрела мокрыми широкими глазами и дышала широко и жарко.
– Едем... к маме... велела скорей. Виктор велел, – говорила, срываясь, Тайка и улыбалась. И Груня видела, как шевелится счастье в зрачках.
– Скорей, скорей, ждут! – толкнула Тайка Груню, чтоб не глядела в глаза. И Груня бросилась к шубе.
Груня обежала палисадник, бежала, подобрав шубу, лисью, мамину еще шубу. Застукала ключами в тюремные ворота, в окошечко сунула ключи:
– Передай отцу, скажи – в город... – и целиной, через сугробы, широким махом поскакала к извозчику.
– Добрый вечер! – Израиль с саней поднял котелок и протянул Груне руку. – Будем знакомы. Что это? Побег с тюрьмы?
– Трое, куда же? Уговору не было, – бубнил извозчик, – это отсель только рубль издать взять.
– Ладно, рубль! – говорила Груня, спешила залезть в сани. Она влезла, оттиснула Израиля на самый край, поймала Тайку, сгребла к себе на колени.
– Гони, два рубля! – скомандовала Груня.
Лошадь дернула примерзшие сани. Тая сдавила Грунину руку, и Груня ответила тем же. Обе поняли: "Дома не говори".
Легкий ветер веял в спину, и казалось – тихо. Израиль держался за Грунину спину. Подвывали знобко полозья, и глухо топала лошадь. Топало сердце, жарко топало в Груниной груди. И Груня сильней прижимала Тайку: крепко, чтобы не выронить. Черным чертом торчал с боку Израиль – на отлете. Все молчали. Только нукал извозчик.
– А это знаете? – вдруг весело сказал Израиль. Таинька обернулась. Груня жарко дохнула.
– А вот! – сказал Израиль и набрал воздуху. Он засвистал в морозном воздухе. – Оно идет немножко выше, в e-mol, так губой нельзя. Может, Бог губой это вытянет.
Минуту молчали.
– Еще! – сказала Груня, переводя дух, и посмотрела на котелок – над поднятым воротником.
– А что еще? – Израиль тер ухо свободной рукой.
– Это самое, – вместе сказали Груня с Тайкой. Израиль свистал верно, точно, свистал, как будто инструмент был у него в губах.
Сонный свет мутной шапкой стоял над городом. Брызнули из-за поворота огни. Теплый гул от улиц. Израиль оборвал свист.
– Смерз в ноги, страшное дело! – Он соскочил с саней и побежал рядом. – Стой, извозчик, – крикнул Израиль. – Имеешь рубль. – Он ткнул извозчику монету в мерзлую рукавицу и побежал на тротуар.
Тая кивала головой в платочке, Израиль снял котелок и похлопал им по руке на отлете, в воздухе, а волосы дыбом стояли на голове, как вторая шапка.
Тая глядела в колени и счастливо молчала. И все стоял в ушах, все дышал в груди мотив, и казалось, что не там едут, где едут, и не туда приедут.
– Не проехали мы? А? – крикнула Груня, и Тая вздрогнула. Мимо их окон ехали, и красным светом чуть веяло от маминого окна.
Груня наспех совалась в кошелек.
– Беги, беги, – говорила Тайке.
Скрипнул снег, взвизгнула мерзлая калитка и звонко хлопнула за Таей. Не раздеваясь, мерзлыми пальцами звякала ламповым стеклом и слышала, как зашевелилась, заскрипела кровать под старухой. Рявкнул пес, взвизгнул видно, Груня кинула снегом, – и лампа, жмурясь, трещала, а Груня уже вмахнулась в комнату, и Тайка успела кивнуть на дверь. Как была, не скинув шубы, двинула морозная Груня и с широкого шага стала на колени у изголовья кровати.
– Пришла я и пришла, – говорила, запыхавшись, Груня и ловила старухину руку, наугад, на память, в красной полутьме лампады. – Груня я, Груня. Викторова Груня, – и жала жарко бесчувственную руку. Поцелуем давила и все говорила: – Груня я, Груня, Викторова Аграфена.
– Дай глянуть-то... поди, милая, сюда, – и старуха здоровой рукой гребла Груню за мокрую шапку к себе и целилась попасть губами в губы.
Жаркое-жаркое тянула к себе старуха. Она не видела лица, только чуяла дыхание, жаркое, громкое, и плотными губами придавила Груня старушечьи губы и закрыла глаза на секунду... И больше нельзя было, и оторвались, чтобы не отошло назад, оторвались, так и не видевши друг друга.
На пороге стояла Тая с лампой.
– Не надо, не неси, Бог с ней... глаза режет, – сказала старуха. Слабо махнула рукой и устало бросила ее поверх одеяла.
Груня хотела подняться.
– Стой! – шепотом сказала старуха. – Стой, стой!.. Возьми руку мою правую... возьми, возьми, я не могу. Сложи пальцы, так. И перекрести себя. И Вите передай. Так и люби, как любишь. Иди... старика приласкай. Бедный он...
Груня встала. Три раза перекрестилась на образ, вышла и тихонько заперла двери.
Маруся
– НУ-С, довольно возиться, – сказал басок.
И перед Башкиным резкими зелеными углами стал стол. Жандарм тряхнул его за плечо.
– Довольно-с истерик! – назидательно, хмуро сказал полковник. Говорите дело. Ну-с! – уже крикнул полковник. Кивнул жандармам.
Они, звеня шпорами, вышли вон.
– Эс и эс? Ну? Нечего бабу разыгрывать! – полковник поднялся. Встать! – крикнул он Башкину в лицо.
И Башкин не знал, какая сила подняла его, и он встал.
– Довольно дурака валять! – крикнул полковник. Офицер тоже стоял, он злыми, обиженными глазами глядел на Башкина.
– Вам сейчас, как честному человеку, предлагают помогать работе государства. Понял? – И полковник вонзил глаза в Башкина, в самые зрачки, вонзил и пригвоздил на миг. – А то, знаешь?
И метнулась искра, и замутилось холодом внутри у Башкина. Острым холодом взвилось под темя. И прошла, продышала секунда.
– Так вот, – тише сказал полковник, – готовы вы содействовать общественному порядку или противодействовать?
– Да... – едва скользнул голосом Башкин.
– Что – да? – и полковник уперся в глаза. – Содействовать?
– Да, – мотнул головой Башкин.
Полковник сел. Офицер тоже сел и что-то мазнул карандашом на бумаге.
– Если да, – продолжал полковник (он все еще держал глазами Башкина), – если да, так содействовать надо не как-нибудь, как вам там вздумается, а так, чтобы это было в соответствии... с видами и действиями... Не выдумывать мне дурацких дел! – вдруг снова встал и заорал полковник. Шерлоков мне не разыгрывать, чтобы десятки вытравливать! А дело... Дело! Понятно? Садитесь. Башкин стоял.
– Зря денег я кидать не стану! – жиганул глазом полковник. – А теперь марш в камеру! Завтра ротмистр все объяснит. В его распоряжение.
Полковник встал из-за стола и простукал каблуками в боковую дверь.
Офицер встал.
– Отправляйтесь! – сказал он строгим голосом. – И пожалуйста мне без фокусов... – он постучал перстнем по столу, – без этих сеансов!
Офицер больше не взглянул на Башкина. Он свернул бумаги трубкой и вышел в коридор.
– В камеру! – крикнул жандарм с порога.
Башкин встрепенулся: "К себе, скорее к себе. Туда, в камеру, в камерку мою, скорей!" И он чуть не бежал по коридору впереди служителя.
– В камерку, в камерку, в мою камерку... приду, вот сейчас приду, шептал Башкин, и ноги дергались в коленях и судорожными толчками кидали Башкина по коридору. Он не мог дождаться, пока отворили. В камере стояла койка. Новая солома зашуршала, запружинила. Башкин с любовью похлопал матрац и прижался лицом к подушке. Он стал смотреть в грязную стену. И вдруг – не мысль, а кровь вся сразу изнутри нажала в голову.
– Что же, что же, что же это? – сказал Башкин громко, вслух, и сам испугался своего голоса. Он прижал со всей силы рукой щеку, как будто зубы болели, хотел вскочить, дернулся и снова упал на подушку, – голодная, лохматая голова пошла кругом.
Башкин спал в полуобмороке. А за плечо его шатал, шатал кто-то. Открыл глаза – служитель.
– Вы вперед покушайте, а опосля опять спите на здоровье. И он помогал Башкину подняться на кровати.
– Да, да... Я покушаю, – говорил Башкин, сидя на койке. – Очень, очень... Да, я покушаю... Спасибо... Конечно... – и все ерошил пятерней свои густые, липкие волосы.
Башкин говорил мирным, дружелюбным голосом. Он, шатаясь, сел к столу. Он потянул носом, и запах настоящего борща всем аккордом ударил в ноздри, всей капустой, помидорами, луком, салом, и всех их сразу и в отдельности чуял Башкин, как живых, как родных, как радостную встречу. Ложка прыгала в руке, обжигались сладко губы. Башкин тремя пальцами рвал мякиш ситного хлеба. Он ел и дурел от борща. Он опрокинул остатки в рот и обтер хлебом миску. Прожевал и обтер коркой насухо. Он сидел, как пьяный, и глядел в пустую миску.
Когда клякнул замок, Башкин перевел туманные глаза на дверь и глядел с тупой улыбкой. Тот же служитель вошел. На руке нес сложенную одежду.
– Вот, переоденьтесь в свое обратно же, – и он положил на койку одежду.
Башкин кивнул головой.
– Да, да... Очень.. Конечно...
А от живота теплота поднималась к груди, и в истоме тянулись ноги. Глаза слипались. Башкин повалился на койку.
"А что будет? – слабо толкнуло в голове. – А ничего не будет. Уж все было. – Он завернулся в одеяло. – И вообще ничего не бывает. Чепуха одна", – слабо бродила хмельная мысль.
И Башкин заснул. По-настоящему, плотным камнем, носом в стену.
– Ну, одевайтесь и пошли. Требуют господин ротмистр. – Служитель стоял над ним. – Одевайтесь в свое. А то так ведь стыдно. На что похоже? Вроде утопленник или, прямо сказать... обезьяна.
Он держал чистую рубаху, которую успел смять ногами Башкин.
– Живо одевайтеся, бо ждут. И воротничок цепляйте.
Башкин с тревогой одевался. Да, его одежда, наспех, кое-как починенная. Она потрескивала, когда надергивал ее как попало Башкин. Служитель помогал ему.
– А это куда же идти? – с одышкой спрашивал Башкин.
– Отведут. Там знают. Скорей надо. И пальто надевайте и все. Чтоб в полном виде.
Башкин пошел теперь за служителем. Лестница была освещена, и в окнах была чернота.
Внизу хлопнули двери, затопала человечья возня, и сдавленный голос крикнул:
– Поговори мне еще!
Башкина подстегнуло, он поддал ходу. Служитель привел его к тому же кабинету, где он первый раз говорил с офицером.
– Пальто здесь повесьте, – сказал жандарм, – доложу сейчас.
Башкин на скорую руку подбирал речь, какую он скажет офицеру. "Прежде всего, во-первых, самое первое, – задыхалась мысль, – я не хочу служить. Я не нуждаюсь в службе, мне не надо службы. – Башкин загнул уж три пальца. Почему полковник беспокоится, что я буду даром деньги брать? Я не буду денег брать ни даром, никак. Это – в-пятых, – и Башкин судорожно зажал кулак. – И потом, пусть я сочувствую, но я не способен, просто знаю, что не способен, наверное, подлинно знаю, как свои пять пальцев, – и Башкин растопырил перед лицом свободную руку. – И поэтому я ничем быть полезным не берусь и считаю нечестным, да! именно бесчестным что-либо обещать. И это все надо сейчас же и сразу и категорически отчитать – и все! Прямо с порога". Башкин боялся забыть аргументы и со страхом, чтоб какой-нибудь не выпал, как перед экзаменом, задыхаясь, твердил в голове, шепча губами:
– Раз... во-вторых... а в общем... И прямо с порога. В коридоре коротко трынкнул электрический звонок.
– А вот пожалуйте, – сказал жандарм и кивнул головой на дверь.
Башкин сделал четыре огромных шага и осторожно открыл дверь: а вдруг не туда?
Комнату он не узнавал, – она вся была в сонной полутьме. Под низким абажуром лампа на письменном столе. Стоял офицер, – освещены были только синие брюки.
– Что же? Входите... гаспа-адин висельник, – крутым голосом сказал офицер.
Башкин запер за собой дверь.
– Я хотел вам объяснить, – начал Башкин, глотнув воздуха. Но офицер резким голосом перебил:
– Что там объяснять? Гадость! Бабья гадость! Еще уксусом травился бы... Маруся какая.
– Я не то... – начал снова Башкин.
– Что не то? – крикнул офицер, подступил на шаг. – То самое! Пошло и гнусно! – И он ступил, широко расправляя ноги, еще два шага.
Башкин задыхался, стоял у двери и глядел, как наступал на него из полутьмы красный жгучий огонек папиросы на этих двух ногах со шпорами.
– Вы мне предлагаете, – заспешил Башкин, пока не надвинулся вплотную огонек, – вы предлагаете мне...
– Кто вам предлагает? Что вам предлагают? – Огонек пыхнул и еще двинулся.
– Господин полковник предлагает, – размеренным голосом начал Башкин, собрал голос, – полковник думает...
– Ничего полковник не думает, а думают дураки и философы! Кто это вам предлагает? А если вы тут опять вздор молоть собрались, то, может быть, прекратим разговор?.. Что?
Башкин молчал.
– Не угодно? – Огонек вспыхнул сильнее и блеснули в свету глаза. Ну-с? Так слушать, и без истерик и фокусов. – Огонек зашатался в воздухе огненной дугой. – А то разговоры могут выйти очень короткие.
"Пусть скажет, потом я, потом все скажу: ровно и уверенно, все, все!" – думал Башкин и кивал в темноте головою.
– Так садитесь и извольте слушать, – ротмистр круто повернулся и пошел к столу, ставя каждую ногу плотно на ковер. "А я не сяду!" – думал Башкин. Ротмистр сел в кресло, ткнул в пепельницу окурок.
– Во-первых, у нас есть, – ротмистр не спеша полез в карман и достал перламутровый ножичек, – у нас, я говорю, останутся эти... ваши... упражнения, что ли, – ротмистр взял со стола карандаш и весь перегнулся к лампе и на ярком свете стал чинить карандаш. Он совсем спиной повернулся к Башкину. – Да-с! Ну и этот, как его, черт! – Ротмистр внимательно стругал тонкие стружки. – Этот... протокол... Ничего, потом подпишете... А затем, вот что... шутить мы не любим, – сказал тихо, будто про себя, ротмистр, не отрываясь от работы. – Да и не до шуток, а вот дело. Месяц мы вам даем оглядеться, даже... ах, черт, сломал, кажется!.. Да, даже можете побалдить с месяц, – говорил неторопливо ротмистр. – Можете побаловаться. Дамами, кажется, интересуетесь? Вкус у вас, однако, как у тверского цирюльника. Ну, это дело ваше. И зарубите на своем носу – места, кажется, хватит? Ротмистр глянул на Башкина, осторожно скобля острие графита, прищуря глаза. – Зарубите покрепче: нам ведь все будет из-вестно-с, каждый ваш крендель, ротмистр бросил на стол карандаш и резко крикнул Башкину: – Каждая петля!! А через месяц явиться сюда. И послать мне доложить, что Эс-Эсов, – у нас вы Эс-Эсов, – и если проболтаете кличку, попадет от них и лоб... а от нас полбу! А потом являться каждую неделю. С глупостями не соваться. – Ротмистр встал. – А смотреть в оба!
– Я не могу! Я не способен! – хриплым шепотом дохнул Башкин. Он сделал шаг от двери, сел на кресло и замотал головой. – Я не могу! не умею.
– Надо учиться, – обрезал ротмистр. – Ато научим. – И он зашагал к Башкину.– Что? Опять истерики? Не отучили? У нас, голубчик мой, такие места есть, что тараканы не сыщут. Па-а-нятно? – расставил ноги и, избочась, нагнулся вперед. – Сейчас домой, или... так просто, батенька, отсюда не выходят!
"Я удеру, удеру, – думал Башкин, – только выйти отсюда... все, всю жизнь положу, и я зароюсь, закопаюсь в Сибири, в горах. У! Я знаю теперь, и он смело глянул на ротмистра. – Каждую секунду использую для цели, остро, тонко и... как сталь!"
Башкин сжал зубы.
– Па-а-нятно? – спросил ротмистр и еще подался вперед.
– Да, я понимаю, – твердо сказал Башкин.
– Так бы давно. Пожалуйте сюда, – ротмистр кивнул, – сюда, к столу, где это? Вот! Вот тут подпишите, – и он провел крепким точеным ногтем внизу бумаги. – Это протокол. Ходу мы ему не даем. Тут есть ваше искреннее признание, что насильственным актам вы не сочувствуете. Я там немного даже в вашу пользу сформулировал.
"Все равно, – думал Башкин, – в каких дураках вы будете со всеми своими бумагами! Идиоты! Примитивные тупицы".
Башкин насмешливо сощурил глаза, – его лица не было видно, и только стол был ярко освещен и блестел хрустальными чернильницами и бронзой пресс-папье.
– Так-с, – и ротмистр прижал тяжелым пресс-бюваром подпись Башкина. Так вот, наведывайтесь к нам, как только что у вас будет. Затем должен вам сказать, – мягко, вполголоса, шептал ротмистр, – что если вас арестует полиция, – ну, попадете в самую гущу, например! Требуйте в крайнем случае, – зря этого не надо! – чтоб вас препроводили в охранное. Для полиции вы тоже сфинкс! – И ротмистр поднял палец. – Это в самом крайнем случае; ну, перед лицом смерти, увечья. А то пусть ведут со всеми в тюрьму. Вы – как все. И мы только с вами все знаем, – и ротмистр почти дружески ткнул себя в грудь и потом Башкина в плечо. – Образа жизни не меняйте. О том, где были, ни звука! – Башкин тряхнул головой. – Просто скажете: был арестован по ошибке и отсидел в тюрьме. Это не редкость, очень естественно... У вас, голубчик, ни гроша? Как у всякого честного человека? Правда? Куда же вы пойдете? Я вам могу сейчас немного дать.
Ротмистр быстро отодвинул ящик, достал конверт. Красным карандашом широко было написано: "тридцать рублей". Ротмистр сложил его пополам и протянул Башкину.
– Ну, берите же, ну, хоть чем-нибудь возместим; тут и ваш паспорт. Вы же, наверное, потеряли уроки там и все такое... мы вам гораздо больше... да и не мои это деньги... это уж полагается... всегда, – и он сунул конверт в карман Башкину с самым шаловливым видом. – И вот, дуйте мне здесь расписочку. Мне ведь отчитаться надо. Валяйте, садитесь. Все готово: пишите, – и ротмистр лукаво засмеялся, – пишите уж "Эсэсов" и баста. Вот тут.
– Сию минуту! Через "э" оборотное или через "ять"? – шутил Башкин и думал: "Вот, вот, это на побег, сами же дураки дают. Сует, идиот, и ничего не подозревает".
– Ну-с! А теперь вот: являться только ночью, между двумя и тремя. В воротах скажете: "Эсэсов", – и пропустят. А потом – доложить ротмистру Рейендорфу. А сейчас отправляйтесь.
Ротмистр взглянул на часы.
– Фу! Половина четвертого. Ну, надеюсь, друзьями? – Ротмистр протянул руку. Рука была твердая, спокойная. Заглянул в глаза Башкину. – Слушайте, сказал он мягким голосом, – вы бы... того – гидропатией, что ли, какой-нибудь; вы же смотрите, какой вы! Надо же быть мужчиной. На коньках катайтесь, что ли. Нельзя же так! И нервы, и физика, – и ротмистр потряс Башкиназа плечо. – Ну, идите, – позвонил.
Башкин направился к двери.
– Так через месяц здесь! – крикнул ему вслед ротмистр, твердо и звонко. – Проводи на волю, – приказал он жандарму.
– Пропусти одного! – крикнул жандарм в пролет лестницы, и плотно щелкнула дверь за Башкиным. Теплая и пустая лестница. Глухая пустота будто подлавливает, западней вилась решетка перил. Башкин мягко ступал калошами. С площадки глянул на дверь. Ему казалось, что смотрит, смотрит дверь, прищурив глаза. И он через две ступеньки все шибче и шибче покатился с лестницы. С последнего марша он увидал: стоит человек в барашковой шапке и смотрит на него глазами, как на вилы принимает. Башкин сбавил ходу. Человек, не спеша, пошел к двери и завертел ключом. Приоткрыл и стал, держась за ручку. Башкину казалось, что, если сунуться, зажмет в дверях, как кошку. Башкин стоял. Человек резко кивнул в двери. Башкин змеей провернулся в проход, и веселый морозный воздух дунул в ноздри, обмыл лицо. Снег! Снег! Вот что делается на земле-то! И Башкину показалось, что прошли месяцы с ареста.
А главное – он не знал, куда идти. Совершенно не знал, как будто его в чужом городе поставили на пустой тротуар. Он оглядывался, не узнавал места. На квартиру? Никакой квартиры: старуха давно сдала комнату... Четыре часа ночи.
"И где я, где?" – озирался Башкин.
Он перебежал на другую сторону улицы, оглянулся: яркими квадратами светился дом охранки. Ровным матом задернуты окна. Недоступно, слепо. Глядеть не хочется. Башкин шел, оборачивался. Городовой лениво шагал по улице, и пищал под валенками морозный снег. Башкин прошел до угла, и в спину городового и в окна охранки замахал кулаком. Тощая, длинная рука жердью высунулась из рукава пальто.
"Я вас... я вам... узнаете, узнаете, узнаете меня, черти... сволочи проклятые! Меня, Башкина, узнаете".
Городовой повернул. Башкин сунул руку в карман и зашагал. Он все быстрее шагал и все говорил жарче и жарче:
– Что ж это? Да что ж это? Он побежал по пустой улице.
– Ай! Ай! – и мотал головой. – И тридцать, тридцать нарочно, сволочи, как Иуде сребреники, – и Башкин с размаху на бегу ударил кулаком, больно ударил по каким-то перилам. – Сказать, рассказать кому, чтоб узнать, что же это?.. Мамочка, мамочка, миленькая, – говорил Башкин, задыхаясь от бега.
– Что, смерз? – окликнул его ночной сторож. Башкин пошел, тяжело дыша.
"Ну, кому? кому?" Матери у Башкина не было. Он был сирота. Башкин не знал, куда шел. Улицы становились пустей. Полукругом шел скверик перед церковью, и стриженые кустики стояли в снегу пушистым барьером.
"Я их разорву, – Башкин остановился в расстегнутом пальто, – в клочья! Взорву охранку... приду, принесу адскую машину, – шептал Башкин. И ему виделось, как летят черным фейерверком клочья, камни. Со скрежетом, с треском. – И клянусь, клянусь!"
И Башкин вдруг повернулся к церкви, стал креститься, крепко стукая себя пальцами, как будто вколачивал гвозди. Он подошел, стал на колени, сдернул шапку и лег лицом в пушистый, холодный снег, прижался, как в воду окунул лицо, и шептал:
– Клянусь... клянусь...
Он встал, он крепко сдвинул брови, чтобы не потерять, чтоб накрепко, навеки вдавить мысль. Он постоял минуту, глубоко дыша морозным воздухом.