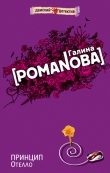Текст книги "Виктор Вавич (Книга 1)"
Автор книги: Борис Житков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Потому что само положение мастера, очевидно, таково, что... оно уж вырабатывает определенный тип.
– Вот именно – тип! – подхватил Филипп. – Самая сволочь вырабатывается.
– Какой бы человек ни был, но...
– Хоть самый рассвятой, – махал руками Филипп. Он встал и стал шагать по комнате – два шага туда, два обратно.
– Он должен смотреть, чтоб хозяйская копейка...– говорила уже смелее Наденька.
– Рубли дерет! – Филипп остановился над Наденькой, над ее головой ходили его руки. – Рубли, стерва, вымолачивает из человека, из своего же брата. И на людей, ирод, не глядит: боится, чтоб прибавку не спросил кто.
– Человек, который идет в мастера, – продолжала Наденька, – конечно, знает, на что идет. Он выходит из своего класса сознательно.
– И уж ни черта больше не сознает, – подговаривал Филипп на ходу.
– Он, конечно, является уж отщепенцем. Есть профессии, которые вполне определяют, – говорила Наденька; она разгоралась. – Есть такие профессии, товарищи...
Наденька встала, держась за спинку своего стула. Все на нее глядели. Глядел и Филипп горячими глазами.
– Есть профессии, которые сразу же определяют отношение человека ко всему обществу. В старой Германии палач...
– Вот именно что палач, форменно палач, – и Филипп хлопнул ладошами.
– Палач... даже кружка у него была своя, на цепи, в пивном погребе... чтоб никто из нее случайно не выпил, и с ним никто не говорил.
– И говорить с ними, сволочами, нечего. Какой может быть с ними разговор? Ты ему одно, а он все...
– На цепи, сказываете? – Рыжий литейщик впился глазами в Наденьку.
Все загудели.
В это время дверь приотворилась, и в комнату тихонько втиснулся человек в серой тужурке и в русских сапогах. На вид лет сорока. Он молча остановился у двери, оглядывая собрание. Филипп не сразу его заметил. Но, взглянув, он вдруг метнулся:
– А, Кузьма Егорыч!
– Ну, ну, продолжайте.
Но все стихли. Самовар пел задумчивую ноту, как ни в чем не бывало.
Филипп вполголоса шептался у двери с Кузьмою.
– А, про косвенные налоги, – расслышала за спиной Наденька.
– Уж кончили, можно сказать... Да, да, вместо Петра... И они вышли в коридор.
Лай собачий
НАДЕНЬКА чинно встала. Она уже натянула один рукав своего салопа, как вскочил в комнату Филипп и бросился помогать. Лицо у него было красное, он улыбался, он признательно суетился, отыскивая Наденькину косынку. Два раза переложил из руки в руку и подал. Он кивнул товарищам:
– Я – проводить, а вы потом выкатывайся по одному.
Наденька пошла деловой походкой, как будто ей еще в два места надо поспеть. Филипп шел рядом, наклоняясь и поворачиваясь к Наденьке. Теперь они шли прямо по Второй Слободской.
– Вот я вам говорил, товарищ, – наклонялся Филипп, – что про мастеров, вот оно, видали? Я вам говорю, я уж знаю. Здорово мы с вами как, а?
– Да, – сказала Наденька сухо. – Но я думаю...
– Насчет спичек думаете? Это тоже здорово. Я ведь знаю. Я уж видал. А то я, сказать, боялся, уж не сердитесь, женщина – думал, по-нашему сказать, извините, – баба. Пойдет, думаю: в тысяча шестьсот сорок тридцатом году в Америке, у черта на хвосте... А теперь я знаю: побей меня Господь, они сидят там и говорят: вот Филька бабу привел – это да. Верно вам говорю.
Наденька глянула на Филиппа.
– Свернемте, здесь тише.
Они вошли в пустой переулок. Сквозь закрытые ставни кой-где светлыми кантами виднелся свет.
Филипп легонько взял Наденьку за локоть.
– Идите серединой, а то вдруг собака.
– А вы учились где-нибудь? – спросила Наденька. Спросила участливым, ласковым голосом.
– Какое же ученье? Все сам, знаете. Вот сейчас хожу... – И Васильев рассказал, как он ходит в тот самый университет, который устроил знакомый Тиктиных старичок. – Астрономию, как земля получилась. А то, знаете, что же, не про Адама же с Евой – раз, два – и кружева.
В это время из темноты, со сдавленным воем, пулей понесся пес – черным пятном на серой дороге.
Филипп быстро рукой отодвинул Наденьку и сунулся на собаку.
– А, ты, стерва! – Филипп нагнулся за камнем. Собака осадила, проехала в пыли на четырех лапах, повернула и, отскочив на два шага, стала бешено лаять. Филипп шарил на земле камень.
– Не пугайтесь, – кричал он через лай Наденьке, – я ее сейчас.
Со всех дворов тревожным лаем всполошились собаки.
Филипп нашарил большой булыжник и, размахнувшись, бросил: слышно было, как об твердое ляпнул камень, и собака отчаянно завизжала. Во дворах на минуту лай примолк и снова рванул с новой силой.
– Ах, зачем же так, – сказала Наденька. В это время звякнула щеколда, и грубый мужской голос из темноты заорал на весь переулок:
– Ты что же это, сукин ты сын, озоруешь? Морду тебе набить надо.
– Тебя б с собакой твоей на цепь посадить. Проходу нет, – кричал Филипп с улицы.
Белое пятно отделилось от черного забора – человек шагал, глухо ступая по пыли.
– Давно вам рыла не били, – сказал он, подойдя на шаг к Васильеву, шляетесь с девками тута.
Наденька плохо слышала среди собачьего лая, она только видела, как Филипп весь махнулся вбок и хрястнула затрещина и следом другой, глухой удар. Белая рубаха свалилась в пыль.
– Пошли, пошли теперя, – сказал Васильев, запыхавшись. Он взял Наденьку под руку, крепко, как никто раньше не брал, он почти поднимал ее сбоку, и она толчками скакала рядом с его широкими шагами.
– А-а! – хрипел сзади плачущий голос, и камень полетел и прокатился в стороне.
Филипп дернулся, оглянулся. Остановил шаг.
– Идемте, идемте, – шептала, запыхавшись, Наденька.
– Камнями еще, сволочь... – шипел Филипп. – Совершенно же несознательный народ, – сказал Филипп, когда они свернули в освещенную улицу. – Дикари и туземцы, можно назвать.
Они входили в город. Филипп отпустил Наденькину руку, и немного стало жалко. Он шел рядом, глядя под ноги.
– А вы не пробовали заниматься сами? – спросила Наденька. Спросила уважительно и бережно.
– Один коллега начал со мной по-русски... "Коллега, коллега, – думала наспех Наденька. – Ага, студент! Хорошо и смешно".
– ...дошли до уменьшительных, ласкательных, и ему не стало времени. Так оно и... – говорил Филипп в землю.
– Да, без руководства трудно, – сказала Наденька. – Мы как-нибудь об этом...
Наденька уж подходила к дому, где она у подруги переодевалась.
Наденька остановилась.
– Ну, большое вам спасибо, – сказал Филипп и крепко тряс Наденькину ручку. Наденьке было больно и приятно, что ее ручка тонула в плотной, горячей Филипповой ладони.
Как на доске
АНДРЕЙ Степанович собирался на службу. Он чистил в передней свою серую фетровую шляпу мягкой щеткой. Чистил внимательно – в полях, в закоулках. В гостиной горничная Дуня бесшумно возила щеткой по глянцевому паркету. Дуня бросилась на звонок. Башкин стоял на пороге со свертком под мышкой и, улыбаясь, кланялся Андрею Степановичу. Раскачивался, улыбался и не входил. Андрей Степанович сделал официальное лицо.
– Прошу! Пожалуйста! – и пригласительно махнул округло щеткой в воздухе. Башкин вступил.
– Я на минутку, можно? – Башкин все кланялся и улыбался уж несколько иронически.
– Сделайте одолжение, – сказал Тиктин, взявшись за щетку.
Наденька удивилась: кто так рано? Башкин уже кланялся в дверях столовой. Анна Григорьевна кивала ему с конца стола. Башкин разбрасывал широко ноги, изгибался и все-таки задевал стулья. Он приготовил руку и нес ее высоко, чтоб подать Анне Григорьевне. Он сел рядом с Наденькой, сел на кончик стула, плотно сжал свои острые колени, уложил на них пакет и начал, слегка покачиваясь:
– Вы помните, меня просили, – он глядел на Наденьку проникновенными глазами и говорил грустным, интимным голосом, – вы просили меня...
Анна Григорьевна насторожилась – так говорят о покинутых девочках и больных старушках.
– Уже месяца два, я думаю, тому назад. Вы просили, чтоб я достал вам немецкое издание Ницше, – продолжал Башкин тем же голосом, – так вот, мне удалось достать вам... вот здесь она, эта книга, – Башкин положил на стол завернутый в газету томик.
– Можно вам чаю? – спросила Анна Григорьевна и взялась за чайник.
– Нет, благодарю вас, я не пью чаю, – говорил Башкин неторопливо и наклоняясь в такт слов.
– Можно кофе, если хотите, – Анна Григорьевна потянулась к звонку.
– Нет... благодарю вас... я и кофе не пью.
– Что же вы пьете? – спросила Наденька.
– Я... ничего не пью, – тихо и размеренно сказал Башкин. Он глядел в глаза Наденьке углубленным взглядом. – Я... ничего не пью... до вечера, до шести часов.
В это время незнакомые шаги застучали в коридоре – тяжело и плотно. Алешка Подгорный вошел в столовую, следом за ним протиснулся Санька.
– А! – закричал Башкин. – Вот я рад! – Он вскочил и, нелепо раскорячась, шагнул к Подгорному. Размахнулся ухарски рукой и шлепнул с размаху в ладонь Алешке.
Алешка держал Башкина за руку, кланялся дамам.
– Садитесь, садитесь, – суетился Башкин. – Вот, господа, – уличным голосом закричал Башкин и выпятил свою узкую грудь, – известный естествоиспытатель и атлет, знает по имени-отчеству всех козявок, поднимает на плечах живого быка! – Башкин вытянул руку вбок жестом балаганщика.
Алешка сел. Башкин плюхнулся на стул рядом, вытянул локоть на стол, сморщил скатерть. Наденька поддержала молочник. Башкин подпер голову, запустил лихо пятерню в волосы, повернулся к Алешке
– Слушайте, вы, должно быть, из лесов каких-нибудь, из дремучих? Башкин свободной рукой обвел в воздухе шар. – А? Я угадал? Правда ведь? Расскажите нам про леса дремучие, где звери могучие, – декламировал Башкин.
– Слушайте, черт вас дери, уберите свои ноги, – сказал Санька, споткнувшись.
Анна Григорьевна укоризненно глянула на сына.
– Да нет, – ворчал Санька, – две ноги, а всюду спотыкаешься, как сороконожка какая...
Башкин дрыгнул ногой, но остался в раскидистой позе.
– Простите, ваше имя-отчество, – наклонилась Анна Григорьевна.
– Башкин! – закричал Башкин. – Просто – Семен Башкин. – И он опять уставился на Алешку.
– Вы чего орете? – огрызнулся Санька. – Вы не в пивной, черт бы вас совсем драл.
Анна Григорьевна и Наденька смотрели во все глаза на Башкина.
– Ну, ну, расскажите, – бойко теребил Башкин за плечо Алешку.
– Да стойте, я чай разолью, – усмехнулся Подгорный.
– Ну, рассказывайте, или я пойду, – крикнул Башкин. – Не можете? Прилип язык? – Башкин вскочил, громыхнул стулом. – Всем поклон, – сказал Башкин в дверях, кивнул головой вполоборота и зашагал в коридор.
– Слушай, он же обиделся. – Анна Григорьевна глянула на сына, встала, бросила салфетку на стул и заспешила вслед Башкину.
Башкин, надев пальто в один рукав, спешил к двери. Он видел Анну Григорьевну, но выскочил. Хлопнул французский замок. Анна Григорьевна, вздохнув, пошла назад. Но стук в дверь ее остановил. Она открыла. Башкин, глядя в пол, сказал:
– Я, кажется, забыл что-то, – и стал шарить на подзеркальнике.
Анна Григорьевна пристально на него глядела. Они встретились глазами в зеркале, и Анна Григорьевна увидала в глазах Башки на слезы.
– Милый... не обижайтесь, пожалуйста, на нас, мой сын бывает груб. Это ничего, пожалуйста, приходите... я рада, господин Башкин. Это же пустяки. Ах, да. Вы что же забыли? – Анна Григорьевна осматривалась по сторонам.
– Забыл проститься с вами, – сдавленным голосом сказал Башкин и, поймав руку Анны Григорьевны, долго и крепко жал к губам.
С красным лицом Анна Григорьевна пошла к столу.
Башкин быстро, через три ступеньки сбежал с лестницы, внутри клубилось, и Башкин не знал еще, хорошо ли вышло все там, и он шагал во всю мочь, почти бежал. Он задыхался и вдруг встал, встал неожиданно, как вкопанный, на тротуаре. Сзади с разбегу толкнул его прохожий. Башкин поклонился, сложившись вдвое:
– Извините, Бога ради, простите. Я вас толкнул.
И тут только Башкин заметил, что светит солнце с неба вдоль улицы и что деловая улица не шумит, а как-то весело мурлыкает, и вон по той стороне какая-то девочка бежит вприпрыжку с пакетом. Держит перед носом: должно быть, послали в лавочку. Девочка остановилась. Она смотрела, как мальчик катал другого на сломанном детском велосипеде. Башкин зашагал через улицу, он сбил шапку чуть на затылок и улыбался.
– А ну, дай-ка! – И Башкин взял велосипед за ручку. Он прокатил велосипед по тряскому тротуару. Седок подпрыгивал и решал: плакать или это ничего. Другой догонял, он зло смотрел на Башкина.
Башкин выпрямился и спросил, запыхавшись:
– Тебя как звать?
– Это мой велосипед, – сказал мальчик и взялся за ручку.
Башкин засмеялся. Мальчишка спихнул с сиденья товарища и поволок велосипед в сторону. Велосипед забренчал по камням. Башкин все стоял и насильно улыбался. Мальчишка обернулся и высунул язык. Башкин оглянулся. С той стороны улицы смотрел на него человек, смотрел без улыбки, лениво. Он отвернулся и не торопясь пошел прочь. Человек в полупальто и фуражке – как будто разносчик без дела.
"Противно, что видели", – думал Башкин. Но снова он услыхал, как мурлыкает улица на солнце, встряхнулся и веселыми ногами пошел, толкаясь, по тротуару.
Вспомнил, как было у Тиктиных, и сбавил ходу.
– Нет, нет, – шептал Башкин, – могло же этого не быть, ничего... никаких Тиктиных. Все можно заново. Стереть... – и Башкин провел в воздухе рукой, – как с доски.
Он вспомнил, как говорил француз в гимназии: "Effacez са!"* – и ученики стирали с классной доски.
–
* Сотрите это! (фр.)
"По-новому, по-новому начну", – думал Башкин. Он не знал еще, как – и весело шагал вперед.
Он остановился около книжной витрины и стал разглядывать книги. Хотелось купить что-нибудь новое и серьезное.
"Опыт исследования органов внешних чувств речной миноги" – читал Башкин и глядел на мелькавшие в зеркальном стекле отражения прохожих.
Опять человек в полупальто. Башкин почувствовал, будто что-то жмет между лопатками. Он поерзал спиной и оглянулся.
Человек стоял против колонны с афишами: он глядел на Башкина и тотчас перевел глаза на афишу.
С. и С.
БАШКИН колебался между двумя чувствами: "Все сволочи и мальчишки тоже. Тина и паутина. Плевать, плевать", – губы отвисали тогда на скучном лице. "Или по-новому. Бодро, бойко, весело, с искрой", – и Башкин улыбался и шагал скорей.
У него было три урока в этот день.
Один урок он дал скучно и плевательно. Но два другие прошли бойко. Ласково и весело вышло с Колей.
Дома Башкин шутил со старухой. А вечером сел писать "Мысли". Очень хотелось утвердиться по-новому. Он надеялся, что удастся выработать тезисы. Тезисы, по которым жить. Он достал пакет с открытками и решил уничтожить.
"Уничтожу! Сожгу! Прогляжу напоследки один раз – и в печку! Ах, чепуха какая", – думал весело Башкин и положил красавиц на письменный стол сбоку.
Он вынул тетрадь и задумался с пером в руке. Поставил цифру 1. Это тезис первый.
"Не врать! Не врать! Первое – это не врать".
Но написать: "не врать" Башкин не решился, – а вдруг кто увидит? И поставил:
"1. Н.В.".
"Я пойму, – думал Башкин, – а больше никому знать не надо... Второе! Что второе? Спокойствие.и смелость!" – решил Башкин. И он с радостью поставил:
"2. С. и С.".
Ему казалось, что вот пришла судьба и дала ему белый лист: что тут напишешь, то и твое. И ему казалось странным, как он раньше не додумался, это так просто. И он жадно думал, чего бы еще пожелать.
Был уж второй час ночи. В окна стучал дождь, и от этого в комнате казалось уютней. Башкин прилег на кровать и думал, уткнув перо в угол рта.
Резкий звонок в коридоре. Башкин вздрогнул. Привскочил на постели. Звонок рванул еще раз. Заохала старуха за стенкой. Башкин вышел в коридор. Он часто дышал. Руки слегка тряслись.
– Спросите, спросите – кто, не отпирайте, – старуха высунула нос в двери.
– Кто там? – напряженным горлом спросил Башкин.
– Телеграмма Фоминой, – ответил голос.
– Вам телеграмма, – сказал Башкин старухе.
– Господи-светы! Познь какую.
Башкин открыл.
Два городовых и околоточный быстро протиснулись в двери. Заспанный дворник хмуро глядел на Башкина. Запахло мокрым сукном.
– Вы это будете господин Башкин? – спросил околоточный, надвигаясь на Башкина рябым, серым лицом.
Башкин растерянно отступал к своей двери. Околоточный оглянулся на дворника.
Дворник закивал головой.
– Эта, эта ихняя комната, – скучным голосом сказал дворник. Облокотился плечом о косяк и достал коричневый тряпичный кисет.
– Вы что же? Посмотреть? – сдавленно сказал Башкин и попробовал улыбнуться. Перо слегка подрагивало в его руке.
– А вот по распоряжению Охранного отделения обыск, – сказал хмурым, усталым голосом квартальный. Достал платок и обтер мокрые усы. – Садитесь! – И он указал на край кровати. – Стань здесь! – Околоточный ткнул городовому пальцем. Городовой тяжело шагнул и стал рядом с кроватью.
Старуха, придерживая на груди кофту, совала издали нос.
– Ничего, ничего, – сказал околоточный, – пусть оденется, протокол подпишет. – Околоточный тяжело упал на стул и сдвинул шапку на затылок. Он, пыхтя, потянул ящик стола.
– Тут есть не мое... – сказал Башкин и дернулся с кровати. Городовой протянул толстый, как бревно, черный рукав шинели.
– На месте сидите.
– Это все разберут... там, – скучно и важно мямлил околоточный, перелистывая "Мысли" Башкина. – Тэ-экс... – и отложил в сторону. – Оружия нет? – спросил квартальный, не поворачиваясь.
– Какое, какое? – спросил Башкин. – Ножик у меня есть, – и Башкин торопливо вынул из кармана перочинный ножик и на дрожащей ладони протянул околоточному.
– ...револьвер или... бомбы, – говорил околоточный, разглядывая открытки красавиц. – Женским полом интересуетесь? Городовой хихикнул.
– Где у вас переписка? – вдруг повернулся околоточный к Башкину, повернулся резко, зло. – Письма, письма где? И сейчас же обратился к городовому в дверях:
– Вынь, что в комоде. Какие бумаги – сюда, – и хлопнул по столу. Лампу, скажи, пусть даст.
Башкин слышал, как старуха зашлепала к себе в комнату. Она вернулась с лампой, совала ее городовому, услужливо, хлопотливо.
– Колпак можете снять, так светлей, – и глянула зло на Башкина. – А вот он кто, – громко шептала старуха, – вот он сказался-то когда...
Башкин заерзал на кровати.
– В чем вы меня подозреваете? Почему вы ищете? – вдруг заговорил он громко, лающим голосом. – Я не крал. Пожалуйста, я вам все покажу. Господин надзиратель! Давайте я вам покажу – это гораздо ведь проще.
– Сидите на месте, – едва слышно буркнул квартальный.
В это время резким рывком открылась входная дверь, мелодично зазвенели шпоры. Жандармский ротмистр ткнул зазевавшегося дворника. Околоточный вскочил навстречу и поправил фуражку.
– Ну что? – спросил ротмистр.
– Изымаю, – быстро сказал надзиратель и отшагнул от стола. Ротмистр, слегка согнувшись, огляделся. Повилял фалдами шинели.
– Это вы – Башкин? Башкин встал.
– Да, да, я Башкин, только я не понимаю, ничего не понимаю, – Башкин сделал веселое лицо, – зачем-то перемяли мне белье, только из стирки... сегодня... то есть третьего дня...
– Ага, – сказал, не слушая, ротмистр. – Вы, господин Башкин, одевайтесь, мы вас задержим. А тут не беспокойтесь, – все это у вас будет цело.
– Свезешь!
– Слушаю, – сказал городовой.
Он держал пальто и помогал Башкину попадать в рукава.
– Ей-богу, я ничего... ничего не понимаю, – говорил Башкин и деланно улыбался.
Ротмистр перебрасывал книги.
Голые люди
АННА Григорьевна вернулась к столу красная, ушла лицом в себя, села и чужими рассеянными глазами мигала на Саньку, на Наденьку.
Все помолчали минуту.
– Все-таки нахал, как ты хочешь, – сказал Санька, ни к кому не обращаясь. Так, через стол. И отхлебнул чаю. Никто не ответил. Вдруг Анна Григорьевна проснулась.
– Нет, нет, – заговорила она и еще пуще покраснела, – он, наверно, перенес что-нибудь, что-нибудь ужасное... или судьбу чувствует.
– Роковой... подумаешь, – сказал Санька с полным ртом.
– Не форси, не люблю, – сказала Анна Григорьевна. Наденька молча перелистывала Ницше, прищурив глаза.
– Простите, что это у вас? – спросил Подгорный. Он глядел, как Наденька переворачивала странички.
– Ницше, немецкий... – и сейчас же уставилась прищуренными глазами на Алешку. – Скажите... мне вот интересно, – сказала Наденька, – если б вам задали вопрос, дети, скажем... Как авторитету... спросили бы: есть Бог? Нет, или лучше так: верите ли вы в Бога или нет?..
Санька глядел на Подгорного с улыбкой, с надеждой, готов был радоваться. Он не знал, что скажет Алешка – да или нет, но уж наперед верил, что здорово.
Наденька, вся сощурясь, глядела пристально на Алешку. Анна Григорьевна осторожно поставила стакан, чтоб не брякнуть.
– Должно быть, верю, – сказал Алешка, улыбнулся и сейчас же нахмурился, – потому что злюсь на него и ругаю каждый день раз по сту.
– Ну, а если б спросили: есть он?
– Спрашивали меня: членораздельно ответить не могу.
– Гм, так, – сказала Наденька. – Тогда лучше не отвечайте. – И опять принялась за странички.
– Конечно, в Бога с бородой, верхом на облаке... – начал Алешка. Он слегка покраснел.
– Это я знаю, – сказала небрежно Наденька, – вы уж ответили.
– Это она констатирует и формулирует, – сказал Санька. Он тоже прищурил глаза и показал, как Наденька держит головку.
– Отрежь мне хлеба, – сказала Наденька.
– Тебе побуржуазней или пролетарский кусок? – Санька взял нож и насмешливо глядел на Наденьку.
– Пошло!
– Скажите, какой соций у нас завелся. Святыни задели.
– Отрежь хлеба, я прошу же, – сказала Наденька строго.
– Это что, уж диктатура приспела? Да?
– Дурак.
– Мы-то все дураки. А я тебе говорю, что посели вас всех на Робинзонов остров, первое, что построите, – участок. Да, да, и еще красный флаг поверх поставите. Режу, режу, не злись.
Санька протянул кусок хлеба.
– Скажите, вы в самом деле социалистка? – спросил Алешка, спросил серьезно и уважительно. Наденька на секунду взглянула на него. Алешка мягко и сочувственно глядел на Наденьку.
– Да, я придерживаюсь взглядов Маркса, – бросила Наденька.
– Скучная история.
Анна Григорьевна вздохнула и прошла в кухню.
– Слушай, Надька, – заговорил весело Санька, – ты расскажи нам этот марксизм. Нет, попросту. Ну, представь себе, что земля первозданная, целина, леса, бурелом всякий. А люди все голые – с начала начнем, – так нагишом и сидят на земле. Все рядышком. Ну, кто здоровей, тот сейчас...
– Возьми, пожалуйста, и прочти и не будешь вздор городить. Надо приучиться марксистски мыслить прежде всего.
– Я понимаю еще – логически выучиться мыслить, а как-нибудь там технологически, или филологически, или марксологически – это уж ересь.
И Санька глянул на Подгорного: правда, мол? Поддержи.
Но Алешка обернулся к Саньке и серьезно вполголоса сказал:
– Это тебе не арифметика. Ты бывал влюблен? Так знаешь, что все тогда по-иному кажется. Что было плохо, то стало дорого...
– Ну, вы здесь влюбляйтесь, – сказала Наденька, – а мне пора... – Она встала и, заложив палец в книгу, пошла к себе в комнату.
Весы
САНЬКА Тиктин сидел в весовой комнате университетской лаборатории. По стенам – столы. Вделаны на крепких кронштейнах, на них химические весы в стеклянных шкафчиках. Санька был один, было тихо и чисто. Весы напряженно, строго смотрели из-за стекла. Но это чужие весы, на них весят другие. Свои весы Санька знал и любил. Они ждали его. И когда Санька осторожно поднял шторку стекла и пустил весы качаться, весы приветливо заработали: а ну, давай. Медленно, спокойно заходила стрелка по графленой пластинке. И в Саньку вошло веселое спокойствие. Он осторожно клал пинцетом золоченые гирьки разновеса, весы ожили и старались. В этой комнате нельзя было курить, была блестящая пустая чистота, и здесь говорили шепотом и осторожно ходили. Санька уважал и любил весы. Он кончал анализ – три недели работы, три недели Санька фильтровал, сушил, нагревал, и это последнее определение он подсчитает, и должно выйти сто процентов. Но Санька подсчитал наперед и теперь подкладывал гирьки, с опаской поглядывал, – не вышло бы больше, больше ста процентов. Немного меньше – не беда. Санька менял гирьки, – весы отвечали: то правей, то левей ходила стрелка. Теперь оставалось последнее: сажать на коромысло весов тонкую проволочку, осторожно, рычажком. Эту проволочную вилку Санька аккуратно пересаживал по делениям коромысла. Вот-вот уже в обе стороны ровно отходит стрелка. Через закрытую шторку Санька следил за стрелкой. Он просчитал вес. Да, выходило сто два процента. Санька остановил весы.
Снова просчитал гири – сто два процента. Санька напрягся нутром, но теми же спокойны-ми движениями опять пустил весы. Как медленный маятник, поползла стрелка влево и устало поплыла вправо. Весы как будто нахмурились. Они смотрели вбок, но не могли показать иначе.
Санька разгрузил весы. Аккуратно, напряженной рукой уложил разновес в бархатные гнезда коробки и ушел, не обернувшись на весы. Весы тоже не глядели на Саньку: некстати, правда, – уж не взыщите. Тиктин ушел вдаль по коридору и на подоконнике зло, поминутно слюня карандаш, стал заново вычислять.
– Шестью семь ведь сорок два, – шептал Санька, – сорок два. Два пишу, – и обводил пятый раз двойку, с силой вдавливал карандаш, – итого сто два и три десятых процента. Вот сволочь какая! – И Санька снова на чистой странице начинал счет сначала. Цифры выходили те же. Санька не досчитал, свернул тетрадь, сунул в карман. Навстречу семенил короткими ножками старик-профессор. Санька виновато и недружелюбно ему поклонился. А такой приветливый старичок. На лестнице Саньку остановил однокурсник. Студент этот был в пенсне, высокий; на угловатой голове идеальной плоскостью стояли ежиком волосы. Как будто сверху еще что-то было, но это отпилили пилой ровно, гладко. Студент зацепил палец за борт тужурки, тужурка была застегнута на все пуговицы.
– Вам не встречалось в цейтшрифтах чего-нибудь о работах Иогансена по кобальтиакам? – Студент очень умным взглядом смотрел на Саньку.
Санька знал, что студент нарочно так громко спрашивает Саньку об этих глухих частностях, нарочно солидно, на всю лестницу, и знал, что студенту хочется, чтоб и Санька сделал умное лицо и важно промямлил бы что-нибудь, как будто вспоминая. Можно было бы и врать, лишь бы слышали кругом те, что сновали по лестнице. На них студент недовольно косился – сквозь пенсне.
– Толкутся тут.
Саньке было противно. Скажите, приват-доцент какой! Но все это было где-то и шло стороной, а в глазах мельтешили цифры, карандашные записи.
И вдруг Санька крикнул ему в наморщенные брови:
– А из двенадцати семь? Семь из двенадцати? Пять, а вовсе не шесть.
И Санька опрометью бросился прочь.
Ну, теперь другое же дело: девяносто девять и шесть! Санька помнил, что не положил пинцета в коробочку с разновесом. Он побежал в весовую. Укоризненно глянули весы. Санька истово запрятал пинцет, поставил коробочку. В дверях он повернул назад и поправил коробочку. Санька гордо посмотрел на позеленевшие пуговки своей тужурки: эти зеленые от сероводорода пуговки говорили, что он химик. Саньке захотелось пойти к старичку, к профессору. "Свинство какое, – думал Санька, – тряхнул я ему головой, как бука какая. Приду и спрошу... ну, что-нибудь по делу. Можно ли титровать? Нет, не титровать, а что-нибудь". Санька почти бежал по паркетному коридору в конец, к профессорской лаборатории.
Старик в холщовом халате стоял перед стеклянным вытяжным шкафом. Пробирки и колбочки в аккуратном порядке стояли на столике, покрытом фильтровальной бумагой. Чистая, чинная посуда важно поблескивала. В воздухе стоял тонкий невнятный химический запах.
Санька влетел и стал на пороге.
Старик что-то кипятил в шкафу и, не отрываясь, приветливо закивал Саньке. Санька краснел и улыбался, он придерживал еще ручку двери:
– Скажите, Василий Васильевич... из двенадцати... то есть... девяносто девять и шесть хорошо?
– Если процентов,– смеялся профессор, глядя в шкаф, – то...
Но Санька, до ушей красный, уж дернул ручку.
Шинель он надевал, насвистывая, и все улыбался и, краснея, вспомнил старика.
"Но, черт возьми, дело сделано, – и Санька чувствовал, что можно побаловать себя. – Чего бы? Закатиться куда-нибудь. Заслужил".
Именинником вышел Санька на мелкий дождик, на слякоть. Прохожие шли, глядя под ноги, злой походкой, как в изгнание. Санька скакал через лужи, нарочно выбирал большие.
Кафешантанный зал горел огнями, зеркалами. Огни играли на графинчиках, бокалах, ножах, на мельхиоровых мисках, в ушах, на запонках, на лысинах, на офицерских погонах. Море светлых зайчиков зарябило у Саньки в глазах. И дух стеснился от удовольствия, от ожидания. Он был в тужурке с зелеными пуговицами; она сейчас была ему дорога, как гусару простреленная фуражка.
Алешка Подгорный все в том же сюртуке: он не был еще дома, он вторую неделю "нырял" – ночевал по чужим квартирам.
Чистый столик, старательно оттопырилась по углам крахмальная скатерть. Алешка с высокого роста сразу нацелился и стал протискиваться среди публики. Гомон и звяканье посуды и какой-то возбужденный гул стояли над головами людей. Этот гул вошел в Саньку, и, когда оркестр грянул с треском и звоном марш, что-то защемило глубоко у Саньки в груди, больной и сладкой нотой запело. И поверх звона и барабанного треска плавал голос скрипки. Женский, просящий.
– Забубенная музыка, – сказал Алешка и навалился на стол, подпер руками голову, – под такую, верно, музыку и пропил папаша-то мой казенные деньги.
Официант пробирался мимо, балансировал, как жонглер, блестящим подносом с бутылками, мисками, бокалами; в другой руке между пальцев он сжимал графинчик и с полдюжины рюмок. Он извивался между стульев и вихлял, раскачивал поднос с посудой как будто только для того, чтобы похвастать искусством.
Санька на ходу заказал ему майонез и графинчик водки, и лакей кивнул головой в ответ и вертнул подносом.
Санька налил из потного графинчика себе и Алешке, и вдруг стало радостно и уютно, будто это их дом, и в этом доме они поедут куда-то и что-то там по дороге увидят.
– Понимаешь, – говорил Санька, – считаю – сто два и три. Что за черт, думаю?
Алешка задумчиво кивал головой и улыбался музыке.
– Да что я, весить не умею? – продолжал Санька. Он не спеша рассказывал: – Раз, два, десять раз считаю – сто два и три! – и Санька сиял. Ему хотелось рассказывать приятное, и он видел, что сквозь музыку слушает Алешка эти сто два и три и ласково и грустно улыбается.
Музыка грянула последний аккорд, и стали слышны голоса и нестройный крик, каким говорят, чтоб перекричать оркестр. Сбоку у занавеса высунулась доска с цифрой. Четыре. Санька глянул в программку:
"4. La belle Эмилия, звезда Берлина и Мюнхена".
Капельмейстер сверкнул в воздухе белой манжетой, и труба заиграла военный сигнал – с места резанула медным голосом, как веселый приказ. Все повернулись к сцене. Оркестр лихо подхватил сигнал и бодро запрыгал мотив кавалерийской рыси – весело, избочась.