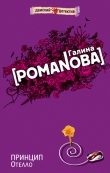Текст книги "Виктор Вавич (Книга 1)"
Автор книги: Борис Житков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Виктор, отворотясь от зеркала, засеменил назад к кровати, быстро скинул с себя все и в белье, со свечкой в руке, подошел к шкафу. Он все смотрел на свое бледное лицо, – черненькие усики слегка вздрагивали.
– Витя... Витя, – говорил себе в зеркало Вавич. В коридоре хлопнула дверь, кто-то прошаркал сапогами в конце коридоpa. Виктор сделал серьезное лицо и пристально оглядывал прыщик на подбородке.
– Виктор Всеволодович, – сказал твердым голосом Вавич.
Он поставил свечку на стол и, доставая папироску, нарочно громко щелкнул портсигаром.
В кровати Виктор выкурил до конца коробку папирос и заснул в дымной комнате.
Утром первое, что глянуло на Виктора, это была новенькая тугая фуражка на столе с полицейским значком. Виктор протер рукавом глянцевый козырек, повертел фуражку в руках и, сидя на кровати, стал примерять.
Больше набекрень. Нет, уж больно, пожалуй, лихо. Босиком прошлепал к зеркалу. Солнце дымными полосами переливало в комнате. Виктор в одной рубашке прилаживал фуражку, чтоб в меру набекрень. Наладил. Виктор, улыбаясь, взял под козырек.
"Нет, надо как следует!"
Виктор брился, тер щеки полотенцем докрасна, начистил зубы до блеска и стал одеваться перед зеркалом. Новый казакин ласково обхватил Виктора, суконный пояс с малиновым кантом огорчил было, но шашка сразу все скрасила. Виктор натянул белые перчатки. Белой рукой взял под козырек – другoe дело. Теперь самое главное – усмешку судьбе.
"Ух, как здорово!"
Галантность! Наклонился вперед, чуть-чуть согнул талию и мягко руку к козырьку. Улыбка. Виктор шаркнул – и под козырек. Опять шаркнул и с легким вывертом приложил к блестящему козырьку белую руку.
Затем Виктор остановил уличное движение. Он откидывался назад и поднимал руку, слегка растопырив пальцы. Вынул шашку, нахмурился, на цыпочках наклонился вперед – подойди.
– Стой, мерзавец! – шипел Виктор.
И тут вспомнил о швейцаре.
Виктор наспех убрал в шкаф старое платье и вышел в коридор. Он, не торопясь, скрипел по лестнице новыми ботфортами. Швейцар снизу, поверх очков, глядел, подняв брови, на Виктора. Перо у него было в зубах и в руке бумага – махал, чтоб высохла. Вдруг швейцар отскочил вбок. Виктор спустился, важно огляделся. Внизу было пусто. Швейцара не было. Виктор крикнул:
– Швейцар! Никого.
– Швейцар! – повторил Виктор. – Пойди сюда. Швейцар!
Сверху номерной глянул через перила и скрылся. Виктор вышел на крыльцо и стал со всей силы давить кнопку звонка.
– Ишь, мерзавец! Ишь, мерзавец! – шептал Виктор. За стеклом двери метнулась фуражка с галуном.
– Поди сюда! – заорал Виктор, весь красный, и сам двинулся в вестибюль. – Ты что? – кричал Виктор, подступая к швейцару. – Ты что же, я говорю? Чего тебя у дверей нет? Чего тебя, мерзавца, у дверей нет? Чего тебя, подлеца... распросукин ты сын... Колпак скинь, сволочь! – и Виктор замахнулся, чтоб сбить шапку.
Швейцар сдернул с головы фуражку.
– Ка-ак стоишь? Рвань! – Виктор, красный, напирал на швейцара. Са-ва-лачь! – крикнул Виктор в самое лицо швейцару. Поворочал глазами минуту и медленно повернулся к двери. – Учить вас надо! – в дверях процедил Виктор.
Запыхавшись, Виктор спустился с крыльца, левой рукой он придерживал шашку, слегка отставив локоть.
На пролетке
САНЬКА заперся на ключ. Он сидел за письменным столом. Булавка с фигурной серебряной головкой стояла перед ним, – он воткнул ее в зеленое закапанное сукно. Стояла стройно, блестяще, как она. И молчала так же. Красивая и живая – и молчит, молчит. Санька не мог отвести глаз. Он не знал: молиться ему на нее или погладить, ласково, бережно. Придет же она еще, придет к Надьке.
– Приди, приди, – говорил Санька. Ему казалось, что булавка глядит, опустив глаза. – Ну, что хочешь, все, все... – говорил Санька, захлебываясь, – Ну, на, на, – и Санька выдернул булавку и воткнул в руку меж указательным и большим пальцем. Приятно было, что больно, и Санька с наслаждением втыкал глубже и глубже, пока, не почувствовал, что булавка проходит насквозь. Он вытянул булавку, поцеловал ее и заколол во внутренний карман сюртука. Булавка острым концом слегка колола тело. Санька горел, неровно, глубоко дышал. Надо было спешить скорей идти делать – и все, все для нее.
"Вот для чего! – Как будто все открылось. – Все для нее, – вот, оказывается, что!"
Санька заново оглядел свою комнату; и все вещи, и диван, и шкаф как будто ухмыльнулись стариковски-весело: "Ну да, а ты не знал?"
"Окно, очень хорошее окно, плотно как запирается. Доброе окно какое. И муха осталась, пусть муха. Пусть живет мушка. Делать надо. Делать. Пока я увижу ее другой раз, сколько я наделаю. Надо спешить". Санька застегнул сюртук и погладил то место, где чувствовал булавку. "Какая к Надьке хорошая пришла. Нет, наша Надька хорошая. Где Надька?" Санька пошел скорей в столовую. Наденька одна за столом допивала свой стакан. Глядела в какие-то карандашные записи.
Наденька глотнула последний раз и стала пальчиками собирать бумажки.
– Надюша, налить тебе еще? – и Санька взялся за кофейник.
Наденька вскинулась глазами.
– Ну, выпей, миленькая, со мной. Ну, полстаканчика. Ну, рано ведь, ей-богу, – и Санька налил Наденьке.
– Понимаешь, мне некогда, – Наденька встала. Санька обхватил Наденьку за талию и насильно посадил ее на стул. Булавка покалывала сильней, и резвой силы не мог удержать Санька. Наденька смеялась, снисходительно, но весело.
– Фу, фу, перегаром!
– Пей, ты пей.
Санька наливал себе, проливал на скатерть, совал Наде сахарницу.
– Я тебя провожу? Хочешь? Ей-богу, мне все равно по дороге. Поправь себе воротничок. Не там, не там, дай я.
Наденька почувствовала первый раз у себя на шее трепетные и бережные руки. Вскинулась на брата и покраснела. Встала, пошла в прихожую. Пусто, жалко стало в столовой. И вдруг из передней:
– Если хочешь, проводи меня до Соборной площади. Санька бросился надевать шинель. Какая замечательная Наденька у нас!
– Слушай, Надька, – говорил Санька в ухо, – ей-богу, Надька, честное слово, если тебе надо, ты скажи, я тебе помогу. Надя искоса взглянула прищурясь.
– Нет, серьезно... что-нибудь. Наденька, миленькая, ведь тебя люблю ужасно. Дура ты, идиотка ты форменная, люблю ж я тебя.
– С перепоя! Не дыши на меня. Фу! Ты вот найди мне "Зрительный диктант" Зелинского. Поищи. Да, и вот посмотри там булавку шляпную – в прихожей.
– Какую булавку? – Санька задохся.
– С серебряной головкой, рожки какие-то. Потеряла подруга, прямо неловко. У нас в квартире. Иди теперь. Я одна.
– Ну, иди, иди, – говорил Санька, – иди, милая, – и хотелось вслед благословить ее, перекрестить на дорогу. И он стоял и смотрел Наде в затылок.
Надя обернулась: улыбаясь обернулась и замахала весело ручкой в перчатке, чтоб шел.
Санька повернул с тротуара на мостовую, что окружала сквер у собора. Нянька силилась втолкнуть детскую коляску на обочину тротуара. Санька подскочил, высоко забрал передок коляски и протащил еще шага два по тротуару. Закивал, заулыбался няньке и широкими шагами пошел на Соборную площадь. Дети, новенькие, чистенькие, как на картинках, суетились на песочной площадке. Приказчик важно вертел головой в новой шляпе...
"Чудак какой, – подумал Санька, – и, наверно, очень милый".
Вдруг хриплый крик:
– Не права! Не имеешь!
Санька обернулся. Пьяный сидел на земле. Он обвис на руке городового. Городовой носком сапога стукал его в зад. Ругался, весь красный, стиснув зубы.
– Важжайся с тобой!.. ссстерввва какая!
Кучка прохожих, все по-праздничному одеты, – никто не совался помочь. Санька бегом подбежал. Городовой яростно тыкал ножнами шашки пьяному в бок.
– Убивают! – орал пьяный.
Дети жались к нянькам.
Санька схватил городового за руку.
– Что вы делаете? Разве так можно?
– Действительно безобразие, – сказали в толпе. Санька подхватил под мышки пьяного. Булавка покалывала тело. Санька с жаром крикнул:
– Да подсобите кто-нибудь! – И двое сорвались на этот крик. Пьяный уж стоял, шатаясь, на ногах. Он оборотил мутную голову к городовому.
– Что ты, сукин ты сын, анафема...
– Ругаться! Ты мне еще ругаться, – городовой, пыхтя, сунулся к пьяному.
– Да бросьте, бросьте! Брось, я тебе говорю, – крикнул Санька. – Я его отведу, – и дернулся, держа пьяного.под руку, вперед. Кто-то помогал, потом пустил.
– Морду ему надо разбить, – хрипел пьяный и, спотыкаясь, рвался назад. Все смотрели, как волок студент растерзанного человека. Пьяный, по виду мастеровой, плевал тягучей слюной и, заплетаясь, бодал воздух.
– Где вы живете? Живешь, говорю, где? – теребил его Санька. Городовой издали следил, как идет дело. Отряхивал шинель после возни.
Санька подсаживал мастерового на извозчика.
– На Слободку кати, – крикнул пьяный. Извозчик тронул.
– Моррр-ды поразби... туды их в кадушку... – и мастеровой грозил в воздухе пьяным кулаком. И вдруг обмяк, согнулся вдвое и заревел, замотал головой. – Какое же право... – Санька крепче ухватил его за талию. – Стой, стой, – рвался мастеровой в слезах. – Я ж ему...
– Ничего, ничего, сейчас дома будем, – утешал Санька.
– Где живешь? – обернулся извозчик.
– Голубчик, товарищ дорогой, – говорил Санька и сам чуть не плакал с пьяным. Мастеровой, нахмурясь, старался удержать взгляд на Санькином лице.
– Где живешь? – кричал с козел извозчик.
– Петропавловская, – бурчал мастеровой.
Уж по мягкой, пыльной улице болталась пролетка. Въехали в Слободку. Мастеровой обнял Саньку и горланил песню. Вдруг извозчик стал. И прямо из-за лошади вышел городовой.
– Чего безобразите? Поворачивай в участок. – Городовой вскочил на подножку, покачнул пролетку.
– Слушайте, городовой! Ведь он сейчас тут живет. Я его везу домой. Я скажу, он не будет кричать.
Мастеровой хмуро глядел на городового и молчал.
– Так вы, господин студент, глотку ему зажмите, а то выходит скандалите. А еще студент. Городовой слез на землю и сказал:
– Трогай.
В этот момент пьяный прицелился глазом и рывком содрал номер у городового с фуражки: городовой едва успел придержать, чтоб не слетела.
– Стой! – заревел городовой. Он прыгнул на пролетку, давил коленом живот мастеровому, он совсем навалился на него, а тот, переломившись через задок, выл и вертел в воздухе рукой, сжимая бляшку.
Люди от дворов надвигались. Они шли все быстрей, чем больше их подходило.
Один уже бежал впереди, кивая головой на извозчика.
– Пошел, – крикнул городовой. – Гони!
Извозчик дернул. Пролетка металась по рытвинам, городовой выворачивал у мастерового бляху, и в кровь резала пальцы жестянка. Санька путался руками, поддерживал мастерового, лицо у того уже было в грязной крови, городовой совал ему клок шинели в рот и хрипел:
– Ты поори, поори ты, сволочь. Погоди у меня!
Пролетка стала у участка. Дежурный городовой сбежал с крыльца. Городовые разом сдернули мастерового с пролетки, тянули его за шиворот к воротам участка. Пьяный выл, упирался и, раскорячась, скользил подошвами по панели. Городовые молотили ножнами. Санька кричал что-то. Городовые с пьяным исчезли в калитке ворот. Извозчик тянул Саньку за рукав:
– Плати, барин. Что ж, полтинник следует.
Санька на секунду запнулся, полез в карман.
Калитка хлопнула, брякнула щеколдой, слышно было, как глох за воротами пьяный, обиженный вой.
Извозчик отпахнул синюю полу, стали видны деревенские порты.
– Пешком не попал, так на дрожках приехал. Не миновать, значит, судьбы. – Он, не спеша, запахивался на облучке.
– Какие сволочи! – Санька толкался в воротах, потом бегом бросился на крыльцо, вбежал по лестнице. Запах сапог, пота и бумажной затхлости стоял в дежурной. За барьером у стола сидел молодой квартальный. Другой – пристав боком протискивался из-за барьера, задирая живот. Городовой, тот самый городовой в фуражке без номера, вошел красный, запыхавшийся.
– Ваше высокородие, номер идол сорвал.
– Это черт знает что! – крикнул Санька. – Бить пьяного человека. Это...
– Не кричите, молодой человек,– строго сказал старший. – Здесь не университет. Говори, в чем дело, – обернулся он к городовому.
– Вот и студент с ним. Обои на извозчике. Скандал на всю улицу. Я стал резонить. А они номер сорвали.
– Кто сорвал?
– Да с мастеровых, видать. Завели его.
– Дать! – строго крикнул пристав. – Ступай. А вам чего?
– Так нельзя же бить человека.
– А что ж ему медаль за это повесить прикажете?
– Я требую, – говорил, захлебываясь, Санька, – требую...
– Разберитесь, чего там требуют... А вам стыдно-с с мастеровыми пьянствовать, молодой человек!
Очень просто
ТАЯ стояла с подругой у самого барьера. За барьером провал, и там музыканты. Антракт сейчас. Усаживаются. Инструменты пробуют. Суета звуков. Тая стоит боком к барьеру, одну руку положила на плюшевые перила и невпопад кивает головой на разговор подруги, а боком глаза видит его, Израиля. И чем больше видит, больше краснеет. Уж вся красная стоит и, задыхаясь, говорит подруге, как придется: "да... да... нет, ну да", и вдруг не было сил удержать глаз и боком скосилась в оркестр. Израиль глядел, прищурясь, и вдруг закивал и заулыбался. Улыбнулся и стал на минуту похож на доброго старика. Тая кивнула вниз и, не поднимая головы, пошла, скорей, скорей, и потянула подругу. Ей страшно стало, как будто все, все уже сделалось. И стыдное, и страшное, и такое кружительное. И все равно было, видела ли подруга. Она тянула подругу по коридору за руку и давила руку ей со всей силы, та крикнула:
– Тайка, да брось, – и выдернула руку. – С ума сходишь! Кольцо! В кровь!
Зазвонили, вытек народ из коридора, а Тая все сидела на грязном, противном диванчике. Пылью, пудрой и застывшим гомоном стоял вокруг душный воздух. И у Таи одно только кружило внутри широкими кругами: все уж кончено, и куда же теперь идти? И как будто нельзя никак домой. И дом не стал вдруг домом. Они там живут – старик, и мама лежит. Капельдинер прошел, покосился, нагнулся, поднял бумажку. И вдруг по коридору голоса, шаги. Громкие, хозяйские голоса. И Таинька двинуться не успела, как мимо прошли двое с футлярами, и за ними спешил он, Израиль, в котелке, с поднятым воротником. Он сощурился на Таю и вдруг стал, сделал шаг к ней и сказал просто, будто давно знаком:
– Что вы не идете в зал? В последнем же действии самое убийство. Вы же здесь ничего не можете видеть. Что?
– Сейчас, я сейчас, – говорила Тая, будто извиняясь.
– Что сейчас? – говорил Израиль. – Вам что-то сделалось? Нет? Уже начали. Так это – плевок. Антон, – крикнул Израиль капельдинеру, проведите барышню, где им сидеть.
Антон не спеша подошел.
– Пожалуйте, провожу.
– А что здесь сидеть? Тсс! Стой, Сеня! – крикнул Израиль. Он тронул котелок рукой, кивнул Тае и побежал за товарищем, забирая на ходу левой ногой.
Тая сидела в темном зале, и все, все внутри горело горячей кровью. Она часто дышала, ей было и страшно, и стыдно, и зачем он отвел ее сюда? Куда ей идти? И загорелся свет, хлопают, и надо уходить. Улица – и Тая первый раз подумала: "Куда же повернуть, чтоб домой?" Она медленно шла, нога за ногу. Вот она какая, наша улица, – как будто и не видала прежде. Закрытым, упористым показался ей дом. Тая постояла около калитки и чуть не постучала. Потом сразу схватилась, нажала щеколду и горькими шагами застучала по мосткам к крылечку.
– Ты, Таиса? – окликнул старик.
– Да, я, я, я! я! – досадливо твердила Тая.
– Я! Я! – еще у себя в комнатушке шептала Тая. Легла на кровать, не раздеваясь, не зажгла свечу.
– Я! Я! – твердила Тая и не замечала, что слезы капают на подушку.
– Ну и что ж, что я? – сказала Тая грубо, как будто ругалась с кем, и села на кровати.
И тут вдруг снова круглыми, горячими волнами задышало внутри, и стал перед ней Израиль, как был там в коридоре, когда подошел и прищурился на нее. Таинька дышала, работала грудью, широко и часто, и глядела в темно-синее ночное окно. Мелкий снежок сеял мимо стекол, как будто подгонял время. Тая смотрела на этот спешный лет, и на нем шло все с того самого мгновения: Израиль совсем, совсем добрыми глазами светил из прищуренных век. Ну да. Ну да, так же оно было. Смотрел и говорил: "Милая! зачем ты здесь сидишь? Я не хочу, чтоб ты здесь сидела. Одна в пустом коридоре". Хотел руку подать. Нет, при людях не надо. Сберег на потом. Приказал Антону посадить и посмотрел, как Антон дверь распахнул в темный зал.
"Нельзя же, нельзя входить. Никому! А он велел. Он, может быть, сам хотел войти и сесть рядом, близко, близко. Но ведь в пальто, с флейтой... И товарищи смотрят, ждут. И как он просто сказал. Какой милый. Милый, милый..."
Тут мысли стали, и только один снег, чистый, белый, сеял и сеял вниз вдоль стекол и гнал дальше и дальше волнение. Безостановочно, неудержимо гнал и, казалось, нес едва заметными волнами. Тая, не отрываясь, глядела на снежное окно, и нес, нес ее снег, и теплая радость прильнула к груди, и Таинька прижала руку к бархатной вставке, как тогда на концерте.
– Ты чего же не спишь? – Тая вздрогнула. В черных дверях серой тенью стоял отец. Мутнела белая борода. – Первый час. – Он вынул из жилета часы, ничего не было видно, но старик открыл и щелкнул крышкой. – Что ты за манеру взяла?
Тая смотрела на серого отца и молчала. Старик сделал шаг и присел на скрипучую кровать. На Таю пахнуло родным табачным духом прокуренной бороды. Старик молчал, и только слышно было, как шелестела в руках бумажка, сворачивал папиросу. При спичке на минуту глянула Тая на отца. Он насупился на папиросу больше, чем надо, вздохнул дымом и засветил в темноте острый огонек. Отошло синее окно с белым снегом, и грузно на землю легло время.
– Что он тебе пишет?
– Ничего, – едва сказала Тая.
– Как ничего, а письмо? Не видала? – Старик поднялся и шлепнул рукой по столу, сразу слапил конверт. – Не видала?
Тая взяла дрожащей рукой письмо. А старик звякал стеклом, зажигал лампу.
– Да подойди ты к столу.
Тая смотрела на адрес и не могла узнать почерка. Неужели он, он написал? И она не вскрывала конверта.
– Читай, не томи! – сказал отец. Он поднял фитиль, и лампа будто открыла сонный глаз, – осветила стол и трепетную Тайну руку. – Он ведь квартальный, околоток... Виктор-то наш.
– Сейчас, сейчас! – Тая выдохнула широко и злыми пальцами разорвала конверт.
– Читай, читай все, что за секреты. Ох уж эти секреты. Вот они, секреты-то. – И старик вздохнул дрожащим вздохом.
Тая ничего не могла прочесть. Она шептала слова губами и ничего не понимала.
– Ну, дай я. Можно? – с горьким укором сказал старик. Он уж приладил очки, взял письмо.
"Милая Тайка! Я женюсь, – читал Всеволод Иванович, – на Аграфене Петровне Сорокиной. Знаешь Грунечку, тюремного дочку? Через неделю, значит, 23-го числа, наша свадьба. Приезжай непременно. Стариков приготовь. Мама, я знаю, – ничего. А старик все, наверно, на меня недоволен. Ты им скажи, что она замечательная какая, Грунечка, ей-богу! Ты же ведь знаешь. У меня теперь квартира – все новое, и полы и обои замечательные. Одни, как ты любишь, полосатые, вроде, помнишь, как у Милевичей были. И лампы все электрические, как в театре. Замечательно! Приезжай непременно. Деньги на дорогу я тебе послал. Если в понедельник выедешь, вполне поспеешь. Сейчас иду покупать коврик. Один наглядел – зеленый, замечательный. Так приезжай, Тайка, жду.
Твой Виктор".
Затем шел адрес и приписка:
"Маме тихонько скажи, она благословение пришлет. Грунечка ее очень любит. А меня ты теперь совсем не узнаешь. Прямо шик адский".
И тут была подпись барашком с кудрявым росчерком:
"В. Вавич".
Может быть
ВТОРОЙ день уж шел, а Башкин все еще думал: вот вернулся офицер, а Башкина прогнали. И он этим крутым голосом: "Кто смел? Кто это распорядился?" – и даже топнул ногой со шпорой. Башкин сам останавливался в камере и слегка топал ногой и чуть вверх подбородок.
"Может быть, генерал его услал куда-нибудь? Сразу же вызвал и послал. У них ведь по-военному. А эти мерзавцы, хамы эти, обрадовались. И теперь еще больше шпыняют".
И он слушал со злостью, с задавленной яростью, как лениво, нарочно лениво, издевательски, стукали в коридоре каблуки.
"А может быть, все это нарочно? Все подстроено?" Башкин присаживался на минуту на койку, смотрел в упор на столик и в сотый раз ясно, отчетливо слышал голос офицера: такой культурный, такой мелодичный, немного грустный.
"Не может быть, не может, не может", – выдыхал воздух Башкин, вскакивал и ходил, плотно увернувшись в пальто. Офицер непременно скажет: "Почему же вы не потребовали меня, не сказали, чтоб мне напомнили? Просто бы заявили, что... Вы даже не попытались!"
"Надо постучать, просто постучать в двери, – Башкин делал два шага к двери, быстрые, решительные. – Постучать, – шептал Башкин и поворачивал в угол, – постучать и сказать: Я прошу... Я прямо требую..." – и Башкин ускорял шаги, он все быстрее метался от угла к двери.
Шаги в коридоре удалялись.
"Да, просто постучать", – и Башкин уж не шел, а разбегался кдвери. Он стукнул. Стукнул, размахнувшись, но ударил дрябло и сейчас же отбежал в угол.
– Да ведь, черт его дери, в самом деле... в самом деле, черт его совсем подери, – захлебываясь, вслух говорил Башкин и неверной рукой снова стукнул косточками кулака.
"Черт же возьми, действительно" – задыхался на ходу Башкин. Он все шире и шире шагал, он распахнул пальто.
Шаги по коридору стукали теперь у его двери.
"Да что же это в самом же деле, чертовщина какая, в самом деле". Башкин сделал даром три оборота по камере, и сам уж не разбирая, что бормотал, он стукнул костяшками в дверь.
Шаги тверже застучали в коридоре. Башкин стоял в углу и, затаив дух, ждал. Шаги стали у его двери. Скрипнул глазок, и замигал едкий глаз без брови. Башкин, не дыша, глядел на дверь. Забренчала связка. Повернулся ключ. Башкин окаменел в углу. Надзиратель не спеша подступал, целясь прищуренным глазом на Башкина. Оставался шаг.
– Я господина... офицера... просил сказать...
– Ты стучать, сволочь? – процедил с шипом надзиратель и глянул одну секунду, – Башкин увидел, что все может быть, все.
И похолодало под ложечкой, и в ту же секунду надзиратель стукнул Башкина коротко, резко за ухо. Башкин свалился, он тихо ахнул и держался тряской рукой за холодный пол.
– Рвань паршивая! – крикнул надзиратель и толкнул ногой Башкина в грудь.
Башкин плюхнулся в угол и сидел, раскинув на полу ноги. Надзиратель нагнулся и – все полушепотом – сказал:
– Я тебя выучу, суку, выучу! – И два раза стукнул Башкина по носу ключом.
Башкин не знал, больно ли, Башкин не заслонился рукой – руки обвисли, как мокрые тряпки, и мертвые ноги, как чужие, лежали на полу. Брюки с сапогами. Надзиратель не спеша вышел и щелкнул замком.
Башкин сидел недвижно, сидел несколько минут и вдруг завыл. Завыл собачьим голосом. Он сам испугался, что у него может быть такой голос. Он стал всхлипывать, он вздрагивал, икал всем телом. Он упал совсем на пол, ему давило горло, и с хрипом еле прорывался воздух. Он бился в углу, и ему хотелось скорей, скорей умереть от этого удушья.
Первый раз в жизни с ним была истерика, и он не знал, что от нее не умирают.
Через час всхлипывания стали реже, вольней. Башкин со страхом заметил, что проходит, проходит! Он сам поддавал ходу этим спазмам. Но они уж устало поднимались реже и реже.
Он оглядел камеру. Что это? Башкин привстал: койки не было. Совсем, совершенно не было. Он понял, что ее вынесли, вынесли тогда, когда он бился в углу на каменном полу.
Башкин старался свести дрожавшие челюсти, ему хотелось стиснуть зубы. Они прыгали, бились. Башкин судорожной рукой рвал под пальто рубаху, лежа на полу. Он рвал ее полосами, не глядя. Рука верная и хваткая, как не его рука, сама рвала эти полосы, связывала, скручивала в веревку. Он наслаждался, он со страстью рвал подкладку на пиджаке, на пальто. Рвал и скручивал, свивая жгутами, жгуты связывал. Сторожил глазок в дверях. Он приладил петлю, обмотал вокруг шеи. Тепло, благодарно и так утешительно было, когда облегла матерчатая веревка вокруг усталого от рыданий горла. Он стягивал ее туже и туже, с сладострастием обтягивал вокруг шеи. Башкин искал глазами, куда бы прицепить свободный конец жгута. На грязных стенах не было ни гвоздя, ни выступа. До окна не достать. Стол, стол! И Башкин мерил глазами, сколько надо еще веревки, чтоб обмотать вокруг стола, что торчал из стены.
Он подполз к столу с туго обтянутой вокруг горла петлей, быстро обмотал и привязал под самый край себя за шею. Он лег спиной и постепенно обвисал всем телом. Петля держала и мягко, сладостно давила. Башкин отлег еще. Дыхание судорожно рвалось в груди. У Башкина слезы стояли в глазах. И вдруг он почувствовал, что он падает, веревка рвется, тянется, и Баш-кин громко стукнулся затылком о каменный пол. И в тот же момент затопали шаги у двери. В камеру вошли двое – и тот маленький, что тогда еще грозил связкой ключей.
– Ты вот что, ты вот что! – слышал Башкин шипящий шепот. – Ты вешаться, стерва, вешаться!
Башкин закрыл глаза. Рука схватила его за волосы, приподняла. С него рвали петлю. Башкин крикнул. Но его ткнули лицом в чьи-то суконные колени.
– Стягай с его все!
Башкин вертелся, вился. За волосы его крепко держал надзиратель и давил лицом в шершавые колени. Другой срывал с него одежу, сапоги, порванное белье.
– Я и шкуру с тебя, рванина собачья, сдеру, и шкуру!.. – И Башкин взвизгнул: связкой ключей огрел его по заду надзиратель. – Ты мне вешаться, вешаться. Молчать, анафема, молчать мне.
И он шлепал Башкина связкой по голому телу.
– Пикни мне – шкуру сдеру! – заскрипел старший. И встал. Но Башкин не слышал. Он лежал на полу голый и слабо ныл, как человек без памяти.
Бубенчики
С НЕБА падал веселый мягкий снег. Первый настоящий снег. Старик Тиктин надел свою боярскую шапку, глянул в зеркало, поправил и вышел на службу. И сразу из дверей белая улица глянула веселым белым светом. Новым, радостным. Тиктин глядел на снежинки, они не спеша падали, как напоказ. Тиктин бодро захрустел по песку на тротуаре. Извозчик, весь белый, процокал подковами мимо, и кто-то поклонился с извозчика. Тиктин заулыбался и радостно взялся за любимую шапку. Совсем другая стала улица, другой какой-то белый город. Опрятный, чистый, заграничный какой-то. На углу мальчишки бросались снежками и притихли, пока пройдет борода и бобровая шапка. Тиктин улыбался мальчишкам, весь уж в снегу. Глуше стал стук, и звонче голоса. Вся улица перекликалась, и стоял в белом снегу беззаботный звон извозчичьих бубенцов.
– Барин! Барин! – Как звонко Дуняша догоняет, в одном платке, красная, прыгает через снежные наметы. – Портфель забыли! – И смеется лукаво, будто сама для шутки спрятала.
– Ах, милая! Не простудитесь. Бегом домой!
– И вот записка вам, – говорила, запыхавшись, Дуняша.
Андрей Степаныч взял бумажку, сложенную, как аптекарский порошок.
"А. С. Тиктину" – карандашом наискосок.
Тиктин снял перчатку и на ходу стал читать.
"Слушай, папа: мне дозарезу нужно десять, понимаешь, десять рублей. Я зайду в банк, можешь дать?"
Санькин почерк. Тиктин не нахмурился, а, глядя на белых прохожих, говорил:
– Кто это его там режет, скажите, пожалуйста?
– Свезем по первопуточку? – нагнал извозчик дробным звоном. – Ей-богу, свезем, ваше здоровьице, – и махом показывал на сиденье варежкой.
Андрей Степаныч потоптался с минуту, тряхнул бобровой шапкой:
– Вали!
Зазвенели густо бубенцы, залепил снег глаза.
– Куда ехать-то, знаешь?
– Помилуйте, знаем, кого везем. В "Земельный", стало быть?
"Извозчики даже знают, – подумал Андрей Степаныч. – Однако!"
В вестибюле банка пахло теплотой, и от мягкости снежной за дверями было уютно, и новое, новое, что-то хорошее начинается. Андрей Степаныч улыбался опоздавшим служащим, а они рысцой взбегали мимо него по лестнице.
– Тоже дозарезу, наверно, – говорил Андрей Степаныч, – зарезчики какие развелись.
Наверху в зале тихо гудели голоса и метко щелкали счеты.
Андрей Степаныч прошел за стеклянную перегородку. В ушах еще стояли бубенцы, и щеки просили свежего снега; и Тиктин все улыбался и кивал на поклоны служащих, как будто бы поздравлял всех со своими именинами. И говор стал слышней, и круче чеканили счеты, как веселая перестрелка.
Тиктин вошел в шум, и завертелся день.
Завтрак мягко перегибал день. Перегибал мягким кофеем, пухлыми сосисками с пюре. В это время к Андрею Степанычу в кабинет курьер никого не допускал целые четверть часа. Тиктин придерживал стакан одной рукой, другой разворачивал на столе свежую, липкую газету. И сразу же тысячью голосов, криков и протянутых рук ворвалась газета. Толпились, рвались и старались перекричать друг друга: "За пять рублей готовлю... Все покупаю... Даю... даю... Умоляю добрых людей!.. Нашедшего..." – хором ахнула последняя страница. Тиктин прошел как через сени, набитые просителями, и раскрыл середину. Изо всех углов подмигивали заглавия: "Опять Мицевич", "О Розе на навозе" и подпись: "Фауст". Оставалось пять минут, и Тиктин искал, что бы прочесть с папироской. "Земельный... – Тиктин насторожился: ...национализм"... Земельный национализм? – Тиктин поправил пенсне на толстом скользком носу.
"Конечно, все можно объяснить случайностью, – читал Тиктин. – Даже нельзя решиться назвать человека шулером, если он убил десять карт кряду. Случайность... Случайно могут оказаться вместе и сто двадцать восемь человек одного вероисповедания. Даже в самом разноплеменном городе. Не подумайте, пожалуйста, что это церковь, костел или синагога... Это даже не правительственное учреждение и не полицейский участок! Это коммерческое... ой, извините: это даже претендующее на общественность учреждение. Учреждение, которому..."Тиктин начинал часто дышать, побежал дальше по строчкам:"... Каков, говорят, поп, таков... Это наш "Земельный банк", роскошное палаццо... Нет, это русские хоромы с хозяином в боярской шапке, с боярской бородой, а вокруг – стольники и подьячие. Где уж тут поганым иноверцам! Бьем челом..."
"Фу ты, черт! – и Тиктин сдернул пенсне, ударил по газете. – Мерзость какая!"
Действительно, большинство служащих были русские. Было несколько поляков, немцы, был даже латыш, но евреев в "Земельном банке" не было ни одного.
– Почему я обязан? – сказал Андрей Степаныч в газету. Курьер просунул осторожно стриженую голову в дверь:
– Можно?
– Сейчас! – зло крикнул Тиктин через весь кабинет.
"Что же это, реверансы все время? – и Тиктин улыбнулся иронически-вежливо запертой двери и сделал ручкой. – Расшаркиваться прикажете? Так?"
Тиктин вспомнил свою речь в городской Думе; он отстаивал земельный участок под еврейское училище. Он щегольнул юдофильством: внятно и с достоинством. И как потом ему улыбались в еврейских лавках и кланялись на улице незнакомые люди! В "Новостях" полностью напечатали его речь.