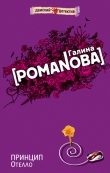Текст книги "Виктор Вавич (Книга 1)"
Автор книги: Борис Житков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– У себя-с. Пожалуй, больны-с. Можем спросить. – Санька нащупал в кармане полтинник и сунул швейцару.
– Пойди к дверям! – крутым басом крикнул швейцар под лестницу. – Сию минуту-с, – улыбнулся он Саньке и взялся за козырек с галуном.
"Не может быть, не может быть, что не примет, этого не может быть, твердил в уме Санька, – сам пойду", – и Санька через две ступеньки побежал по ковру лестницы.
– Попробуйте сами, не отпирают, – шепотом сказал швейцар. – Знаете где? Проведу-с – 35-й и 36-й. Благодарсте.
Швейцар ушел. Санька постучал в дверь 36-го номера. За дверью слышны были глухие голоса. Санька стукнул настоятельно, громко. Лакей с посудой на подносе проплыл по ковру, обернулся, загнув голову на Саньку. Санька постучал кулаком – сам не ждал – вышло громко, скандально, на весь коридор. И вдруг быстро, вертко засвербел ключ в соседней двери, и высунулась голова компаньонки. Она зло глядела на Саньку из-под сбившейся кружевной косынки и шепотом, шипящим шепотом, который только Санька слышал в театре, компаньонка проговорила:
– Не скандальте, молодой человек. Еще студент! К артистке так не ломятся. Субъект! – крикнула компаньонка, закрывая дверь.
– Позвольте... – сунулся Санька. Но ключ завертелся, защелкал в замке, засверлил.
И вдруг соседняя дверь открылась, та самая, куда барабанил Санька; Мирская в шелковом пестром капоте стояла, держась за ручку. Ее шатнуло вместе с дверью в коридор. Мирская была совершенно пьяна. Она вдруг радостно раскрыла глаза, мгновение глядела на Саньку и закричала на весь коридор:
– Студентик! Коля! Иди к нам! Хорошо как!
Она хотела сделать шаг, но боялась пустить ручку. – Зина, куда? услышал Санька из дверей, и "офицюрус", тот самый офицер, что заводил тогда скандал в зале, без сюртука, высунулся и ловил Мирскую под руку.
Офицюрус оторвал руку Мирской от двери, тащил в номер. Мирская все глядела радостными глазами на Саньку. Она подняла руку, и легкий шелковый рукав сполз к плечу. Мирская мотнулась к Саньке и обхватила его за голову.
– Коля! Голубчик мой! – кричала Мирская и давила Саньку полной мягкой рукой. От нее пахло душными духами и свежей кожей.
Мирская прижала Санькину голову к себе, и Санька, не видя дороги, спотыкался. Мирская с размаху села на диван, и Санька неловко упал рядом. Подхватил фуражку. Офицюрус поворачивал в дверях ключ.
– С розочкой! – вскрикнула Мирская. – Мне розочку? – И Мирская потянулась рукой. Санька отвернул грудь. – Не хочешь? – нахмурилась Мирская.
Она исподлобья поглядела на Саньку, темная угроза из-под низа, из темных дыр, затлела, заворочалась. И Санька подумал: "Сейчас все может быть. Бросится".
И вдруг Мирская засмеялась во все лицо – весело, лукаво.
– Она дала! Она дала! Знаю, знаю! – и Мирская захлопала в ладоши. Санька боком глаза видел, как стоял посреди комнаты офицюрус, стоял, расставив тонкие ноги в ботфортах. Он качался корпусом, уперев руки в бока. Санька чувствовал, что офицюрус хочет начать говорить, уж отрывал два раза руку от бока.
– Очень хорошо! – сказал, наконец, офицюрус.
Санька глянул. Под розовым фонарем, в цветной рубашке и в крахмальном воротничке, стоял рыжеватый блондин, блондин без ресниц и бровей, от розового света он лицом напоминал недорисованную куклу.
– Очень хорошо! – повторил офицюрус и заложил за подтяжку палец: – От дамы... с визитом. Не угодно ли... познакомиться?
Офицюрус нетвердо шагнул вперед, и Санька не знал, ударит или протянет руку. Санька встал и протянул руку.
– Поручик Загодин! – сказал офицюрус. – Очень... хорошо.
– Он с розой! – крикнула Мирская. – Посылай за шампанским. – Мирская пьяной рукой искала на стене кнопку. Нашла, уперлась пальцем. – Краснеешь? – дергала Мирская Саньку за рукав. – Дай поцелую. – Она дернула Саньку, повалила на себя и поцеловала в самые губы.
Лакей постучал. Офицюрус отпер.
– Деми-секу! – крикнула Мирская. – Твое счастье пьем, – и она опять обняла Саньку. – Коля, дурак ты мой.
– Саня, – поправил Санька.
– Хочешь, чтоб Саня? – грустно сказала Мирская. – Ну пусть по-твоему, ты именинник. Только не играй, когда любят, проиграешься. Леньке я сказала, что не буду любить, если играть будет. А он пошел-таки, сволочь. Я ему вслед плюнула. И выиграл. Семьсот рублей, говорит. Врет или таится... а то хвастает. Ленька, сколько?
Лакей тихонько стукнул и вошел. Он поставил на стол, на ковровую скатерть, поверх разбросанных карт, мельхиоровое ведерко. Золоченая пробка капризной головкой торчала, пошатываясь. Санька достал десять рублей и кинул на стол.
– Двенадцать стоит, – тихо и строго сказал лакей.
Было уже все равно, и Санька кинул еще пятерку, столкнул в руку лакею. Оставалось четыре с полтиной. Все было кончено. Санька старался улыбаться. Ему хотелось скорей выпить, но офицюрус осмотрел бутылку и сунул обратно в лед.
– Люблю, чтоб в стрелку заморозить, – и забарабанил ноготками по ведерку. Мирская смотрела на Саньку и вдруг встревоженно толкнула его в плечо.
– Чего задумался? А? Дурак: все будет. Давай погадаю. Собирай, собирай! – И Мирская торопливо стала сгребать карты. – Ты мне хмель собьешь, – твердила Мирская.
– Да, – сказал офицюрус, помогая Мирской, – чего вы, в самом деле, сидите, извините, как шиш на именинах? Какого на самом деле... ей-богу же. А? Двойку получили?
Санька покраснел.
– Вы, скажите, пьяны вы или просто... дурак? – и Санька встал.
У Саньки тряхнулась челюсть, и слово "дурак" он как откусил зубами.
– Что, что ты ска... сказал?
Офицюрус поднялся и мигал рыжими веками.
Мирская бросила карты на стол, она откинулась на диван и хохотала, хохотала в потолок, с веселыми слезами на глазах. Из-эа портьеры в дверях торчала голова компаньонки.
– Возьми слова... свои слова... – слышал Санька голос офицюруса через смех Мирской. Санька молчал и краснел больше и больше. Офицюрус мигал, уставясь на Саньку, и полз рукою в карман.
"Дать, дать сейчас с размаху в морду",– думал Санька и чувствовал, что сейчас рука сорвется, сорвется сама.
Офицюрус вытянул скользким движением из кармана браунинг и медленно поднимал.
– Возьми слова...
Санька дернул руку, отмахнул назад, и вдруг кто-то вцепился в руку, грузом, пудом повис. Мирская поймала его руку, метко, как кошка. Она прижалась грудью к его руке и беззвучно смеялась.
– Положи... на стол, Ленька! Положи! – сквозь смех шептала Мирская. Она целовала Санькину руку, взасос, как целуют лицо ребенка. Целовала в ладонь, прижималась щекой. – Положи! – вдруг крикнула Мирская, когда Офицюрус стал спускать в карман браунинг.
– Уступаю... хозяйке, – бормотал Офицюрус. Он положил браунинг на стол.
– Кузьминишна, убери! – крикнула Мирская. Экономкина голова втянулась в портьеру. – Боишься? – крикнула Мирская, схватила револьвер и швырнула в угол.
Офицюрус, повернувшись спиной, натягивал свой сюртук.
Мирская встала и твердой походкой пошла по ковру через комнату, где перед зеркалом, не спеша, застегивал сюртук Офицюрус.
Санька часто дышал и смотрел в пол, в узор ковра. Мирская шепталась с офицюрусом.
– Только подчиняясь требованиям хозяйки, – сказал офицюрус и под руку с Мирской вернулся к столу.
– Откупоривай! – командовала Мирская. Поручик взялся за пробку.
– Пейте! На мировую! На брудершафт, – кричала Мирская, – сейчас же на брудершафт!
– Подчиняюсь требованиям.... – бормотал Офицюрус и просовывал руку с бокалом вокруг Санькиной руки. – Слушай: ты – молодец, – говорил Офицюрус и шатал Саньку за плечо.
В соседнем номере пел визгливый женский голос.
– Голос у ней – газеты продавать,– засмеялась Мирская. Она вдруг захмелела. – Чего ты на мои руки смотришь? – крикнула она Саньке. – Белые? Это оттого, что моя мама коров доила. А отец... все мужчины сволочи... А бабы шлюхи... Там есть еще?
– Повинуюсь требованиям... – говорил офицюрус. Он опрокидывал бутылку, но оттуда капало.
– Повинуешься? – Мирская пьяно прищурила глаз, мигнула Саньке. Повинуешься? Дай сейчас сто рублей.
– Пожжалуйста... пожжалуйста... – и офицюрус полез за борт сюртука.
Мирская нагнулась, уперлась пьяной головой в стол и возилась засовывала за чулок кредитку.
"Спросить у ней пятьдесят рублей, – подумал Санька. – Отдам, ведь отдам. Только бы завтра, утром же завтра послать". Он вспомнил выстрелы около завода, сухой стук. И как говорил Карнаух про дым. Мирская улыбалась, закрыв глаза. Офицюрус молча тасовал карты и вытягивал наугад.
– Еще нет? – спросила Мирская, как во сне. Санька переливал из своего бокала, и звякнули края.
– Как поцелуй, – сказала Мирская в забвении, – кто это? – Она открыла глаза.
– Ах, ты, ты! Сейчас у нас, как на елке. – Она закрыла глаза и, улыбаясь блаженно, тянула, держа бокал двумя руками.
– Я пойду, – сказал Санька. Вышло – и сам не ждал – решительно и сердито. Офицюрус вскинул рыжие глазки. Мирская оторвала бокал от губ и тревожно глянула на Саньку, будто ударил колокол.
Санька надел шинель.
Мирская шла за ним, шла до дверей. Она все держала его руку, давила, тянула вниз. Она блестящими пьяными глазами смотрела на Саньку, как большая собака. Она ничего не говорила и, пошатываясь, шла в ногу по коридору.
"Взять и спросить", – подумал Санька и стал на миг. Мирская все так же старалась заглянуть Саньке в глаза. Вдруг она моргнула бровями и сейчас же нагнулась, крепко повиснув на Санькиной руке. Страхом и радостью, и холодом дохнуло внутри, и Санька не мешал Мирской шарить в чулке. Сторожко скосил глаза в глубь коридора.
– Возьми, – едва шепнула Мирская, и черные глаза тяжело и преданно глядели, неподвижно, и заволоклись.
Остановилась рука: "Не брать, не брать!" – твердил в душе Санька, а рука протянулась и взяла. Мирская опустила голову К Санькиной руке и поцеловала.
– Иди, иди, не провожай, Саша, – шептала Мирская и толкнула Саньку. Иди, иди, Христос с тобой.
Санька быстро сбежал по лестнице, понес скорей вон, вон свою голову.
Морошка
НА ПЕРЕДНИХ санях горой ехали Грунины корзины, сзади ехал Вавич с Груней, с картонкой на коленях. Виктор вез Груню к ее тетке. Это была двоюродная сестра смотрителя Сорокина, маленькая бабенка лет за пятьдесят. Виктор был у ней два раза по приказу Груни. Она встретила его в валенках и в черном платке. Встретила льстиво квартального и все шаркала сухой ладошкой по юбке, по рукавам бумазейного платья.
– Пером, знаете, пухом занимаешься, так наберешься. Липнет, сама – как курица. Снесусь, неровен час. Старуха торговала подушками и пухом. Вавич показывал Груне город.
– Вот гостиница. Богатые становятся. Больше евреи. Замечательная. Гляди – занавески-то!
Груня мельком вскидывала глаза на окна и снова нагибалась вбок, чтоб видеть корзины на передних санях.
– Вот тут полицмейстер живет, – в ухо сказал Груне Виктор. Он сделал серьезное, даже строгое лицо и выпустил Грунину талию. – Полицмейстерша замечательная женщина, – говорил Виктор, когда проехали дом, – королева! Коляска какая. Ра злошади взбесились, я бросился. Хоп! – под уздцы. Замечательно.
– Варвара Андреевна? – спросила Груня.
Виктор, отшатнувшись, глянул на Груню. Совсем в испуге.
– Мне наш пристав рассказывал, – и Груня закивала головой. – Ой, тише, тише! – закричала Груня переднему извозчику и чуть не прыгнула с саней.
– Тише, болван! – крикнул Вавич. – Распустились ужасно, – сказал Виктор и крепче обнял Грунину талию.
– Она варенье из морошки любит, – сказала Груня. – Я знаю, знаю, – и Груня задумчиво покивала головой.
– Вот, вот, направо, где вывеска! – крикнул Виктор. И снова строго сдвинул брови. Груня покосилась на Виктора. Она, не торопясь, приняла руку Виктора и выступила из саней. По низкому фасаду шла черная вывеска с голубыми буквами.
ПЕРО И ПУХ Н. ГОЛУБЕВА
За стеклянной дверью старуха торопливо оправляла черный платок. Виктор глянул на часы.
– Езжай, езжай, опоздаешь, – говорила Груня. – Я найду. Было действительно поздно. Старуха в салопе в опашку вышла из двери, дверной колокольчик дребезжал ей вслед.
– Снесешь барыне! – крикнул Виктор извозчику.
– Грунюшка, – наклонился Виктор к Груне, – Грунюшка, а потом поедем, покажу – полы, все, все, заново – ух, замечательно! – Виктор зажмурил глаза и затряс головой. И вдруг покосился на извозчика и сразу надул лицо: – Не спи, ты! Простите – служба, – козырнул Голубихе.
Виктор сел в сани плотно и осанисто, как будто на полтора пуда прибыло плотного весу.
– Пошел живо, в Петропавловский. Извозчик встал, задергал вожжами. Он слышал, как сзади запела старуха:
– Ах, красавица какая! Ах, уж и не знаю... Во двор, во двор вези, ворчливо крикнула она извозчику с вещами.
Виктор оглянулся. Извозчик корзинами заслонял старуху и Груню.
Груня переодевалась, мылась в низкой комнатке за лавкой.
– Пила, пила кофий, не надо, Наталия Ивановна, – говорила Груня, плескаясь водой.
Старуха едким глазом оглядывала Груню, осматривала все стати, прощупывала взглядом упругое белье.
– Дела какие же, какие дела у нас, – у жидов все дела, дохнуть не дают. Уж верно говорится, что ни пуха не оставят, ни пера. Евреи, я говорю... В церковь пойдешь? – пела старуха. – Пойди, пойди милая, как не пойти. А это зачем же? Ведерко, что ли, какое? Тяжелое, – сказала старуха, приподняв за Грунину руку.
– А где пройти ближе? – спросила Груня. Она стояла, свежая от воды, в лучшем своем розовом платье с пунцовым поясом, и розовые руки розовели из розовых коротких рукавов.
Груня действительно пошла в церковь, постояла минуту на коленях на пустом широком полу – прямо посреди церкви. Положила три земных поклона, отыскала икону Божьей матери, приложилась. И вышла быстрыми шагами по гулкому полy. Нищенка толкнула тряпичным телом тяжелую дверь, и Груня порылась, сунула ей пятак. Приостановилась и сунула еще три копейки.
Груня кликнула извозчика, уселась, поставив пакет в ногах.
Полицмейстерша из маленькой леечки поливала цветы. У нее были любимые и нелюбимые. Она любила чахлые и больше лила в них воды.
– Пейте, милые, пейте, – говорила тихонько Варвара Андреевна, пухлой ручкой помахивая лейкой. Она была в зеленом капоте и в кружевном чепчике вчера мыла голову.
В резном буфете слегка позвякивала посуда от шагов Варвары Андреевны. Зимнее солнце красными квадратами стояло на палевых занавесках. Варвара Андреевна залюбовалась на свою пухлую руку, – горел рубин на отставленном мизинчике, – замерла лейка в руке, и вода тонкой струйкой неслышно текла на ковер.
Горничная простучала каблуками, вошла.
– Ваше превосходительство, там одна вас спрашивает. – Полицмейстерша приказывала называть себя "превосходительством", хотя муж был только ротмистр. – Как прикажете, ваше превосходительство?
– Дама? – вскинула Варвара Андреевна и глянула на стенные часы.
– Уж не знаю, как сказать? – Горничная замялась. – Вроде дама, только очень просит. Говорит – приезжая. Передать, говорит, надо... Не знаю. Я говорила.
– Иди, я позвоню, – и Варвара Андреевна поставила лейку на стол.
Варвара Андреевна на цыпочках, придерживая капот, – все стем же мизинчиком на отлете, – подкралась к двери, без шума приоткрыла и в щелку портьеры стала глядеть.
"Совершенно, совершенно незнакомая, – думала Варвара Андреевна, разглядывая Груню. – Простоватая будто".
Варваре Андреевне было приятно, что вот она глядит на эту девицу, вот тут в трех шагах, а та думает, что она одна в прихожей и ждет. Вот как широко дышит. Даже покраснела. Глядит ведь прямо сюда, в двери. И Варвара Андреевна довольно улыбалась.
– Вижу, вижу! – вдруг вскрикнула Груня, и лицо расцвело улыбкой во всю мягкую ширь. – Здравствуйте, – и Груня двинулась к портьере. Варвара Андреевна отдернулась назад, но Груня уж раздвинула головой портьеру и протягивала руку. – Здравствуйте! – говорила весело Груня.
Варвара Андреевна хотела нахмуриться, но ей показалось лучше обратить все в шутку, и она пожала Грунину руку.
– Я вас, кажется, помню... – совсем покраснела Варвара Андреевна, и ей самой уже было смешно, что ее поймали.
– Не помните, нет, не помните: я Груня Сорокина, смотрителя Сорокина дочка, – говорила Груня громко. Она стояла в шубе и шляпе на ковре гостиной. Попугай раскричался в клетке, и Груня плохо слышала, что отвечала Варвара Андреевна. – Да, да, верно, я сейчас. Да, да, что же так, прямо в шубе! – И Груня в прихожей быстро стала стаскивать шубу.
– Настя, помоги, – говорила Варвара Андреевна сквозь крик попугая и показывала рукой на Груню. Настя подхватила шубу.
Груня подняла с пола сверток и пошла за полицмейстершей.
– Это надо в столовой, – в самое ухо крикнула Груня.
– Да, ничего здесь не слышно, – и полицмейстерша быстро прошла в столовую, ведя за руку Груню.
"Смешная какая – розовая, – думала полицмейстерша, – буду потом рассказывать", – она с шумом захлопнула двери к попугаю.
– Почему вы, милая, ко мне? – спросила полицмейстерша и не могла сделать строгого лица.
Груня оглядела белую скатерть с леечкой.
– Поднос, поднос дайте, побольше который. Я вам тут чего привезла-то.
– Как это – поднос? – спросила Варвара Андреевна.
– Ну, поднос, простой поднос, а то накапает. Варвара Андреевна засмеялась, легко подбежала к буфету, схватила большой блестящий поднос и поставила на стол.
– Угадайте, что там? – Груня поставила на стол тяжелый пакет и прикрыла пятерней. Она весело глядела на Варвару Андреевну в самые глаза. Страшно вкусное! Теперь банку надо и ложку. – Груня стала разворачивать бумагу – это были газеты, замазанные в дороге. Груня срывала. – Куда? куда? – и сама бежала к печке и совала бумагу.
Варвара Андреевна побежала в кухню, бегом вернулась с банкой.
– Сполоснули? – спросила Груня. И стала ложкой перекладывать варенье. Она стряхивала ложку за ложкой и взглядывала на Варвару Андреевну.
– Замечательное! – приговаривала Груня. Варвара Андреевна мизинчиком с рубином зацепила из-под ложки варенье и облизала пальчик.
– Что? – спросила Груня.
– Ужасно смешно, – сказала Варвара Андреевна и рассмеялась. Расхохоталась и Груня.
– А это Вите останется, – сказала серьезно Груня, когда наполнилась банка.
– Какому Вите? – смеясь, спросила полицмейстерша.
– Вавичу. Жених мой. Он квартальный теперь. Очень любит, – сказала Груня задумчиво, – морошку, я говорю, любит.
– А он красивый? – спросила полицмейстерша.
– Ну да, красивый, такой шикарный теперь, – говорила Груня, как с собой, и уворачивала аккуратно свою глиняную банку.
– Какой Вавич? Не слыхала, – полицмейстерша села и снизу глядела, улыбаясь, Груне в лицо. – В каком участке? Брюнет? И вас очень любит? Садитесь. Как вас зовут, я забыла, – болтала Варвара Андреевна. – Потом завяжете! Кто вам сказал про морошку? Какая вы смешная! То есть милая, я хотела сказать. – И полицмейстерша поймала и пожала Грунины пальцы. – Вы его очень любите? – говорила, щурясь, Варвара Андреевна. – Он высокий? Покажите его, пусть придет, непременно, непременно. Я закурю, только никому не смейте говорить.
Полицмейстерша достала маленький черепаховый портсигар и задымила тонкой папироской.
– Ну рассказывайте, как он вас любит, – и полицмейстерша завертелась, придвинула свой стул ближе. – Наверно, очень любит вас целовать? – Она пристально рассматривала Грунины щеки, открытый вырез на груди. – Что вы так смотрите? Будто уж и не целовал ни разу, а? Ну говорите же! Полицмейстерша ткнула Груню пальцем в пухлый локоть.
Горничная вошла в черном платье, с белой наколкой в волосах.
– Ваше превосходительство, к телефону просят. Адриан Александрыч.
Полицмейстерша вскочила, зарычал отодвинутый стул.
– Бегу, прощайте, милая, – сказала, запыхавшись сразу, Варвара Андреевна. Она сунула Груне руку. Груня мягко привстала, сунулась к лицу, и полицмейстерша наспех поцеловалась. В дверях она остановилась, полуобернулась и, махая ручкой, сказала с брезгливой гримасой: – Только пояс этот перемените – невозможно!
Кризис
– Я, Я! САМА дам! – чуть не крикнула Наденька, когда мать хотела очистить яблоко Башкину. Мать глянула – у Наденьки тряслась челюсть, тряслась мелкой дрожью, и поджатые губы прямой щелкой вычертили рот. Наденька торопливыми, злыми пальчиками вертела, чистила яблоко.
– Доктор сказал – сейчас кризис, – шепнула Анна Григорьевна.
Наденька закивала головой и нахмурила брови. Башкин вертел головой на подушке, он шевелил губами, и Наденька сунула осторожно в толстые обветренные губы острый ломтик яблока.
Башкин вобрал губами яблоко, открыл глаза, и Наденька увидала, что он узнал, что он ясно видит, – и какие светлые добрые глаза – показалось Наденьке. Совсем детские, беспомощные. Башкин улыбнулся.
– Еще можно? – аккуратно произнес он. – Пожалуйста. – И Наденька поспешно сунула новый ломтик. Башкин повернулся на бок, положил сложенные руки под щеку, подогнул коленки – они остро торчали под пикейным одеялом. Он закрыл глаза, закрыл с блаженным видом, с наивно поднятыми бровями. Наденька бесшумно поднялась и, осторожно прихватив пальчиками, поправила одеяло.
Анна Григорьевна двинулась у окна, задела ширмы. Наденька замахала рукой и обернулась, сморщила сердитое лицо в синюю полутьму, где маячила тень Анны Григорьевны. Анна Григорьевна вышла на цыпочках в дверь.
Наденька осталась одна у постели Башкина. Она сидела в низком мамином кресле, уперлась локтями в колени, обхватив ладонями горячие щеки.
"Я один, я сам!" – сорвался, убежал. И она вспомнила, какая радость была в ногах Филиппа, когда он убегал через улицу к ларьку. Она чувствовала на себе меховую шапочку и руку Филиппа, как он ее гладил. Мужскую руку, тяжелую. И Наденька остервенело затрясла головой. И была, была досада в голосе, когда говорил: "да вы не беспокойтесь, мы устроим". То есть: без вас устроим. "Ладно", – шепнула Надя и со всей силы сжала подбородок руками. И стояли в глазах Танины ручки, когда она взяла за виски Филиппа.
"Не нужна и не надо!" – зло, раздельно выговорила в уме Надя. Уперлась глазами в коврик. Мирными узорами был выложен коврик, было тихо, и кропотливо тикали часики на ночном столике. Наденька часто дышала. Она не замечала, что плачет, плачет без звука, одними слезами, редкими, терпкими. Сквозь слезы коврик рябил рисунками, и от этого еще пронзитель-ней, жальче становилось себя, как будто морозную железную плиту прижимала к себе Надя и все жала, жала, сильней, больней, холодней. Она не заметила, как тихо вошла Анна Григорьевна. Мать по плечам увидала горе. Опустила тихонько руку на Надину голову, и Надя дернулась, тряхнулась, мотнула головой. Анна Григорьевна увидала слезы, отвернулась, пошла и села в темноту на кушетку.
– Поистине несчастный человек, – сказала через минуту Анна Григорьевна, вполголоса, раздумчиво. – Я говорю, – сказала живее, – он поистине несчастен... А это пройдет, не волнуйся, Брун сказал, что можно надеяться.
– Не пора давать сердечные? – сухим голосом сказала Надя и привстала, чтоб глянуть на часики.
Она посмотрела сверху на Башкина, какой покорно, по-детски, лежал с поднятыми бровями.
– Да иди, мама, спать, – нетерпеливо, учительно сказала Наденька, ложись у меня. Какой смысл двоим не спать?
Наденька трясла термометр и повторяла после каждого размаха: "Ну и не надо... не надо!" Она осторожно отвернула на груди Башкина рубашку и, приподняв за локоть худую, легкую руку Башкина, стала на колени и сунула под мышку термометр. И только, закрывая рубашку, она заметила на груди Башкина лиловый кровоподтек.
– Боже мой! – громко зашептала Наденька. – Ты видела, видела? – И она испуганно повернула лицо к матери.
– Да, да, он весь, весь избит; ничего нельзя узнать, и не тревожь его, – сказала Анна Григорьевна таинственно и сейчас же вышла из комнаты.
А Наденька осталась стоять на коленях на коврике перед кроватью. Башкин дышал ей в самую руку, дышал ровно, спокойно, и Наденька не вставала с колен и радовалась, что никого нет в комнате. Она с усиленным вниманием смотрела, чтоб не выпал градусник. Она выждала десять минут в этой позе и стала доставать термометр. Она тронула руку Башкина.
Башкин проснулся. Он глядел на Наденькино лицо – совсем над ним, он глядел умиленными, преданными глазами. Он закрыл на минуту веки и снова глянул на Наденьку, и Наденьке показались слезы в его глазах. Он тихонько накрыл своей рукой Наденькину руку, как будто в полузабытьи, и закрыл глаза. Наденька свободной рукой вытащила градусник. Градусник показывал 36 и 8. Наденька положила градусник на столик: потянулась, не меняя позы, чтоб не дернуть руки, которую накрыл Башкин.
Ключ трикнул в парадных дверях, и щелкнул французский замок. Наденька осторожно вытащила руку и тихо поднялась с колен. Башкин легко застонал. Может быть, не застонал, может быть, дохнул так крепко. Наденька села в кресло. Она слышала, как Санька раздевался в передней, как стукнул по столу козырек. Слышала, как Санька осторожно шел к двери, чувствовала, что смотрит сзади, и оглянулась, сердито глядела.
– Чего ты зверем таким? – спросил Санька. Он глядел немного растерянно.
– Хорош! – шептала Наденька. – Просили тебя в аптеку... Санька поднял брови и скосил голову.
– У человека кризис, без памяти. Можно, кажется, немного о других-то подумать?
– Да понимаешь... – и Санька шагнул в комнату. – Ну и дела! – Санька сделал оживленное лицо и вскинул рукой к уху завядшая роза слабо болтала головкой на мертвом стебельке.
Наденька презрительно отвернулась.
– Понимаешь, – наклонился Санька к Наде, – у завода, у Механического, стрельба. С полдюжины выстрелов слышал. Хотел, понимаешь, пойти, да, понимаешь, никак. Снег во, по самую грудь. – И Санька два раза сильно чиркнул пальцем себе по сюртуку: – Во!
– Тише, пожалуйста, – строго сказала Надя и нетерпеливо вертнула головой в сторону Саньки.
– Ну и черт с тобой, – сказал Санька. Зло сказал, насупился и громко пошел к двери.
– А когда это было? – вдруг спросила Надя, – брат был уж в дверях, быстрым голосом спросила.
– А черт его знает, – зло буркнул Санька и прошел через сени к себе.
Свадьба завтра
БЫЛО тихо в квартире. Мягко веял свет сквозь белые шторы. Башкин прислушался, и сквозь легкий шум в ушах слыхал только хлопотливое тиканье часов на мраморном столике. Приятно пустела легкая голова, и сам он чувствовал, что был легкий, будто нитяный.
Башкин осторожно обвел глазами комнату. На кушетке, поджав коленки, спала Наденька. Коричневая юбка слегка поднялась, и из-под нее легло кружево на черный чулок. Детски доверчиво светил белый узор. Наденька подогнула голову к груди – на жесткой диванной подушке – и во сне зажала в кулачок конец английского галстука.
Башкин нацелил точку на обоях, чтоб по ней следить, чтоб видеть, как дышит Наденька, как поднимается ее плечо. Плечо жило, дышало, – он мог смотреть на Наденьку сколько хотел, и он водил по ней глазами, а она все так же лежала перед ним, закрыв глаза.
Башкин пустился думать, что она не спит, она только закрыла глаза и знает, что он глядит. И он водил глазами по кружеву, по плечу, по волосам. И ему казалось, что владеет ею, – и она покорно, рабски лежит. Он щурил, закрывал глаза, чтоб потом сразу ярко взглянуть.
"Я позову, и она подойдет. И станет здесь. Около меня... Скажу: Надя!"
– На-дя! – вздохом сказал Башкин, одними губами. – Надя!
Покорная усталость спала на Надином лице. И воротничок, и галстук, и туфля с тупым носком на низком каблуке вдруг глянули на Башкина, – все сразу, как одно, как отдельное от Наденьки, как не ее. Девочка в приютском платье – "без обеда" – и спит с горя после слез. "После сиротских слез, подумал Башкин. – Не насмешливая, не строгая, – шепотом говорил Башкин, покачивая голову на подушке, – нет... нет. Обыкновенная... простая, как я. Да, да!"
Он говорил, как говорят в забытьи. Слушал свой голос и верил ему. "Я позову, я по-зо-ву!"
– Надя, Надя! – сказал Башкин почти громко и на всякий случай прикрыл глаза. В щелку век он видел, как Наденька привстала на локте и замигала глазами.
Башкин совсем закрыл глаза. Голова сама охотно уплывала в забытье, но дыхание обрывисто поднималось. Он слышал, как Наденька осторожно встала, как пошла на цыпочках. Вот здесь. Вот зашуршали юбки, стала, стала на колени у изголовья. Башкин через закрытые веки видел, как она глядит на него.
– Зачем... зачем? – как будто в бреду простонал Башкин. Он сам почти верил, что бредит. Наденька осторожно откинула волосы с его лба и легко прикоснулась, пробовала: как жар?
"Вот так и сказать, ей сказать, -думал Башкин, – и она ручкой своей все, все сотрет – нежно и просто. Мы оба бедные". Слезы щекотали глаза.
– Боже мой! – слабыми губами вздохнул Башкин. – Зачем... они меня мучили?..
Он зашатал головой, как во сне. Так слабо, так натурально, что был уверен теперь, что так бредят.
– Что я им сделал? – простонал Башкин. Он сказал от всего сердца, с тоской, с болью, и замер.
Наденька осторожно положила руку ему на темя и слегка удерживала его голову, и Башкин чувствовал, как по всему телу, от темени, от ее руки пошла волна теплого счастья. Он не двигался, почти не дышал. Наденька тихонько стала отнимать руку. Башкин запрокинул голову вверх, он своей рукой без ошибки схватил в воздухе Надину руку. Башкин поймал своей липкой рукой Надину руку, зажал, притянул к губам и целовал, как будто пил из нее от жажды. Он вертел и целовал в ладонь, в пальцы, и она чуть сопротивлялась, упруго и нежно, как будто рука жила отдельно своей жизнью, своим вздохом. И Башкин схватил эту милую, покорную и кокетливую ручку, зажал в свою руку и положил под голову, припал небритой щекой – судорожно, пьяно. И рука лежала и, казалось, дышала нежной ладонью.
Он с силой зажмурил глаза и мелкой дрожью тряс головою.
– Что с вами? Что... с вами? – повторяла Наденька, повторяла, как не свои слова. – Что с вами?
– Милая моя! Бедная! Хорошая! – говорил Башкин с судорожной силой, сквозь зубы выдавливая слова. – Я самый, самый ужасный человек. Хуже всех, Наденька. Хуже Иуды. Знаете Иуду? – И он вдруг глянул на Надю. Глянул во всю ширь глаз, с силой порыва.
Надя, полуоткрыв рот, красная, глядела нанего, глядела, распахнув глаза, чтоб видеть все.
Она чуть отвела глаза на раскрытую грудь Башкина, на багровые ссадины, и без звука, почти одной мыслью спросила:
– Что это?
– Они меня били, били, били, – захлебывался Башкин, – и я им отомщу, я вам говорю, Наденька, и никому, слышите, никому, – и Башкин свел брови и затряс головой.
– Кто? Что? – шепотом спросила Надя. Она тяжело дышала, она наклонилась ниже над Башкиным.
В это время в передней дрыгнул короткий звонок – трык! – и потом долгий.
Надя дернулась. Высвободила руку от Башкина и, вскочив с колен, на цыпочках пробежала в переднюю.
Башкин слышал, как Надя осторожно повернула французский замок и как мужской голос сказал в дверях: