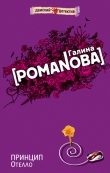Текст книги "Виктор Вавич (Книга 1)"
Автор книги: Борис Житков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Башкин думал словами, как будто он произносил речь перед толпой и хотел доказать этой толпе, что цельные натуры – это идиоты, в том числе этот здоровый дылда, что собирался ему дать по морде. И пусть, пожалуйста, не хвастает своей цельностью. Цельней осла все равно не будут.
– Идиоты, форменные идиоты, – говорил Башкин вслух. Он старался говорить спокойно и веско. Примерил баском и завернул кругло "о".
– Идиоты! о-оты!
Через минуту Башкин уже думал, что этот студент не посмел бы и думать дать в морду, если бы он, Башкин, был бы атлет. Мускулы шарами, как арбузы, в рукавах перекатываются. Надо заниматься гимнастикой.
Башкин остановился и выкинул руки в стороны, как делал это на гимнастике в училище.
– Раз-два. Вперед, в стороны... Завтра куплю гири и начну. , Он снова пошел, размеренно и широко шагая. Он чувствовал, что устал от бессонной ночи. "Нет, не надо гирь, – думал Башкин, – просто: говорить всем, что он занимается гимнастикой и выжимает два пуда".
У ворот он нащупал в кармане гривенник и коротко ткнул в звонок. Пришлось ткнуть еще и еще.
"Обозлится дворник, обозлится, – думал Башкин. – Но мог же я в самом деле быть занят ночью важным делом. Мог дежурить у больного: до дворников ли? Тоже, скажите". И вслух сказал:
– Скажите, пожалуйста.
Башкин поднял голову и выпятил грудь. Во дворе резко хлопнула дверь и зашаркали тяжелые сапоги.
Башкин видел сквозь глазок в ворота, как шел дворник в белье, накинув на голову рваный тулуп.
Башкин ткнул гривенник в ладонь дворнику.
– Скажите, правда у вас болят зубы?
– Эк ты, черт проклятый, – ворчал дворник, тужился повернуть ключ.
– Мне почему-то кажется, что у вас болят зубы, – говорил Башкин, удаляясь от дворника. – Это ужасно мучительно, – говорил Башкин и вступил в черную дыру лестницы.
Сзади шаркали тяжелые сапоги по камням.
Альбом
БАШКИН жил у вдовы-чиновницы, у пыльной старухи. Старуха никогда не раскрывала окон, вечно толклась в своей комнате и перекладывала старые платья из сундука в комод, из комода встарый дорожный баул, шуршала бумагой. Пыль мутным туманом расползалась по душной квартире. Махоркой, нафталином и грустным запахом старых вещей тянуло из сырого коридора. Казалось, старуха каждый день готовилась к отъезду. К вечеру уставала, и, когда Башкин спрашивал самовар, с трудом переводила дух и всегда отвечала:
– Да повремените... нельзя же все бросить, – и снова пихала слежалое старье в сундук.
Три замка было в дверях у старухи и три хитрых ключа было у Башкина.
У себя, в узкой грязненькой комнате, Башкин зажег свет и присел к письменному столу. Он осторожно вытянул ящик стола, пощупал внутри рукой и вынул конверт. На конверте крупным почерком было написано:
"Отобрано у Коли, 27/II.
Башкин спустил штору, оглянулся на дверь и бережно достал из конверта открытку. Это была фотография голой женщины: на ней были только кавалерийские ботфорты с шпорами и задорное кепи поверх прически. Она улыбалась, длинная папироска торчала во рту.
Башкин взял со стола большую лупу и стал разглядывать открытку, отодвигая и приближая.
Он приоткрыл толстые губы и прерывисто, мелко дышал.
Он рассматривал фотографии одну за другой; лупа подрагивала в руке.
Эти открытки он выписал по объявлению: "Альбом красавиц – парижский жанр", выписал "до востребования", на чужое имя. На конверте он написал, что отобрано у Коли.
"А вдруг попаду в больницу и будет здесь кто-нибудь рыться? Или обыск?"
Коля был ученик Башкина. Да мало ли их, Коль всяких, Башкин знал, что ему говорить в случае чего.
Что-то стукнуло за стеной, заворочалась старуха. Башкин быстро сгреб открытки и смахнул в ящик. Прислушался. Сердце беспокойно билось.
"Да что такое? – думал Башкин. – Чего я в самом деле? Наверно, у этих, у маститых, у старика Тиктина, например, порыться – и не такие еще картинки найдешь. Ходят "воплощенной укоризной", светлые личности, а сами, наверно, тишком, по ночам, не то еще... Скажи, каким пророком смотрит".
Башкин вызывающе, нагло глянул на портрет, что на двух кнопках висел над кроватью.
"Для лакеев нет великих людей, – шептал Башкин, – потому... потому что только они-то одни их и знают по-настоящему. И великим людям это очень досадно. Чрез-вы-чай-но".
Башкин порывисто полез в стол и вытащил оттуда тетрадь. Сюда он записывал мысли. Он написал:
"Великим людям досадно, что лакеи их отлично знают".
"Досадно" подчеркнул два раза.
Башкин собрал открытки и стал аккуратно всовывать в конверт. Он их часто пересматривал и теперь только заметил, что одна из красавиц была похожа на знакомую учительницу рукоделия. Башкину стало неловко, что она голая. Он теперь думал об учительнице: что она стареет, что отжила свой бабий век, что она пудрится дешевой пудрой и сама делает воротнички. Ему представилось, как она по утрам торгуется с зеркалом, как ей больно, что ничем не вернешь красоты, а на эти остатки никто не позарится. Разве из жалости. Он знал, как она пытается утешить себя, что она зато труженица. И ему так захотелось, чтобы учительнице было хорошо, а не горько, что слезы показались у Башкина на глазах. Он почувствовал, как теплая капля покатилась по щеке. И сейчас же отвернулся к зеркалу, стараясь удержать выражение лица. Выражение было грустное, доброе.
"Нет, я все-таки хороший человек", – подумал Башкин и стал раздеваться.
На дворе уж светало. Мутно светало, через силу.
Стружка
ФИЛИПП Васильев был токарь по металлу. Неплохой токарь – три с полтиной зря не дадут. Мастер говорил про него:
– Даром, что молодой, а большой интерес к работе имеет.
Васильев знал, что мастер его хвалит, и хотелось, непременно хотелось, чтоб самому услышать, чтоб мастер в глаза признал его, Васильева, лучшим токарем в заводе.
Мастер был усатый, мрачный, тяжелый, многосемейный человек. На слова был скуп. Ходил по мастерской, жевал губами, руки за спину, и все поглядывал. Спиной мастеровые его взгляды чуяли, не оглядывались, а только ниже наклонялись к работе.
Сдает мастеровой работу, Игнатыч обведет глазом, как будто рукой обгладит, а на мастеро-вого и не глядит, пожует губами и буркнет: "Ладно". Мастеровой дух переведет. А уж если глянет на мастерового, то так, что только б на ногах устоять, – как будто крикнет на весь завод: "дурак ты и скотина", – уж мастеровой хватает вещь, уволочь бы куда и самому бы с глаз.
Вот этого-то Игнатыча и хотел Васильев разорить на похвалу.
Все знали, что Игнатыч – любитель церковного пения и сам поет в хоре в Петропавловской церкви. А после обедни иногда заходит. И больше в ресторан "Слон". Васильев всю неделю старался. Все точил своими резцами, которые берег и прятал. Точил как на выставку. И везло. Везло потому, что у Васильева был "талант в руке", всем естеством чувствовал размер. Он быстро, грубой стружкой, обдирал работу, не подходил, а подбегал к размеру вплотную.
Шлепали ремни в мастерской, по соседству в монтаже звонко тявкали молотки. Филипп ничего не слыхал. Звуки были привычные, и он был над своим станком в тишине и один. Равномерно журчали слева шестерни перебора. Оставались доли миллиметра, оставалась последняя стружка и начисто пройти с мыльной водой. Васильев, не глядя, толкнул над головой деревянный рычаг, перевел ремень на холостой шкив. Замолчали шестерни, и для Филиппа настала глухая тишина. Он вытянул свой ящик, черный от черного масла, как от черного пота, и достал оттуда заветный резец. Он, прищурясь, осмотрел лезвие, блестящее, заправленное, и стал устанавливать его, нахмурясь, напряженно.
Он устанавливал резец, почти не дыша, шепотом поругиваясь. Вот, вот оно! Он затаивал дыхание, как стрелок перед спуском. Готово! Васильев, уж больше не глядя, затянул ключом гайки, накрепко, насмерть. Теперь пойдет тонкая, как бумажная лента, стальная стружка и под ней блестящая поверхность, глянцевитая, как шлифованная, и это должен быть размер. Но если перебрал? Тогда весь блеск и торжество позором навалятся на Филиппа, и ему... нет, уж ему-то не простят! Больно уж он хлесткий. Затюкают и год поминать будут.
Васильев ткнул рычаг над головой, и осторожно зашептал перебор.
Стружка широкой упругой лентой пошла от резца, завернулась в блестящую трубку и поползла со станка. Васильев пристально глядел, глаз не спускал с работы, как будто нужно было присматривать за стружкой, – теперь все шло уж без его воли, как бильярдный шар после удара.
Васильев волновался, потому что он всегда работал с риском, он ходил у самых пределов.
Васильев не видел, как проходили мимо товарищи, как подмигивали, глядя на напряженное лицо Васильева, – ишь, старается! – на грузную фигуру Игнатыча с руками за спину; Филипп издали учуял, учуял боком глаза, Игнатыч глянул искоса и буркнул:
– Что, уж второй?
И Васильеву было лестно, а он только кивнул головой, будто ему это впривычку, сейчас, видишь, занят, валит дальше.
"То-то огонь-парень!"
Васильев смерил. Он мерил с трепетом, как игрок открывает карту.
"Чок в чок! Что и надо!"
Филипп весело вздохнул, сделал беззаботный вид и глянул на соседей.
"То-то дураки-ковырялы".
И ему хотелось, чтобы сам Игнатыч ему в лицо прямо сказал, что он молодец, аккуратист и первый в заводе токарь.
"Слон"
В ВОСКРЕСЕНЬЕ Васильев пересчитал еще раз получку. Три с полтиной он туго завязал в узел в платок, в красный, с белой каймой; остальные деньги закопал в табак на дно коробки. Надел чистую рубаху, однобортную тужурку с раковинками вместо пуговиц. Оглядел ноги в новых ботинках.
– Всегда, сволочи, шов скривят. Работа называется, – поворчал, нагнулся и подавил пальцем кривой шов. Васильев жил в комнате у вдовой сестры.
– Аннушка, ты прибери и не зажигай ты, Бога ради, лампадку эту, шут с ней. Дух от нее, что в кухне.
Васильев стеснялся, что, если придет кто из товарищей и вдруг лампадка – сейчас скажет с усмешкой:
– Религиозный? Крепко Бога боишься?
И придется извиняться, что сестра, мол; что с бабой поделаешь! Тогда Васильев ругался в "богов с боженятами" и поглядывал на товарищей.
Филипп обтер рукавом свою фуражку с прямым козырьком, подул на донышко и приладил поверх прически. Во Второй Слободской чуть поскрипывал новыми подошвами и свернул к церкви Петра и Павла.
Солнце стояло высоко, было тихо, празднично, и смирно грелась на солнце пустая улица. Петропавловская церковь была нарядная, улыбчатая внутри церковь. Голубой с золотом иконостас и наивные цветные стекла в окнах. От них чистые цветные пятна ложились на белые женские платки, и ладан переливал разноцветным облаком, торжественным и задумчивым.
Васильев быстро оглянулся, не видит ли кто, и юрко шмыгнул на паперть. Солнце косило из окон цветными полосами, и блестели праздничные тугие прически, платки, а где-то впереди колыхались над толпой перья на шляпе. Чинной строго стояла толпа, все ждали херувимскую. Строгое молчание затаилось. Чуть слышно регент дал тон, и свежим дыханием вошел в церковь тихий аккорд. . Люди перевели затаившийся дух, закрестились руки.
Васильев старался уловить в хоре голос Игнатыча – это он, должно быть, басом выводит: "о-о". Но хор пел вольней и вольней, и Филипп уж не старался высмотреть Игнатычев голос, слушал, смотрел на свечи, на радостный иконостас, на лампадки, как слезы. Филипп даже чуть было не перекрестился за соседом. Поднял уж руку, да спохватился и поправил прическу. И он стал в уме отговаривать себя от Бога.
"Какой есть Бог? – думал Филипп. Крепко подумал, даже озлился. – Если б был Бог, так стал бы он смотреть на безобразия, что по всей земле творятся. Человек безвинно погибает, а ему хоть бы что. Все может, а ничего не делает. Давно такому Богу пора расчет дать. – И Филипп с усмешкой поглядел на сосредоточенные лица соседей. – Поставил свечку в две копейки и думает себе два рубля вымолить. Держи, брат, карман!"
Хор смолк, и только одна басовая нота густо висела в воздухе. Филипп узнал: "Игнатыч орудует".
Нота была точная, круглая, ровная.
Обедня отошла, и толпа двинулась вперед, где с амвона протягивал седенький священник крест. Хор гремел победно.
Филипп не сводил глаз с маленькой дверцы, что вела с хоров на паперть. Повалили певчие. Вот и Игнатыч в полупальто и вышитой рубахе. Он что-то говорил регенту, маленькому, щупленькому, с козлиной бороденкой; они, видимо, спорили. Они выходили деловито, не крестясь, и Филипп слышал, как регент кричал Игнатычу:
– Да я-то тут при чем? Дьякон режет, занесло его, дисканты рвутся, а вы свое да свое...
Они долго стояли без шапок на ступеньках церкви, и толпа прихожан обмывала грузную фигуру Игнатыча и отрывала, сбивала регента. Его уносило потоком, Игнатыч удерживал за рукав.
Наконец они надели шапки и пошли рядышком к воротам ограды.
Васильев, не спеша, обошел их. Поровнялся и отмахнул фуражкой.
– Петру Игнатычу мое почтение, – и когда Игнатыч взглянул, добавил, чтоб закрепить: – С праздником.
– Ага, здорово, – сказал Игнатыч и удивленно глянул на Филиппа, – ты чего же?
– А послушать.
– Да и лоб-то не грех перекрестить, пожалуй.
Тут уж Филипп неопределенно мыкнул и прошел вперед.
Он долго покупал семечки у торговки и видел, как мастер с регентом прошли, и прошли не иначе, как в "Слон".
Шли они медленно, резонились о чем-то по хоровой части, Игнатыч напирал и сбивал регента с панели.
Васильев обогнал их, чтоб первому прийти в "Слон", чтоб не подумали, что увязался.
Ресторан "Слон" размещался в двух этажах. Внизу были стойка, машины, столы с рваной клеенкой. Парно, душно, хрипел орган, надрывались голоса, брякала посуда. Тут было дешево и всегда пьяно. Но верх был тихий.
Там была у стены особая музыка – ее заводили за пятак, и она играла задумчиво, мелодично, как будто капает вода в звонкую чашу. Это был большой игральный ящик, какие бывают в детских шарманках. Столы здесь были со скатертями, с бумажными пальмами, на стенах картины в розовой кисее от мух.
Когда Филипп поднялся наверх, там было еще пусто. В конце зала у столика с тарелками сидел половой и заботливо вырезал перочинным ножом кукиш на деревянной палке. Из-под пола едва доносился гул машины и гомон голосов.
Васильев степенно уселся за столик, огляделся и постучал человеку.
– Сей минут, – крикнул человек, привстал и что-то наспех доковыривал ножиком. Стряхнул с фартука стружки и раскидистой походкой с трактирным достоинством пошел к Васильеву.
– Заведи-ка машину, – сказал Филипп.
– Музыку, – назидательно поправил половой. – Пятачок стоит, известно-с? А что поставить?
Он мазнул рукой по соседнему столику и шлепнул грязным листком под нос Филиппу.
– Прейскурант – по номерам можно.
– Пятый, что ли, номер вали, – приказал наугад Васильев, – и бутылку Калинкина.
Официант завел, и грустно закапала ария из "Травиаты".
Снизу вдруг ярко громыхнула машина, рванул густой рев голосов, хлопнула дверь: регент с Игнатычем поднимались, все еще споря.
Игнатыч увидел Филиппа, мотнул в его сторону головой и шутливо пробурчал:
– Что ты панихиду такую заказал? Надо было второй поставить.
"Клюнуло", – подумал Филипп. Игнатыч угощал регента. Но регент, видно, спешил, и мастер наспех подливал пиво в недопитый стакан. Регент поминутно чокался и глядел на часы.
Филипп спросил полдюжины и две воблы – он рисковал: мастер мог уйти с регентом.
Но регент снялся один. Он суетливо дергал часы из чесучевой жилетки и приговаривал:
– Так в среду на спевочку, не опаздывайте, в среду, значит, вечерком, на спевочку. Покорно благодарю. – Он засеменил к выходу и дрябло застукал по ступенькам.
– Жена у него с характером, – подшутил вдогонку Игнатыч и подмигнул половому.
– Бывают женщины, – громко сказал Филипп от своего столика и обернулся к Игнатычу.
– А ты женатый? – спросил Игнатыч. Он все еще улыбался – таким его не видел Филипп в заводе никогда.
– Холостой, слава Богу, – сказал Васильев.
– Видать, вишь огородился. – И Игнатыч кивнул на пол-дюжину, что строем стояла у Филиппа на столике.
– А подмогите, Петр Игнатыч, – сказал Васильев, привстал и выдвинул второй стул.
– Ну, уж не обидеть... разве одну. Получи! – Игнатыч кинул трешку половому и, переваливаясь, засопел через зал. – Так холостой, говоришь? сказал Игнатыч, масляно улыбаясь. – Ухажер, значит? – и лукаво сощурился.
– Я и по этой части справный.
– А по какой же ты еще справный? – Игнатыч отхлебнул пива и все приятного ждал, улыбался.
– А по своей, по токарной, по мастеровой. – И глянул в глаза Игнатычу, так свободно глянул, немного с вызовом.
И сейчас же стерлась улыбка с Игнатыча, опять он посерел, как в мастерской.
"Поспешил, поспешил, – думал с испугом Филипп, – перебрал, запорол все дело"
Игнатыч посмотрел на воблу, допил стакан, стукнул донышком об стол.
– Ты что ж это, на прибавку, что ли, набиваешься? Так, брат, оно не делается! – и повернулся на стуле к половому: – Что ты сдачи-то, ай заснул?
Игнатыч встал и пошел навстречу официанту. Филипп смотрел ему в спину. Народ уже начал прибывать. И в бильярдной метко щелкали шары.
"И верно говорят – все они сволочи, мастера эти, – думал Филипп. Человек перервись тут, а он об одном думает, кабы кто прибавку... Да на чертовой она мне матери!"
Музыка трогательными тонкими звоночками кончала свой номер.
– Запорол! Перебрал, – сказал Филипп и больно стукнул кулаком о край стола. Звонко охнули с испугу бутылки.
Баба
– ПОДАВАТЬ, что ли? – крикнула Аннушка. Филипп хлопнул дверью.
– С обедом она своим! – Наступил в потемках на калошу и швырнул ногой, так что в конце коридора шмякнула в дверь. И повалился на койку, в чем был.
Аннушка вошла босиком, стала у накрытого стола.
– Обедать-то будешь?
– К чертям с твоими обедами! – из-под фуражки огрызнулся Васильев.
Аннушка обиженной рукой стала собирать тарелки, загребла их охапкой все сразу и боком вышла в двери.
– Вот уж верно: паразиты трудящихся масс... – шептал Филипп это про мастеров, заодно и на Аннушку немного. В глазах все стояла толстая спина Игнатыча, как он от стола повалил к выходу. – Из нашего ж брата, а за пятьдесят целковых лишних он уж пес хозяйский. Что фараон – одна цена. Всем вам будет... Всем, всем, голубчики, – сказал Филипп. Кинул фуражку на стол и закурил.
Когда стало темнеть, Филипп накинул пальто, снял с гвоздя черную прошлогоднюю шляпу и пошел со двора. У ворот сидела на лавке Аннушка, грызла подсолнухи, болтала ногой и вбок глядела.
Филипп сказал:
– К вечеру достань большой самовар, взогрей: у меня гости будут.
Аннушка не повернулась, а чуть подняла голову в небо.
– Поняла? – сказал Филипп и зашагал прочь.
Филипп шел в город, в городе горели уж на улицах газовые фонари, и Московская улица поднималась вверх, светилась двойным рядом. А над городом дышало туманное зарево от освещенных улиц. Гулянье только начиналось, и молодые парнишки попарно шли следом за подружками, и начинался разговор, через голову, бочком, смешками, словечками. Хозяйки сидели за воротами, смотрели на парочки, смеялись, раскачивались.
Филипп деловым шагом резал дальше и дальше, туда, в город.
В городе стихал уже грохот пролеток. Угомонилась деловая езда. На остановке с бою брали вагон загородной конки. Веселые барышни в дешевых шляпках и ухари конторщики в шляпах набекрень пирожком, с лакированными тросточками. Они так были похожи друг на друга, что Филипп подумал: "Как они не путают своих писарей, хохотушки-то эти?"
Кучер нахлестывал лошадей. Обвешанный людьми, живая куча-вагон двинулся. Толпа не попавших махала зонтиками уезжавшим. Народу прибыло. В эту-то гущу и вмешался Филипп. Он закурил и стал под навесом станции.
Второй вагон ушел с криком и гомоном.
– Здорово! – К Филиппу подошел молодой человек в кепке, в пиджаке поверх черной рубашки. – Давно?
– Вот второй вагон, – Филипп бросил окурок. Они вышли из толпы и не спеша пошли по тротуару.
– Дмитрий уехал, – вполголоса сказал человек в кепке, – полет надо было сделать. К вам нынче другого пришлют. Есть одна товарищ.
– Баба, значит? – Филипп даже назад откинулся. – Это, знаешь, Фома, дело слабое.
– Брось – слабое. Другая, знаешь ты, баба... А не пойдет дело, переменим. Ребята-то сойдутся ли?
– Это уж будь покоен. Это у меня во! А за ней-то, за бабой, чисто? Филипп глянул на Фому, переждал чуть. – А то у меня, знаешь, аккуратность чтоб – за первый долг. Ведь семь месяцев работаем, – наклонился Филипп к самому уху, – и хоть бы того – тень какая. То-то, брат. – И Филипп тряхнул вверх головой.
– Направо идем, – сказал Фома, – она в скверике ждет, вроде свиданье. Здорово образованная.
В скверике было полутемно. Тихие деревья отдыхали и, казалось, смотрели вверх, в небо. В темноте на скамейках густо чернели люди, по песку шаркали ноги, и липкое гудение голосов, громкого шепота, плавно понизу, а вверху пристально горели крупные звезды.
Фомка шел по дорожке, вдоль круто подстриженных кустов, и вглядывался в людей на скамейках.
Вдруг он стал. Стиснутая соседями, на скамейке сидела женщина в кружевной косынке на голове.
– А здрасьте! – весело сказал Фома и потряс кепкой в воздухе. – Не пройдете ли с нами для воздуху? Наденька встала.
– Будьте знакомы. Наденька протянула руку Филиппу. Филипп спешил вывести бабу на свет, к фонарям, чтоб поскорей глянуть, что она такое.
– Не идите так скоро, – сказала Наденька.
Голос сразу понравился Филиппу. Мягкий и настойчивый. Филипп сбавил шаг. Молодой человек в кепке отстал и растаял в народе.
Пустырь
ВЫШЛИ на улицы. Из окон кофеен выпирал на улицу свет, меледили тенями прохожие. Что ни фонарь – Филипп взглядывал на Наденьку.
"Что-то будто постная какая-то", – думал Филипп. Наденьке от взглядов было неловко, и она смотрела то под ноги, то поворачивала головку в сторону, и все не знала, как ей быть: деловито-строго, как учительнице, или приветливо, по-товарищески. Филипп ждал, Наденька все молчала. Уже прошло то время, когда надо начинать разговор, и оба поняли, что разговора не будет. Наденька шла и все вертела головой.
"Гордится", – подумал Филипп. Яркий свет от витрин упал на Наденьку, осветил ее, с ног до головы обдал. Филипп увидал, что Наденька покраснела, что пышут Наденькины щеки.
И Васильев сразу понял:
"Это она меня стесняется". И спросил участливо:
– Вы в наши края первый раз, можно сказать?
– Да, тут я не была, – сказала Наденька, не поворачиваясь.
Сказала так, как будто она бывала уж в других местах и по таким делам. Ей не хотелось, чтоб знали, что она в первый раз.
– А у нас на Слободке хорошо, все свои ребята живут, заводские. Только народ малосознательный, – сказал Филипп солидно. – Темный, можно сказать, вполне народ.
Наденька молча кивнула головой и вспомнила, куда она положила бумажку с цифрами.
"Главное – цифры, – думала Наденька, – цифры всего убедительней".
– А про что вы им нынче будете говорить? – спросил Филипп. Филипп чувствовал себя как антрепренер, который ведет гастролера, и спрашивал программу. Он не особенно надеялся на Наденьку.
– Я наметила о косвенных налогах и вообще о налоговой системе русского правительства. О том, что налоги, главным образом... Нам направо?
Улицы уже кончились, и далеко остался позади последний фонарь. Перед Наденькой была темнота, и вверху звезды мигали и щурились.
– Вот этим пустырем и пройдем, – сказал глухо Филипп. – Это я для проверки: не увязался ли кто? Гороховая личность, знаете? Тут темно, он побоится нас потерять и будет нагонять, а мы и услышим.
Васильев шагнул в темноту, вперед. Наденьке было жутко. Одной с этим незнакомым. Черт ведь его знает.
– Вы смело за мной, на слух, по шагам, – сказал из темноты голос.
Наденька встряхнулась, пошла. Пошла широкими шагами по каким-то мягким кочкам. Они молча прошли шагов сто. Васильев стал. Наденька остановилась тоже. Заколотилось сердце – что он сейчас будет делать? "Какая я дура, что пошла сюда", – подумала Наденька.
Наденьке показалось, что рабочий прилег, может быть, крадется. Наденька прыгнула в сторону.
– Да тише, – досадливо шепнул Филипп. – Ну, нет его, чисто за нами, сказал он громко. – Теперь можно говорить. Идемте. – Он опять пошел вперед. Наденька перевела дух. – Это насчет налогов, конечно, следует объяснить, какая тут хитрость подведена. А только это, товарищ, уж тем, что дошли до чего. А этим ребятам надо полегче, что поближе, про свое. Сказать бы про тех, что управляют вот ими, то есть нами, сказать, рабочими.
– О роли либеральной интеллигенции? – спросила Наденька, она все еще тяжело дышала.
– Да нет! – с досадой сказал Филипп. – Этого они тоже не понимают А вот про мастеров хотя бы. Мастеров! Знаете? Такая сволочь, извините, бывает. Это ж самые гады и есть для рабочего человека. Самое что не может быть хуже.
Филипп шел впереди. Он не видел Наденьки и еле слышал ее шаги мелкие, сбивчивые, и говорить было в темноте легко, вольно, как одному.
– Поставят вот такое чучело над тобой, накинут ему полсотни рублей, и ходит он по мастерской, глаза выпуча. А чуть что – гляди, либо сбавит, либо прямо за ворота и шабаш. Разъелся, что паук.
Наденька, спотыкаясь, семенила сзади, по мягким кочкам. Она боялась потерять в темноте Филиппа.
– А налоги – это что? – слышала она голос впереди. – Это уж когда человек войдет... налоги там... локаут и все такое... А надо начинать что ближе, со сволочи этой... Поразъедались. Как боров... и руки за спину...
– У меня намечено, – говорила Наденька, запыхавшись. Филипп зло и быстро шагал вперед. – У меня на сегодня... а если успею, то я скажу и о.... о той роли... которую...
Наденька всю неделю готовила материал по косвенным налогам. Бумажка, где выписаны какие-то миллионы, была у нее запрятана в юбке, а про мастеров Наденька не знала, ничего не знала. И почему это он распоряжается?
– Баба! – сказал шепотом Филипп, с сердцем сказал и оглянулся в темноте на Наденьку.
Пустырь кончался, и впереди стали видны светлые оконца слободских домов.
Усмешка судьбе
ВИКТОР сидел в гостях у пристава. Семья пристава была на даче, и квартира захолостела: пыль и неурядица легли на всю обстановку.
В кабинете на подоконнике стояли тарелки с объедками от обеда. На письменном столе на газете пухлой горкой лежал табак. Пристав в расстегнутом кителе ходил по грязному ковру и поминутно скручивал папироски. Вавич сидел на кожаном диване и слушал пристава.
– Что главное? – спрашивал пристав. – Вот скажите мне: что главное? Пристав затянулся, остановился перед Вавичем, расставив ноги. Левая рука за подтяжкой. Пустил дым в потолок. – Не знаете? Главное – вид. Вид – главное. – Пристав зашагал. – Полиция – это лицо города. Ну, въезжаете вы в город. Что вам в глаза бросается? Городовой. Если вот этакая замухрышка закорючкой такой стоит, – пристав скрючился и скривил старческую гримасу, – ну, что? Город это? Сразу и решаете – мразь, а не город. Тетюши! А вот стоит молодец этакий, – пристав выпрямился, – аккуратно одет, амуниция, – пристав провел рукой с плеча по животу, – этак орлом глядит. Ого! Вы подумаете, наверно, наверно, подумаете: ого-го! Да возьмите любой снимок. Кто стоит впереди? Ну, вид города, какого хотите? – Городовой! Граждане могут быть какие хотите, это случайные зеваки. Ну а если на первом плане какой-нибудь золоторотец с обмызганной селедкой на правом боку – это уж извините, извините меня.
Пристав замахал руками и отвернулся, как будто Вавич собирался спорить.
– Ну хорошо. Вот вы околоточный надзиратель. Стоите дежурным на углу. Как вы будете стоять? Встаньте, встаньте, покажите. Бросьте папироску, – и пристав дернул Вавича за рукав.
Вавич встал. Встал по-солдатски.
– Ну и глупо! – Пристав фыркнул и махнул рукой. – Вот, глядите!
Пристав стал, отставя вперед левую ногу, чуть подняв вверх подбородок, правую руку зацепил большим пальцем за пояс брюк, левой рукой он как будто придерживал ножны невидимой шашки.
Постоял так минуту.
– Вот надзиратель! – сказал пристав. Он отшагнул и указал на место, где только что стоял надзирателем. – Вот-с: картина! Ну, станьте.
Виктору было до слез неловко принимать позу, но он все же встал. Не свободно, но так, как стоял пристав.
– Взгляд, взгляд надо! Готовность и усмешка судьбе. И, батенька, одеваться, – продолжал пристав, когда красный Вавич сел на место, одевайтесь с иголочки, с ниточки, и чтоб на вас ни пылинки, ни пятнышка. Дадут вам самый завалящий околоток, Ямскую слободку какую-нибудь, – и там вы франт. Ботфорты носите – глянц, кавалерийский корнет. Начальство проездом глянет и, будьте покойны, скажет: да такому квартальному тут не место.
Пристав затеребил табак на столе, стал курить папиросу.
– Кителя – как снег, как мелом натерты. Фуражку три месяца проносил вон к черту. Помните, что вы – лицо города!
Приезд или встреча. Кого в наряд? Самого нарядного. А у вас и фигура. У вас есть фигура.
Вавичу теперь самому захотелось встать, отставить ногу, палец за кушак и усмешку судьбе изобразить.
– И вот запомните, что я вам скажу, молодой человек: два главные свойства, два качества – решительность и галантность!
Пристав резко повернулся на каблуках и подошел к окну.
Виктор робко пыхтел папиросой. Вдруг пристав подошел вплотную к Виктору, наклонился и свирепо нахмурил брови. И, махая указательным пальцем перед самым носом Вавича, пристав прохрипел:
– Только надо знать, когда пустить одно и когда применить другое. Божже вас упаси перепутать! Божжже вас упаси, – махал пристав пальцем.
Вавич не решился попятиться.
– Так-с, – сказал пристав облегченно, – а теперь покурим.
– Да, да, – говорил Виктор, – вот только кончатся лагери, и я в запас.
– И отлично, и поезжайте. В своем городе – неудобно. Связи старые, это может стеснять при исполнении обязанностей. Всякое, знаете, может быть.
– Вы писали уже? – спросил Вавич.
– Это уж не беспокойтесь, это уж все будет сделано. Коли я сказал место за вами.
– А все-таки: чиновники? полицейские – чиновники? – вдруг спросил Виктор.
– М-да! Конечно. Чины здесь гражданские, – раздумчиво ответил пристав.
В это время тяжелые сапоги затопали у порога.
– Кто? – гаркнул пристав.
– Гольцов, ваше высокородие!
– Чего принесло? – пристав сунулся к двери.
– Игнатов вроде горит.
– Какой Игнатов? В каком роде? – встревожился пристав.
– У москательщика Игнатова вроде пожар.
– Так и ждал, давно ждал. Ишь ведь, и погоду выбрал. Вели подавать, еду. – Пристав стал торопливо застегивать китель. Городовой просовывал под погон портупею. – Простите! Вот изволите видеть. Всегда на посту. Поцелуйте ручку Аграфене Петровне! Живей, дурак, шапку, – крикнул пристав городовому.
Виктор вскочил.
– Честь имею, – козырнул в дверях пристав. У крыльца городовой подсаживал пристава в пролетку, и Виктор слышал, как он рявкнул в ответ:
– Так точно! Страховой на даче-с.