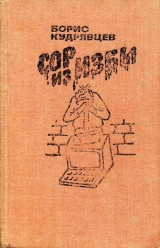
Текст книги "Сор из избы"
Автор книги: Борис Кудрявцев
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Для верности позвонили в промышленный отдел редакции и попали в точку. В отличие от тихой и осторожной Марины нарвались на заводного, как динамомашина, старшего редактора Андрея Суворова. На свалках он бывал и раньше, передачи делал, разносные. Допустил когда-то перехлест, по тем временам, назвал того, кого не следовало называть. Передача вернулась к Андрею бумерангом. Был инфаркт. Свалился Суворов злонамеренно на крыльце парадного подъезда комитета по радиовещанию и телевидению. Впрочем, что ожидать от человека, уличенного в очернительстве, натурализме и подрыве авторитета властей.
От начальника Суворов, говорят, вышел здоровехонький, с приличным гемоглобином, хотя и сердцебиением. А кто выходил иначе? Начальник отрабатывал свой хлеб… Когда опальный репортер закрыл за собой дверь и вдохнул морозного воздуха полной грудью, губы у него посинели, очки полетели в сугроб. «Я встану, сейчас встану…», – на что-то еще надеялся Суворов. Он плохо знал начальство: приказом по комитету выход Суворову в эфир отныне запрещался, навсегда.
Из больницы Суворов вышел как раз в тот момент, когда о приказе старались не вспоминать. Гласность! Можно было схлестнуться с начальником, вышибить из него пыль, а заодно и душу, но Суворов зла не помнил, хватит того, что есть. Он и мечтать не мог о таких переменах.
Написанное с оглядкой и угодливостью – «Чего изволите?» – объявлялось серостью. Редакторский карандаш заробел, поистерся, не гулял по его рукописям, круша и вымарывая абзацы и целые листы. Суворов шел «живьем», с голоса, заикаясь с непривычки и сглатывая слюнки. Речь у Суворова хриплая, «не наша», как сказали бы раньше, врывалась сквозь гладкое дикторское щебетание. В запале Суворов, случалось, коверкал слова, как интурист, путал ударения, но то, о чем говорил, нельзя было не слушать, раскрыв рот, не донеся ложку с кашей… Порой Суворов переступал грань, клеймил в открытую, как представитель обвинения. Прокурорский тон делу не помогал, наоборот, давал повод. Были жалобы, разборы и объяснения, но все это после. Откуда было знать изголодавшемуся по правде слушателю, что в каждой передаче Суворов ставил под вопрос свою карьеру и вообще пребывание в редакции областного радио. Ему было уже под пятьдесят, поступать в ПТУ, переучиваться поздно, и всякий на его месте подумал бы о семье. И Суворов думал, даже давал себе слово остепениться, не ввязываться и не возникать, пока не дадут квартиру. Семья ютилась вчетвером в полуторке и с испугом слушала его фельетоны по радио.
Второй инфаркт пугал Суворова и был, по словам бывалых, почти неизбежностью, если он не утихомирит страсти. Андрей сосал валидол, утихомиривался, как абитуриент перед приемной комиссией, но до той поры, пока не нарывался на бюрократа, зажимщика, хама, «выводиловку», уравниловку, блат и кумовство, то есть основу жизни и процветания. Тут он как бык на корриде, готовый к закланию, терял контроль и шел грудью на шпагу. Очередь на квартиру подвигалась гораздо медленней его фельетонов, и вовсе встала, когда Суворов схлестнулся с ярым бюрократом, пройдохой и ловчилой директором завода стройматериалов Ткачуком. Фанера и сосновая шпунтовка всякому нужна, не говоря уже о ДВП или ДСП. Ткачук отделывал под дуб начальственные приемные, кабинеты и тайные чайные комнаты с персональными клозетами и через это ходил в князьях «теневой» экономики с железным принципом: ты – мне, я – тебе.
Суворов застукал Ткачука на корректировке планов и безбедной жизни за этот счет в течение трех пятилеток. Ткачук ходил в передовиках, зачинателях и продолжателях, сидел в президиумах, и лишь областное радио попыталось разобраться в оценках.
Репортер глаз с завода не спускал, не ленился делать крюк, «Стройматериалы» были на городской черте, почти недоступные по причине отсутствия транспорта. Но Суворов, кряхтя и ойкая от сердечных толчков, наведывался в конце месяца, в аврал и сверхурочные. Совал нос на склад и списывал номера с персональных «Волжанок». Ткачук распорядился не допускать к заводу корреспондентов без его на то личного распоряжения. Поэтому когда в «Стройматериалах» затеяли аттестацию рабочих мест и хозрасчет, Суворов по-собачьи пролез в дыру в заборе, вырвав клок в штанах, единственных в его парадном гардеробе.
Его поразили гирлянды изоляционной стекловаты и хлопьев, свисавшие с потолка в цехе, пыль склеила очки, набилась в ноздри. Люди ходили тенями, на ощупь. «Для пожара хватит одной спички!» – пророчески сказал Суворов в передаче. И накаркал.
Пожар полыхнул уже ночью. Сгорел цех изоляционных плит. В огне погибла лучшая крановщица, мать троих детей… Говорят, она еще до Суворова требовала от директора навести порядок в цехе, а не выжимать «план любой ценой»…
Суворов открытым текстом обратился к коллективу погоревшего цеха и завода в целом – переизбрать директора. Накалились страсти, шли собрания. Дырку в заборе Ткачук заколотил железом и подпер шпалой, Суворову оставалось лишь ждать и строить догадки. Вначале Ткачуку дружно отказали в доверии и выдвинули двух кандидатов на его место. Суворов ликовал. И напрасно. На втором собрании кандидаты тихо поблагодарили за доверие и отказались…
Ткачук сел в кресло за неимением конкурентов, посетовал, дескать, тяжел хомут, да ему не привыкать. Суворов, прознав, слег в кардиологию со вторым инфарктом, который был теперь для него вроде насморка, и в промежутках переливаний и вливаний, строчил разгромный материал на Ткачука, предсказывая новые беды и загорания на заводе, подозревая зажим критики, фальсификацию и дутую демократию при выборах директора.
Ткачук тоже писал: жалобы в центр, партийные органы и даже в суд. Возможности у него были не в пример Суворову: жалобы множились на ротапринте и отсылались для скорости с нарочным за госсчет.
Война затянулась. Суворову она давалась тяжелей. Битва складывалась не в пользу репортера, несмотря на его знаменитую фамилию. Но Суворов надеялся. На радио шли письма, мешками, активность на предмет гласности подскочила, лишив гонорара штатных «писателей». Квартиры не было, гонорара тоже. Суворов ждал писем со «Стройматериалов», рылся в корреспонденции, чтобы не пропустить. Но пока что молчал коллектив, выжидал…
Известие о том, что по соседству с памятным заводом затевается стихийный субботник на свалке, взбодрил Суворова.
– Субботник «самозванный»? Местная инициатива? Хорошо! А может, все же кто-то подсказал сверху, разнарядка была? Нет?! Слушайте, а вы не боитесь последствий, по головке за такое не погладят, по себе знаю… Нет?! Откуда вы такие взялись? Включаю магнитофон, говорите о себе… Без оглядки. У меня только так…
Разговор получался скорострельный. Оттолкнувшись от субботника, Суворов хотел воззвать к сознанию инертных стройматериаловцев, но после раздумал, поняв, что свалка сама по себе – тема грандиозная, с тенденцией и корнями, и если не удалось пробиться в вотчину Ткачука, то свалку забором не отгородишь, можно обложить ее со всех сторон, кислород перекрыть кое-кому из бюрократов и зажимщиков…

Общественность пробуждалась не так быстро, как Суворов, зато основательней и самым неожиданным образом. В столице добровольцы восстанавливали памятники старины, отвоевав их у чиновников, скорых на расправу с ветхой застройкой во имя кубов и премий. Работали даром, в свободное время. «Ненормальные, с жиру бесятся!» – толковали про них, пока доброхотов были единицы. Когда счет пошел на сотни и тысячи, «ненормальность» стала нормой и никто уже не крутил пальцем у виска и не смеялся, когда по требованию активистов был заглублен радиус метро, чтобы не тревожить старой застройки, и ревизован памятник на Поклонной горе, лихо расправлявшийся с прилегавшей территорией. С некоторых пор общественность ревизовала также планы министерства мелиорации и осаживала чиновников, невзирая на ранги.
«Значит, можем? – спрашивал себя Суворов. – А мы чем хуже?» Горы под рукой не было, памятника в городе под небеса тоже, чтобы его подкосить, со старинной застройкой в городе успели разделаться загодя, словно предвидя грядущие осложнения с гласностью и демократией. Зато была вода в реке, какая москвичам не снилась…
Годами стучались в глухие кабинеты насчет реки. Она никому не мешала, тихая и покорная, как старая жена, хвастать которой срок прошел, и место ее на кухне. А в кухне, понятное дело, антураж, запах и помойное ведро. Речка вспоила молодец-город, но инфантильный крепыш сосал и сосал мамашу, не соображая, и грозил свести на нет, стоптать крепкими ножками, искривить и загнать в землю. А чуть что – подымал басовитый рев, дескать, речка – дело второе, а первое – план, рост, товарный вал, реализация, контрольные показатели. Против них не попрешь, в законе вписаны…
По правде сказать, даже упрямец Суворов махнул рукой и тему реанимации реки считал безнадежной. Оставалось лишь поставить крест за упокой страдалицы. Вечная па-а-амять… В журналистской практике уже встречались факты обращения светлых вод в сточные канавы. Суворов рисковал и шел первым, но нашелся в местной газете «сдвинутый», который предложил желающим выйти утречком к реке и под музыку в темпе аэробики попытаться вытащить из воды, кто что может: ржавую посуду, битое стекло, черную покрышку от трактора, тряпье… Река вздохнет, и на том спасибо, граждане!
Люди заметили набранное робко, несмело, мелким шрифтом обращение, кто не прочитал, тому передали. В редакции гадали не без душевной дрожи: придут? К речке? Если бы… С сотни по одному – десять тысяч. Сила! Из тысячи по одному – тысяча! Даже один из десяти тысяч устроил бы газету. Реально? Вполне. Разучилась газета чувствовать конъюнктуру и понимать людей, и это понятно, не за тем ее раньше издавали, чтобы самовольничать с ржавыми ведрами и прочими пустяками. Откликнулось двадцать человек. Редакция взгрустнула и подвела итог. Дескать, спасибочки, ожидали большего, людского наплыва на берега, наводнения. «Это полумеры, – изложил особое мнение кто-то из читателей, – много ли сделаешь голыми руками?» В отряд записалось 0,0017 процента населения, хотя воду пили все сто процентов, парились тоже, щи хлебали и чаек заваривали…
«Цифры настраивают на вывод: река в городе такая, какой мы с вами достойны», – подытожила с обидой газета. Было предложение создать не отряд, а клуб добровольцев «Река».
Суворов воспламенился «Рекой», хотя и ревновал к газете. Теперь его черед: клуб «Отвал»! Объявит по радио. Жизнь дала импульс, толчок, побуждение. Лишь глухой его не слышал. В кузнечном цехе уже составился штаб.
До конца недели звенели телефоны на радио, никто в защиту отвала не рискнул поднять голос. Уговаривать людей не пришлось, речи были коротки: «Отвал смердит, глядеть тошно! Безобразие… Убрать!»
* * *
К субботе успели сделать все, что планировали, но как всегда бывает – пугала необязательность явки. Могли прийти, а могли передумать. Добровольцев обычно назначали приказом по заводу, явка на субботник негласно объявлялась обязательной, с прогулявших требовали справку. Теперь не так. Хочешь – иди, не хочешь – лежи. Как говорит восточная мудрость, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше… Пора выдалась грибная, повылазили грузди в лесах.
Отвал – не земляничная поляна, тут даже мухоморы не живут. Кто соблазнится? Представлялся кто-то расплывчатый, надуманный, доброхот из кино, с приклеенным лицом и характером, которому все равно, где субботу коротать.
Штаб договорился собраться пораньше, показать пример, а первого человека, прибывшего на отвал, кто бы он ни был, увековечить в приказе по заводу и прославить через заводскую многотиражку. Энтузиастов пора знать в лицо, хватит им прятаться. В конце концов они из будущего, а никто другой. Теорией доказано. Но до этого, конечно, надо расти…
С утра пораньше Галкин шагал к отвалу, не дожидаясь трамваев, пошатываясь и зевая. Легкое облачко в зените приковало его внимание. С детства заметил, что дождь или мокрый снег собираются к празднику и все портят. Турист в ветровке волок рюкзак с закопченным котелком и норовил пристроиться к Галкину, чтобы вместе по азимуту. Но азимут у Галкина был странный, туда, куда никто не ходит. Старик-садовод ждал автобус, чтобы ехать стричь усы у клубники. Его измучила бессонница. «Сколько времени, дед?» – спросил Галкин, зевнув. Старик пожал плечами, ему было все равно.

У отвала было пусто. Квас не подвезли, лектор из общества охраны природы набирался сил под одеялом. Но от этого энтузиазм Галкина не страдал. Он обошелся бы без лекций с квасом. Не дожидаясь штаба, самовольно полез наверх. В любую минуту ему на голову могли опрокинуть ковш расплавленного шлака из печи плавильного завода, огненные языки которого протянулись, остывая, от вершины до основания горы.
Запыхавшись и чувствуя сердцебиение, Галкин одолел гребень и огляделся. Плоды многолетней нерациональной деятельности человека отсюда лучше просматривались: отвал смахивал на диковинный лунный пейзаж с кратерами от падения бракованных отливок, списанных станков и прочей техники. Упали они с вагонов. Явственно ощущалась собственная невесомость рядом с бетонными кубами от фундаментов, блоками и плитами.
Угрюмый марсианин в кирзовых сапогах с подвернутыми голенищами, джинсах и телогрейке грелся у костерка, разведенного из дощечек возвратной тары, которая числилась на балансе и списанию не подлежала. Видимо, он ждал попутный звездолет, решив не задерживаться ка земле, запылившись и наглотавшись дыма. Откупоривал зубами бутылку «Жигулевского» на дорожку. Так думалось Галкину, зачарованному космическим масштабом предстоящей работы. Марсианин откупорил бутылку, настроившись на лирический лад, но увидел Галкина и встал с открытым ртом…
То был известный (в ОБХСС) самовольный заготовитель металлолома Лева Чанмазян, застать которого за работой никому пока не удавалось. Лева промышлял глубокой ночью без свидетелей, сплавлял даровой металлолом черной и цветной масти. В ловких руках чародея отливки, станины, рельсы и колеса от вагонов сходили за мелкие бытовые отходы, свинцовые аккумуляторы и медные радиаторы от тракторов оплачивались как мятые чайники и самовары. Правда, в местную контору утильсырья Лева не обращался, происхождение его заготовок сразу бы открылось. Поэтому он арендовал «КамАЗ» и вывозил металл с отвала в соседний районный городок, не знакомый с масштабами технического прогресса. Приемщика сырья Лева взял в пай, делясь с ним гонораром и помогая перевыполнять план по заготовкам. Контора процветала. Водитель грузовика тоже не жаловался на судьбу. Левины доходы были под стать годовому обороту среднего заготовительного предприятия. Он купил себе подержанный «кадиллак» на черном рынке в приморском городе и поставил золотые коронки. Цифры кредита-дебита держал в голове, не доверяя бумаге, тем более, что отчета с него вышестоящие организации не требовали. Они вообще не подозревали о конкурирующей фирме с ночным циклом работы…
Поработав ночь, Лева поджидал грузовик. Но компаньоны запаздывали. Может быть, «КамАЗ» накололся в пути с липовым путевым листом? Крах фирмы… Лева нервничал, и тут вместо компаньона-помощника на него вылезло чучело с лопатой.
В Галкине Лева поначалу разглядел конкурента. Нахалов Чанмазян спихивал с отвала и следом пускал зубчатое колесо от экскаватора или вагонетку с застывшим шлаком.
– Ты чего, шпана? – процедил он хмуро, подступая к Галкину, и вытащил из-за голенища финку. Нож Лева отыскал на отвале: чудо уголовной техники, из блестящей нержавейки с наборной ручкой из оргстекла. Такие вещи делаются годами, когда некуда торопиться и срок отпущен на полную катушку. На отвал ножик попал как улика, с архивом из райсуда, подлежавшим списанию по истечении срока давности. Бумаги в папках сгорели, ножик остался. Никто не смог предвидеть, что проклятый отвал и тут сыграет злую шутку: вернет преступное оружие в другие руки.
– Ты чего, жлобина? – Галкин поневоле отступал к пропасти, не сводя глаз с ножа. На краю колючая проволока вдруг стреножила ему ноги. Галкин взмахнул руками и рухнул в шлак. Чанмазян подступил, спасения не было…
Но ура! снизу на отвал карабкались комсомольцы кузнечного во главе с Лешей-комсоргом. Как крепостная мортира разворачивалась пузатая цистерна с квасом. Натиск общественности решил дело. Чанмазян спрятал ножик и с рычанием ретировался, спускаясь тропкой, известной одному ему. Вдогонку можно было пустить колесо или бочку с застывшим цементным раствором, но Галкин не успел…
Над головами комсомольцев кружили белые птицы, стремительные и крикливые, полет их был неровный, волнами. «Похоже, чайки! – дивился Леша-комсорг. – Почему здесь?»
– Друзья! – торжественно сказал Леша-комсорг под крики вспугнутых птиц. – Мы начинаем великое дело!..
Он не винил тех, кто много лет вез и сваливал сюда отходы. Наверное, они не могли иначе, другое было время и силы, короче говоря, недоставало ни времени, ни сил. Суть проблемы Леша не успел изучить и потому глядел просто.
– Ходят слухи, что наш завод считают самым грязным и некультурным в городе, не считая графитовой фабрики, та черным-черна, графит наложил отпечаток. Но мы выпускаем не графит?! Откуда такие слухи, в чем причина?..
Леша притопнул ногой:
– Вот она – таблица Менделеева, под ногами! Здесь все: цветные, черные, драгоценные, если покопать…
Вернем утерянное поколениями добро! Само оно, между прочим, не вернется и останется в дерьме… Простит нам такое история? Нет, не простит.
Леша со знанием дела выбрал ломик, в истории он хотел остаться человеком дела, а не слова, красиво говорить у нас умеют, вдохновляя других. Он забыл, что в машине лежит мешок с сувенирами, абонементы на хоккей и билеты в филармонию на заезжих знаменитостей. Поработав ломиком и набив мозоли на руководящих ладонях, Леша вдруг подумал, что абонементы, даже на хоккей, – пустяки; своевременная идея, двинутая в массы, сильнее всяких стимулов, вплоть до импортных портков с наклейками.
Леша плюнул на мозоли и по примеру Галкина стал выворачивать из шлака трубу, уходившую корнем, казалось, в самое сердце отвала.
Галкина можно было записать в комсомольский актив, в нем чувствовалась личность, собственное мнение, позиция. Таких людей Леша уважал. Позиция могла быть ошибочкой, спорной и даже роковой, из тех, что ломают жизнь молодому упрямцу, но Галкину в данном случае повезло: он в коллективе и делает то, что нужно. Именно так старался жить сам Леша и другим советовал. Он приучил себя к анализу, стараясь подвести итог прожитому дню. И то, что его устраивало вчера, назавтра казалось мелко и мало. То был признак роста. Для верности он спрашивал у товарищей, знакомых – так ли он живет и сколько сделал… Леша хотел быть впереди по праву, не по должности, и взял это за правило еще в школе. Потому, наверное, его кандидатура в секретари школьной комсомольской организации никогда не вызывала возражений, утверждали единогласно, вплоть до последнего звонка. Теперь Леше хотелось бы знать, что думает о нем Галкин. Он закончил школу на три года поздней Леши и должен был знать, кому обязана школа поисковой работой, музеем, диспутами.
Но Галкин ни вспоминать, ни разговаривать не хотел, а может, делал вид, что ему наплевать на все и хочется работать. Перекуров он не делал, по сторонам не глазел. Леше стало скучно, и он перешел в другой конец отвала, раздумав брать нелюдимого Галкина в актив. В другом конце было шумно и весело и работа походила на спортивное состязание: кто больше поднимет и дальше бросит.
Охотились за цветными и драгоценными, зарываясь в шлак по уши, а черный оставляли Галкину. Он не роптал и не отказывался, видимо, знал себе цену и не желал казаться лучше, чем есть. «Пожалуй, на наго можно положиться», – подумал Леша-комсорг на исходе второго часа: спина у него одеревенела и требовала передышки, но расслабиться раньше Галкина комсорг не хотел и ждал, когда тот скиснет. Галкин не скисал, работал играючи, увлекаясь и сам того не замечая, прибавлял в скорости, словно боясь, что не успеет, отвал велик, а день короток.
«Он игнорирует маленькие радости ради большого», – определился Леша. То было вовсе не признаком дремучести Галкина.
К обеду на отвал поднялся коренастый корреспондент областного радио Андрей Суворов. Маленький, худощавый он казался не старше Леши, походил на практиканта, хотя работал на радио уже двадцать лет, и давно разменял четвертый десяток. Держался Суворов просто, но пристально глядел в глаза. Фальшь он не выносил, обман, приписки, общие слова и пустые обещания приводили его в бешенство. Насмотрелся и наслушался за двадцать лет. Теперь порой срывался на грубость, подводили нервы, и его давно бы уволили с работы, если бы не возраст.
Он обежал отвал, оглядев каждого, близоруко заглядывая в самое лицо, стараясь что-то угадать.
– Как настроение? Как работается? С желанием?
– С желанием! – кивнул Леша-комсорг на груды металла, выдернутого из шлака.
Крышка репортерского магнитофона была откинута, на кассете отпечатался звон металла, разговоры и смех работающих. Суворов жаждал необычного и не ошибся, необычным здесь было все. Хозяйственная нерадивость, с которой всю жизнь боролся Суворов без особого успеха, материализовалась в масштабах горного массива. Горстка людей пыталась ей противостоять. Объявление по радио они слышали и пришли семьями и в одиночку. Тридцать человек. Может, еще придут? Суворов ожидал большего и терялся в догадках. В чем дело? Утешало то, что на призыв газеты очистить реку в черте города откликнулись двадцать добровольцев. Суворов всегда считал, что радио коммуникабельней печати, быстрей доходит до людей, и все же как и сотрудники газеты, склонялся к тому, что горожане заслужили такую реку, какую имеют, отвал тоже был в духе их благодушия и «активности». Суворов сам составил текст призыва на субботник. Впрочем, в газете тоже не лопухи, знают, что написать. В итоге: у них двадцать, у Суворова – тридцать. Заводских комсомольцев Суворов не брал в расчет, они пришли бы и без его призыва и обошлись бы без помощи тридцати городских. Дюжие ребята от кузнечных молотов с усмешкой поглядывали на пеструю публику из добровольцев, детей и седовласых интеллигентов в спортивных костюмах и кедах.
– Помощь областного радио не требуется? – старался набить цену добровольцам Суворов, пройдясь вдоль отвала и ознакомившись с фронтом работ. Кое-что озадачило. Он знал по опыту, что заранее все предвидеть не могут даже опытные строители, накладки будут. Отвал – дело их рук, и надо ждать подвоха. Репортер оглядывал окрестности, выискивая опасность.
– Где транспорт? – осенило его. – На чем вывозить металл? Я уже не говорю о шлаке! Без землеройной техники его не возьмешь!
Суворов взял горсть шлака и пропустил сквозь пальцы. Леша-комсорг словно очнулся. Обещанных грузовиков не было. Машины стояли где-то на приколе.
– Надо что-то предпринять, – торопил репортер, – пока не поздно!
Момент был решающий, быть отвалу или не быть.
– Меня они не послушают, – размышлял Леша.
В этом субботнике на отвале что-то было не так. Никто не считал участников, охват союзной и несоюзной молодежи, процент выхода не требовали из райкома комсомола, отчитываться тоже не придется. Хоть сейчас домой иди. Леша не привык так работать, тем более на субботнике. Безвозмездный труд требует контроля, отражения и поощрения. Праздник труда… Праздника не получилось, как ни суди-ряди. Лешу смущал безрукий, болезненный паренек, явившийся на отвал с добровольцами. Инвалид от рождения был навеселе, смешил работавших, помощи от него никакой. Зачем пришел? Скоморох… Возможно, и у инвалида без рук бывают благие порывы, ему хочется что-то сделать полезное обществу. Если это так, то безрукий может послужить укором кое-кому с руками и ногами. Субботник был причиной неприятной истории с Лешиным ближайшим другом и помощником – футболистом Колей Кривенко. Коля оказался подлецом. Об этом в цехе уже узнали и судачили. Коля попросил вывести его из бюро. Дескать, на субботник он пойдет, если обещают «Жигули» восьмой модели. Два года он ждет очереди, а машину отдали другому. Шкурные разговоры на бюро для Леши были невыносимы, но Коля Кривенко ссылался на него: дескать, наш комсорг имеет все, а прочим красиво зубы заговаривает о вещизме и мещанстве.
– Брат, тебе помочь? – предлагал каждому безрукий. – Брат…
У него все были братья. Чем он мог помочь? Парни ему давали закурить, совали сигарету в горячечные губы – инвалиду, кажется, нездоровилось, подносили огонька. А он шел дальше с тем же:
– Брат, ты не устал, помочь?
Походило на шутку. Смеялись. Пока не заметили, что работается лучше. С веселым инвалидом – и горе не беда. Суворов бывал на всяких субботниках, делал отчеты по радио, интервью с ударниками. С безрукими активистами не приходилось. Этот факт вдруг вырос в его сознании, заслонил все. Хотелось узнать подробней. Он ходил тенью за безруким, ненароком выспрашивал, включив магнитофон. Инвалид весь на виду, всякому готов рассказать свою невеселую и простую историю. Зовут – Миша, семнадцать лет от роду. Матери не помнит, она бросила его в роддоме, отца не знает. Родился недоношенным, последствия алкогольной интоксикации…
– Брат, тебе помочь? – спрашивал безрукий у парней, и Суворов все больше убеждался, что это не рисовка, не уловка побирушки, для безнадежно больного, с чахоточной грудью и тонкой шеей Миши каждый встречный – брат, за семнадцать лет жизни люди сделали для него столько добра, что он не может и не умеет их воспринимать чужими. В роддоме дежурные сестры передавали его из рук в руки, обреченного. Дни его были сочтены, Миша терял вес и глядел на свет из-под стеклянного колпака бокса для недоношенных печальным взглядом. Редко кто мог выдержать тот взгляд. Сестры, всякое повидавшие, вытирали слезы.
На операцию решился сам завкафедрой, резал и зашивал. Нагнаивалось, расползались швы. Мишу отправляли в реанимацию, а после снова на операционный стол. Выжил чудом, на чужой крови. Доноры были тут же: ординаторы. Готовы все отдать.
Говорят, у запойной матери Миши был еще ребенок – девочка четырех лет. Нормальный ребенок, с руками и ногами, но матери она мешала, не давала вольно жить. Под Новый год, по совету хмельного сожителя, мамаша обещала девочке показать елку, свела в стужу на кладбище и оставила там. Три дня еще можно было спасти замерзавшее дитя, на четвертый оказалось поздно… Мать судили.
Елки Миша тоже любил, видимо, то было наследственное. Тянулся их наряжать, тыкался культями в игрушки, но ему спешили на помощь, всякий, кто был рядом: в больнице, интернате…
– Брат, – говорил Миша, – спасибо. Извини, когда у меня вырастут руки…
Но руки не росли. Со временем Миша понял и заплакал. Чья-то рука протянула стакан с вином, страдалец…
– Спасибо, брат…
Вином Миша не злоупотреблял. Его не понимали, дескать, на твоем бы месте другой не просыхал! Какая радость в жизни… У Миши радость была: люди. Он их любил и был благодарен.
– Тебе помочь, брат?
Субботник ему нравился, пришел он сюда по объявлению, как приходил на любые праздники, сборища, торжества. На субботнике он впервые, если не считать школьных, интернатовских, и заводские парни ему пришлись по душе.
Суворов знал теперь, что жизнь удивительным образом поворачивалась к Мише хорошей стороной. Жил он в инвалидском интернате, неблагополучном, с дурной славой: помещение за городом, плохо отапливаемое, с руководством чехарда, столовские воруют, учет не налажен, дети сбегают, где-то кочуют на поездах, никому дела нет. Похоже, что Миша тоже в интернат только наведывался. Ему там пришлось бы не сладко.
– Ты где живешь, Миша?
– У людей, брат…
Миша был нарасхват, в бездетных семьях и с детьми. Он нужен был всем. Почему? Вряд ли кто над этим задумывался. Нужен – и точка, словно бы общество, не сговариваясь, решило оградить его от всех бед и невзгод, вопреки злой судьбе и законом проклятой матери.
– Тебе помочь, брат? – с готовностью поднимал культи Миша, улыбаясь.
Леше-комсоргу легче прожить: охвата от него не требовали. На отвал при параде никто не пришел, справок не предъявляли. И все же с Леши завтра могло спроситься, райком комсомола захочет не остаться в стороне, задним числом оформит это мероприятие и внесет в свой актив. С трудовыми массовыми акциями у него не густо. А значит, запросят цифры, чтобы поголовный энтузиазм был гарантирован и ничто не омрачало праздника безвозмездного труда. И если узнают про безрукого, так сказать эксплуатацию инвалида, то могут взгреть… Корреспондент готовил материал, и инвалид у него был гвоздем номера. В райкоме услышат по радио. В горкоме комсомола тоже не глухие. И пойдут звонки: «Альтернативный субботник – с безрукими! Извращение, подрыв самой идеи безвозмездного труда…» Странно, что корреспондент не сознает назначение прессы и к освещению субботника подходит как-то легковесно и односторонне. Леша мог, если бы его спросили, наговорить на пленку, обобщить, поднять, нацелить… Событие само по себе не рядовое: «Комсомольский десант, акция, декада…», – Леша искал подходящее, звонкое, хлесткое. Зачем прибедняться, другой бы на его месте ударил в колокола на всю область. Леша, помнится, и раньше имел дело с прессой, сообщал по первому требованию: сколько людей на рабочих местах и сколько на благоустройстве, кто отличился и какая сумма будет перечислена в фонд пятилетки. Сходилось в копеечку, никаких ЧП, как по нотам.
Цифр у Леши не было, да они и не нужны были корреспонденту. Ему нужен был безрукий. Суворов, кажется, считал инвалида знамением дня, фактором перестройки. Леша-комсорг ему не мешал, но и не желал участвовать в «самодеятельности». Миша его тоже обходил, как избегал когда-то заведующую детской больницей или директоршу интерната: он им снижал показатели – по койко-месту, проценту излечиваемости и возвращению к труду. Такие, как он, статистику не красили и не могли осчастливить ни одного начальника, отвечающего за коллектив и дебит-кредит. В Леше инвалид угадал руководителя с перспективой. В Суворове меньше всего было начальственного и они подружились.
– Зачем ты сюда пришел? – пытал корреспондент.
– Работать! – сказал Миша, удивляясь вопросу: зачем же еще ходят на субботник. «Но ведь ты работать не сможешь!» – хотел было продолжить Суворов, но прикусил язык. Бездельником Мишу никто бы не назвал и не из чувства сострадания. Инвалид не знал покоя, не присел, все время на ногах, внутренний жар, сродни лихорадке, заставлял соваться всюду, спрашивать, обсуждать, подсказывать. Энергия сжигала его, не находя выхода, желание что-то сделать руками упиралось в неодолимый природный барьер, но не отступало, отнимая силы, здоровье. Глядеть на все это было невыносимо, хотелось помочь. И сделать то, что не удавалось инвалиду, за него, за себя. В последние годы материальный стимул хочешь-не хочешь стал главной движущей силой. Даром никто не хотел. Считалось в порядке вещей заинтересовать общественников: дружинникам удлинялся отпуск на трое суток, участникам самодеятельности выписывали премию, иначе песни будут не те и танцы… Уговаривали по-всякому: квартирой, путевкой, талоном на «Жигули». Кто свое получил, от поручений отходил, уговорить его было трудно.








