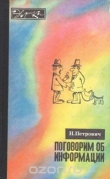Текст книги "Дарвинизм в XX веке"
Автор книги: Борис Медников
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
А вот пример не столь трагический. Мы уже говорили о гималайских и горностаевых кроликах с черными ушами, мордочкой, лапами и хвостом. Сходный тип окраски (светлоокрашенное туловище с темными конечностями, ушами и хвостом) наблюдается и у других млекопитающих из разных отрядов. Всем известны сиамские кошки. Любители этих милейших зверьков должны знать, что их подопечные – мутанты по гену фермента, превращающего аминокислоту тирозин в пигмент меланин (этот фермент называется тирозиказой). Мутантная тирозиназа неактивна при 37° – температуре тела млекопитающих, поэтому мех темнеет у мутантов лишь на выдающихся, охлажденных частях тела. А так как тирозиназа имеется у всех млекопитающих, то гомологические формы с гималайским (или, если хотите, сиамским) фенотипом просто не могут не возникнуть, как и разноцветные глаза у насекомых.

Темный пигмент меланин, окрашивающий шерсть животных, синтезируется из аминокислоты тирозина особым ферментом – тирозиназон. Есть мутантные аллели, вырабатывающие тирозиназу, неактивную при 37 °C; у таких животных мех темнеет лишь на выдающихся, охлажденных частях тела (сиамские кошки и гималайские кролики).
Фенотипический признак может контролироваться целой группой генов – сочетание их аллелей и приводит к множественному полиморфизму, гомологическому для родственных групп. Удивляться этому не приходится – пути превращений веществ в организме необычайно консервативны, многие из них возникли во времена до архейской эры и потому оказываются общими для всех животных (да и растений). Но, как мы уже говорили, параллелизм изменчивости убывает по мере снижения степени родства. Хотя в пределах семейства, отряда или даже более высоких категорий он может привести к возникновению сходных, но не родственных форм, чаще мы имеем дело с ложными гомологиями. Это не параллелизм в эволюции генов, а параллелизм в эволюции фенотипов, обусловленный разными генами со сходными эффектами. Саблезубые тигры, например, возникали в эволюции по меньшей мере трижды – в отряде сумчатых и в двух семействах кошек. Известны также ископаемые саблезубые пресмыкающиеся. Я бы, тем не менее, не рискнул утверждать, что в данном случае гомология признаков возникла на одинаковой генетической основе. Чем дальше отстоят друг от друга сопоставляемые формы, тем менее применим закон гомологических рядов. Объяснять им, например, сходство между дельфином и акулой так же правомочно, как сходство между дельфином и подводной лодкой.
И все же правило Вавилова – одно из самых привлекательных и красивых достижений генетики. Ограничивая неопределенность изменчивости, оно позволяет предсказывать в сложном и в основе своей случайном мире органической эволюции. А это отвечает глубинным требованиям человеческой натуры – ведь человек постоянно пытается что-то прогнозировать – со времен первобытных шаманов и древнеримских авгуров. Практическая значимость гомологического закона несомненна, ее уже не нужно доказывать. Это компас селекционера, указывающий верный курс в океане разновидностей, рас, сортов и форм.
Итак, генетики XX века разобрались во многих важных сторонах наследственности и изменчивости. На повестке дня встал вопрос: как объединить эти достижения с теорией эволюции?
Великий синтез
Как связать эволюцию с генетикой?.. Можно ли подойти к вопросам изменчивости, борьбы за существование, отбора – словом, дарвинизма, исходя не из тех совершенно бесформенных, расплывчатых, неопределенных воззрений на наследственность, которые только и существовали во время Дарвина и ею непосредственных преемников, а из твердых законов генетики?
С. С. Четвериков

Квадрат суммы двух чисел, или уравнение Харди – Вейнберга
В двадцатых годах нашего столетия в биологии сложилось странное положение. Уже два десятка лет стремительно развивалась новая наука – генетика. Два фактора эволюции по Дарвину – наследственность и изменчивость – изучались на строго научной основе. Умозрительные гипотезы сменялись точными экспериментами, интуитивные догадки – алгебраическими выкладками. И весь этот могучий поток мысли и деятельности протекал мимо той отрасли биологии, помочь которой он должен был в первую очередь – мимо теории эволюции. Более того, находились люди, которые обвиняли генетику в том, что она якобы не согласуется с дарвинизмом. С другой стороны, наиболее рьяные последователи и продолжатели Менделя полагали, что дарвинизм устарел.
Этот мнимый конфликт, отголоски которого и сейчас можно встретить в литературе, был разрешен еще 40 лет назад замечательным советским биологом Сергеем Сергеевичем Четвериковым. Именно он положил начало новой, так называемой синтетической эволюционной теории, объединившей дарвинизм и генетику.
История нашей генетики изобилует драматическими положениями и яркими, выдающимися личностями. Но и на этом, богатом героями и событиями фоне, фигура Четверикова выделяется особенно ярко.
В бессмертие он вошел как генетик – и немногие знают, что прежде всего он был энтомологом – специалистом по чешуекрылым. Этакий кузен Бенедикт из романа Жюля Верна, ученый не от мира сего – и в то же время член Московского стачечного комитета в период революции 1905 года. Мало кто работал так напряженно и плодотворно, как Четвериков, однако в силу многих внешних обстоятельств, и главным образом – из-за своей исключительной добросовестности (хочется сказать – излишней, если бы это качество могло быть излишним) печатался он немного. Известно лишь около 30 его работ. В наше время «информационного взрыва», когда научные статьи порой не читают, а считают, иной аспирант имеет больше публикаций. Но одна лишь работа Четверикова – «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» (1926) перевешивает по значению сотни, если не тысячи, подобных скороспелых трудов. День ее опубликования – один из немногих «звездных часов» науки. Недаром доклад Четверикова на V Международном генетическом конгрессе в Берлине в 1927 году был встречен восторженно. Докладчика чествовали, как триумфатора, а потом, как это ни странно, забыли на ряд десятилетий. Лишь недавно, уже после смерти Четверикова, последовавшей в 1959 году, его имя всплыло из безвестности, работа 1926 года была переведена в ряде стран, и теперь от нее выводится новая наука – эволюционная и популяционная генетика. Как говорится, неисповедимы пути господни, но судьбы научных открытий порой еще более непредсказуемы.
Что же все-таки сделал Сергей Сергеевич Четвериков?..
Работа Четверикова имела предшественников. Еще в 1904 году К. Пирсон математически строго показал, что наследуемость мутаций по менделевскому принципу снимает опаснейшее для дарвинизма возражение Дженкина. В самом деле, ведь один ген не «разводится» другим. В гетерозиготном состоянии они сосуществуют, оставаясь раздельными. Мутация не «заболачивается», как писал Дженкин, скрещиванием, и новый признак всегда имеет шанс проявиться в фенотипе в неизмененном состоянии.
Через четыре года после работы Пирсона английский математик Г. Харди и независимо от него немецкий генетик В. Вейнберг сформулировали положение, которое сейчас именуется законом Харди – Вейнберга и описывает частоту встречаемости генов в равновесной популяции свободно скрещивающихся организмов. (Под равновесной популяцией подразумевается сообщество особей, внутри которого соотношение генов не изменяется, находится в равновесии.)
До сих пор я делал воистину героические попытки избежать математических формул. К сожалению, здесь этого сделать уже нельзя. Читателям, не жалующим математику, можно сказать в оправдание и утешение, что мы постараемся ограничиться азами, известными из курса средней школы.
Допустим, если частота встречаемости доминантного гена А в популяции равна q, а рецессивного а, соответственно, 1 – q, то соотношение гомо– и гетерозигот будет следующим:
q2AA +2q(1 – q)Aa + (1 – q)2аа.
Это известная из школьной алгебры формула квадрата суммы двух чисел. Если q = 0,5, как в случае первого поколения менделевских гибридов, то во втором поколении мы имеем следующее соотношение:
0,25AA + 0,5Aа + 0,25aа,
а так как Аа в случае полной доминантности фенотипически выражены как A, мы получаем менделевское расщепление – 0,75:0,25, то есть 3:1.
Физики-теоретики обычно допускают при выводе формул ряд облегчающих им работу предположений (их называют условиями, требованиями или ограничениями). В результате получаются абстракции вроде «идеального газа» и «идеальной жидкости». Закон Харди – Вейнберга также описывает некую абстрактную «идеальную» популяцию со свойствами, для реальных популяций невозможными:
1. Численность такой популяции должна равняться бесконечности. Это, впрочем, не столь жесткое требование, как кажется на первый взгляд. Статистики сплошь и рядом используют при описании частоты встречаемости какого-либо объекта так называемую кривую нормального распределения (кривую Гаусса), хотя, строго говоря, она годится лишь для бесконечно большой выборки. При этом в расчеты вносится ошибка, которая так и называется – ошибка выборки.
Понятие выборки требует пояснения. Дело в том, что статистик почти всегда не может исследовать изучаемые объекты все до единого (так называемую генеральную совокупность). Допустим, вы работаете дегустатором и должны оценить, каким сортом выпустить партию из тысячи банок консервов. Разумеется, вы не можете перепробовать их все – ведь их должны есть другие, в противном случае ваша работа потеряет смысл. Поэтому приходится судить об исследуемой совокупности по незначительной части ее; риск ошибки остается, но вы можете его уменьшить, увеличивая выборку.
В случае с отношением генов ошибка, отклонение от заданной уравнением величины характеризует саму популяцию. На конечной круглой Земле нет популяций бесконечно больших. Численность стада саранчи или большого стада сельди можно без особого греха приравнять к бесконечности. А вот популяция, например, зубров в заповеднике или окуней в маленьком замкнутом пруду – отнюдь не бесконечность. В дальнейшем мы убедимся, насколько важны для эволюционного процесса подобные отклонения.
2. Скрещивание особей внутри популяции полностью свободно, без всяких ограничений (вероятность скрещивания каждого члена популяции с любым другим одинакова). Такие популяции называются панмиксными (свободно смешивающимися). Это условие гораздо более спорно. Человек, например, свободнее всех животных перемещается по планете, однако вероятность того, что житель Москвы женится на москвичке, наверняка гораздо выше, чем вероятность брака москвича с жительницей Иркутска или Караганды. В природе же возможность скрещивания особей из разных частей достаточно большой популяции практически равна нулю. При этом не нужно путать два понятия – популяцию и вид. Один и тот же вид может быть распространен чрезвычайно широко, практически всесветно. Я помню, как был поражен, увидев одну из банальнейших наших стрекоз – желтую стрекозу, порхающую над болотцем на коралловом острове архипелага Гилберта. Но весь этот огромный ареал распадается на ряд изолированных полностью и частично друг от друга популяций. Размеры их могут быть весьма малыми, но даже в самой маленькой популяции панмиксность не абсолютна. Так что второе ограничение серьезнее первого.
3. В описываемую уравнением Харди – Вейнберга популяцию не должны попадать новые гены из смежных популяций; она должна быть абсолютно изолированной.
Такие условия осуществляются в природе в весьма редких случаях. Известны реликтовые популяции, оторванные от основного ареала вида; порой только они и остаются в убежищах – рефугиумах, когда вид повсеместно вымирает. Бывает и наоборот – недавно возникший вид, не успев расселиться, какое-то время оказывается единой популяцией. Новым генам в таких случаях просто неоткуда попадать. Чаще изоляция не бывает абсолютной. Она нарушается главным образом миграцией подрастающего молодняка у животных, заносом семян или пыльцы у растений. Степень изоляции может быть весьма различной. Крысы, например, живут семьями, происходящими от одной родительской пары, и загрызают любого забредшего к ним чужака. Австралийские сороки гнездятся замкнутыми общинами; внутри общины самцы спариваются со всеми самками, самки откладывают яйца в общее гнездо и насиживают их по очереди, но залетные особи в общину не принимаются (предел панмиксности и изоляции одновременно!). А вот гориллы, по наблюдениям американского зоолога Г. Шаллера, кочуют по горным лесам экваториальной Африки семьями, возглавляемыми взрослыми, поседевшими самцами, которые вполне терпимо относятся к визитам гостей из других групп.
4. Новые аллели генов не должны возникать и внутри такой популяции. В ней не должно возникать новых мутаций! Ясно, что такое условие, пожалуй, чересчур жестковато. Все же, если мы исследуем распространение в популяции лишь одного гена в двух аллельных формах, принять его можно. Ведь частота повторного возникновения одной и той же мутации чрезвычайно низка; при ограниченной численности популяции можно принять, что каждая аллельная форма гена возникает только один раз. Разумеется, это допущение годится лишь для короткого ряда поколений (вероятность смерти человека от удара молнии ничтожна, но проживи он несколько тысяч лет – и эта смерть постигнет его со 100-процентной вероятностью).
5. Пятое ограничение кажется весьма существенным. Именно для того, чтобы распределение генов в популяции соответствовало уравнению Харди – Вейнберга, естественный отбор по признакам, определяемым доминантным и рецессивным аллелем, должен отсутствовать. Мутации должны быть нейтральными, иными словами, гомозиготы АА и аа и гетерозиготы Аа должны иметь одинаковую жизнеспособность и плодовитость, одинаковую вероятность оставить потомство.
О возможности существования нейтральных мутаций и их роли в эволюции мы успеем поговорить в другом месте. Пока же нам остается признать, что идеальная популяция Харди – Вейнберга вряд ли когда-либо существовала. В нашем мире нет идеала – все популяции конечны, большая часть их недостаточно хорошо изолирована от соседних и в то же время каждая из них недостаточно однородна внутри себя, все гены мутируют, и многие мутации имеют селективное значение.
Однако применение формулы Харди – Вейнберга к реальным популяциям вполне допустимо (разумеется, с учетом возможных отклонений за счет ограниченности популяции, частичной изоляции внутри нее, заноса новых генов, возникновения новых мутаций и действия отбора). Здесь возникает полная аналогия с физическими моделями вроде идеальной жидкости, успешно «работающими» в границе своих возможностей. Пользуясь этой формулой, можно рассчитать, например, как будет убывать в популяции частота встречаемости летального рецессивного гена, вызывающего 100-процентную смертность гомозигот аа. Оказывается, что даже при столь жестком отборе смертоносный рецессивный ген сохраняется сотни поколений; выщепляясь постепенно из гетерозигот. Иное дело – доминантные летальные мутации. Они из популяции исчезают, естественно, на протяжении одного поколения – ведь они не могут скрыться в гетерозиготе! Исключения из этого правила редки. Такова, например, наследуемая доминантно хорея Гентингтона – тяжелейшее заболевание нервной системы человека, которое может тянуться многие годы, заканчивается мучительной смертью, но проявляется лишь в зрелом возрасте (30–45 лет), уже после того, как носитель этого гена передал его своим детям. Такие случаи, быть может, встречаются чаще, чем это кажется. Есть оригинальная гипотеза, объясняющая старение наличием в геноме отвечающих за это доминантных генов. Мы стареем и умираем, чтобы освободить место для подрастающих поколений, ибо без смены поколений не было бы и эволюции.
Обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. Поэтому вернемся к синтезу менделевской генетики и классического дарвинизма. Четвериков в 1926 году показал, что именно те ограничения, которые отличают харди-вейнберговскую популяцию от реальной, и делают возможным процесс эволюции. Рассмотрим же факторы эволюции по Четверикову.
Как возникает разнообразие
Из предыдущих глав вы уже знаете, что гены не абсолютно стабильны. Меняется по целому ряду причин структура отдельных генов, их местоположение в хромосомах, и сам хромосомный набор претерпевает всевозможные изменения – вплоть до многократного умножения. Судьба этих изменений оказывается различной.
Многие из них приводят к появлению нежизнеспособных форм, погибающих на той или иной стадии развития. Другие как бы воздвигают вокруг носителей таких мутаций «китайскую стену» нескрещиваемости. В большинстве случаев подобные отщепенцы сходят с жизненной арены, оставляя бесплодное потомство. Наконец, есть и такие, которые включаются в генный фонд и передаются из поколения в поколение. Они претерпевают при каждом мейозе все перипетии генетической рекомбинации – и в конечном счете рано или поздно, оказываясь в гомозиготном состоянии, проявляются в фенотипе. Вид на протяжении своей истории непрерывно обогащается мутантными аллелями. По образному выражению Четверикова, вид, как губка, всасывает мутации (он, правда, предпочитал другой термин – геновариации, в практике не прижившийся).
Чем же, однако, объяснить тот факт, что виды на протяжении многих поколений остаются стабильными, сохраняют, как говорят, «дикий тип»? Напомним, что большинство мутаций рецессивно. Каждая мутация – явление достаточно редкое; лишь после того, как она размножится в последующих поколениях потомков, вероятность встречи двух одинаковых генов в зиготе возрастет. Селекционер может ускорить этот процесс: практически все породы домашних животных и сорта культурных растений гомозиготны по разным рецессивным генам. Скрестив два разных сорта их, мы нередко получаем в потомстве возврат к прежнему «дикому типу». Это знал и Дарвин, скрещивавший голубей разных пород и получавший в потомстве «сизарей». Механизм здесь тот же, что и в случае супрессорных мутаций, о которых мы уже упоминали, – дефект одного генома исправляется другим.

Схема опыта С. С. Четверикова. В потомстве одной дрозофилы после ряда поколений близкородственного разведения выщепляются рецессивные мутантные гомозиготы, до того в скрытой виде находящиеся в однообразном, «диком типе».
При внешнем фенотипическом однообразии геномы видов настолько обогащены скрытым разнообразием, что, остановись мутационный процесс, стань гены абсолютно стабильными, эволюция все равно не прекратится. Реализовать в фенотипах уже накопленное генетическое разнообразие в сколько-нибудь обозримые сроки невозможно.
Из построений Четверикова вытекает важное следствие. Наибольшее значение для эволюции имеют лишь те изменения генетического материала, которые, находясь в рецессиве, не проявляются в фенотипе. Не подвергаясь действию отбора, они могут накопиться в популяциях в достаточном количестве. Из этого правила есть, разумеется, исключения. Бактерии и сине-зеленые водоросли, то есть организмы с неоформленным ядром, не имеющие фазы мейоза, гаплоидны. Они имеют только один набор генов, поэтому каждая мутация немедленно проявляется в фенотипе, у них нет запасов генетической изменчивости. Образно выражаясь, они не помнят прошлого и не готовятся к будущему, живя сегодняшним днем. Бурный темп их размножения позволяет им выстоять в жизненной борьбе. Однако они, приспособляясь, не эволюционируют, оставаясь и в наши дни практически теми же, как и в то время, когда были единственными обитателями нашей планеты. Недаром и бактерии, и даже вирусы выработали свои, оригинальные механизмы генетической рекомбинации, которым, однако, далеко до мейоза и полового процесса высших организмов.
Не каждая мутация, вновь возникнув, может закрепиться в потомстве. Ведь не каждый ее носитель доживает до половозрелости. Существует, помимо накопления мутаций, обратный процесс их потери, обеднения генного фонда. Вероятность потери мутации можно рассчитать: если мы примем, что из потомства одной самки выживают двое, то есть численность популяции не увеличивается и не уменьшается (то, что немцы называют система двух детей – Zweikinder-system), то примерно 37 шансов из ста за то, что эта мутация будет потеряна[9]9
Точнее, вероятность потери равна обратной величине от основания натуральных логарифмов 1/e = 0,3679 (для любителей математики).
[Закрыть]. В создании генного фонда популяции участвуют две противоборствующие тенденции.
Можно ли утверждать, что мутационный процесс наряду с генетической рекомбинацией сможет обеспечить нормальный ход эволюции, то есть возникновение новых видов, приспособленных к окружающей среде? Напомним, что аналогичные идеи развивал Де Фриз. Однако считать возникновение генетического разнообразия единственным двигателем эволюции нельзя. Мутационный процесс равнодушен к судьбам организмов, геномы которых он изменяет. Приспособленность к условиям внешней среды он создать не может.
«Волны жизни», «горлышко бутылки» и «принцип основателя»
Наряду с мутационным процессом второй фактор эволюции по Четверикову – колебания численности популяций, которые он образно называл «волнами жизни».
Каждый из нас наблюдал «волны жизни» воочию. Ранней весной редко можно увидеть случайную перезимовавшую между оконными рамами муху, а в августе мы страдаем от их назойливости. Год на год не приходится – в одно лето нет житья от комаров, а в другое они редки. Вспышки численности некоторых видов имеют воистину планетарный характер. Таковы, например, массовые миграции саранчи в годы ее усиленного размножения, годы «мышиной напасти», путешествия многочисленных стад полярных пеструшек – леммингов.
Некоторые из этих вспышек цикличны: они имеют сезонный, годовой или многолетний период (часто, хотя порой и без достаточного обоснования связываемый с солнечной активностью). Другие же апериодичны. Это вспышки численности организмов, попавших в новую среду обитания без достаточного количества врагов, эпидемии гриппа и иных заболеваний, с быстротой пожара распространяющиеся по планете нашествия вредителей из других стран.
Колорадский жук у себя на родине, в Северной Америке, никогда не достигал высокой численности, питаясь дикими растениями из семейства пасленовых. Печальную славу злостного вредителя он завоевал на европейских картофельных полях. То же можно сказать и об американской виноградной тле – филлоксере. Континент Евразии не остался, впрочем, перед Америкой в долгу, «наградив» ее непарным шелкопрядом, воробьями и длинным списком сорняков. Вспомним также нашествие кроликов и кактусов опунций на Австралию.
Отнюдь не всегда такие подъемы численности видов вредоносны. Бурное развитие в Каспийском море акклиматизированного там азовского червя – нереиса значительно увеличило кормовую базу рыб. Это в свою очередь компенсировало оскудение Каспия, наступившее в результате зарегулирования стока Волги. Не будь нереиса, осолонение Северного Каспия нанесло бы каспийским рыбам непоправимый ущерб. Никто не может возразить и против «нашествия» на нашу страну американской мускусной крысы – ондатры, расселившейся от Камчатки до Мурмана, от северной Сибири до Средней Азии (правда, по некоторым данным, она вытесняет ценного зверя – выхухоль). И все же испортить неразумным вселением сложившуюся структуру сообществ растений и животных гораздо легче, чем улучшить ее. Нелишне напомнить, что акклиматизации нереиса в Каспии предшествовала многолетняя работа. Сейчас с развитием авиации, облегчающей перевозки, порой случается и такое, что сначала акклиматизируют, а потом скромно уступают друг другу честь этого замысла. Дело доходит до курьезов, когда вместе с ценными объектами (а то и вместо них) завозят совсем нежелательные. Так, вместе с ценными растительноядными рыбами в Среднюю Азию завезли головастиков чернопятнистой лягушки с Дальнего Востока (уж этого-то можно было избежать!).
Много можно было бы рассказать интересного и о причинах таких колебаний численности, когда в период максимума она больше, чем в период минимума в миллионы раз. Обычные океанские волны никогда не достигают такой высоты, как «волны жизни»! Некоторые из них имеют характер автоколебательного процесса, как в генераторах радиоволн. Так, в период вспышки численности мышевидных грызунов прежде изолированные маленькие популяции сливаются в одну большую, возрастает вероятность контактов. Это приводит к быстрому распространению болезнетворных бактерий (например, чумы и туляремии), массовым эпизоотиям и резкому спаду численности. Гребень волны сменяется провалом, популяция колеблется, как маятник.
Однако сейчас нас интересует эволюционное значение таких колебаний. В первую очередь «волны жизни» резко расшатывают генофонд популяции, изменяя численность всех аллелей, разрушая сложившееся харди-вейнберговское отношение их. А это приводит в конце концов к изменению свойств популяции – так расшатывание выпадающего зуба облегчает процесс избавления от него. При спаде «волны жизни» численность одних мутаций возрастает, а значит, возрастает вероятность встречи рецессивов в гомозиготах; скрытые аллели проявляются в фенотипах и подпадают под действие естественного отбора. Новая «волна жизни» будет состоять из особей с измененным генофондом.
Другие мутации при спаде волны могут просто выпасть из генофонда. Этот эффект образно называют «горлышко бутылки» (или эффект бутылочного горлышка) – далеко не все аллели могут пройти к новым поколениям через минимум численности. Например, если при спаде численности лисиц из популяции исчезнут особи – носители генов черно-бурой окраски, чернобурок в этой популяции уже не будет.

Пример «волн жизни». Колебания численности зимующих гусениц соснового коконопряда за 60 лет.
Не менее важно и то обстоятельство, что при подъеме «волны жизни» прежде изолированные мелкие популяции объединяются в единую, начинается интенсивный обмен генами. Ареал такой популяции расширяется, периферийные части попадают в новые условия, в которых они еще не обитали. Эти enfants perdu (потерянные дети – так во французской армии называли сторожевое охранение на передовой) часто становятся предками новых форм, подвидов и видов (разумеется, если им повезет в жизненной борьбе). При спаде волны они нередко оказываются отрезанными от основного ареала и продолжают свое существование с тем генофондом, который у них имеется. А он, как правило, неадекватен общему генофонду всей популяции. Следующий подъем численности восстанавливает прерванную связь, но соединившиеся популяции порой уже «не узнают» друг друга, они уже генетически изолированы.
Наиболее четко это проявляется в феномене, описанном Четвериковым, который много позже эволюционист-теоретик Э. Майр назвал «принципом основателя». Нередко новый ареал (например, отдаленный остров) заселяют случайно занесенные туда несколько единичных особей нового вида. Так, вся западноевропейская популяция ондатры ведет начало от всего лишь пяти особей, выпущенных в начале века вблизи Праги. Пределом начала популяции, по-видимому, может быть одна оплодотворенная самка. Естественно, она одна, и даже несколько особей, не может хранить весь генофонд родительской популяции. Эволюция этого вида на новом месте должна пойти по-другому. Наряду с изменившимися условиями существования «принцип основателя» приводит к формированию островных рас, подвидов и видов.
В последнее время группа японских исследователей детально изучала популяции крыс на многих островах Океании. Эти грызуны – подлинный бич романтических атоллов – успели с момента вселения пройти большое расстояние по пути дивергенции (расщепления). Некоторые оказались уже генетически изолированными.
Однако колебания численности популяций сами по себе еще не могут привести к видообразованию, к становлению приспособленных к внешней среде форм. Они изменяют в популяции относительную численность аллелей; это несомненно, но несомненно и то, что эти изменения ненаправленны.
Следующий фактор эволюции по Четверикову имеет, по-видимому, для эволюции еще большее значение.
Изоляция – что это такое?
Как вы помните, одним из условий харди-вейнберговского равновесия генов была панмиксия – одинаковая вероятность скрещивания для всех членов популяции. Поэтому следующим «возмутителем спокойствия» является, по Четверикову, изоляция – ограничение панмиксии, происходящее от самых различных причин.
Какие же это причины? Об одной из них мы уже упоминали – когда при спаде «волны жизни» прежде единая популяция распадается на ряд мелких субпопуляций, изолированных друг от друга пространством. Такие осколки называют изолятами. Они еще более четко разделены, если между ними возникают преграды физического характера. Человекообразные обезьяны, например, не умеют плавать, поэтому для стада горилл любой достаточно большой ручей является непреодолимым препятствием. В последнее время важность пространственной изоляции, видимо, даже переоценивают, но об этом речь у нас пойдет впереди.
Чаще скрещиваемость в популяции ограничивается другими формами изоляции. Одна из них – экологическая изоляция, при которой снижается вероятность встречи готовых к размножению особей. Таковы сезонные расы растений, рыб и многих беспозвоночных – здесь изоляция наблюдается не в пространстве, а во времени. Есть и еще более удивительные примеры сосуществования в одной и той же популяции форм, размножающихся одновременно, но не скрещивающихся. У дрозофилы, например, существует мутация «желтая». Желтый самец у обычных серых самок имеет крайне мало шансов на успех, так как вибрирует крылышками в более медленном темпе, что снижает его привлекательность. Если же у серого самца удалить крылья, он вообще теряет способность стимулировать самок к спариванию. Наоборот, самки дрозофил с удаленными усиками-антеннами теряют свою разборчивость и спариваются с самцами других видов. Таких случаев описано немало для самых разных животных.
Даже если спаривание (или опыление у растений) произошло, оплодотворения нередко не происходит. Это так называемая физиологическая изоляция. У многих растений пыльца просто не может прорастать на рыльцах пестиков одних особей, но прорастает у других. Наконец, последний тип – собственно генетическая изоляция. Оплодотворение в данном случае происходит, но гибриды первого поколения нежизнеспособны или же стерильны из-за нарушений мейоза.
Большинство описанных выше форм изоляции преодолимо (например, искусственным осеменением). Генетическая же изоляция создает между формами уже непреодолимый барьер. Его, однако, не следует считать видовой границей, как это нередко делают. Многие виды не смешиваются с близкими видами только благодаря различиям в брачном поведении. Наоборот, сравнительно легко вывести форму, полностью генетически изолированную от исходной, но имеем ли мы право назвать ее новым видом? Полиплоидия у растений и хромосомные перестройки типа транслокаций у животных – самые верные способы генетической изоляции. Но, как мы уже говорили, изоляция – не само видообразование, а лишь служанка его. Услуги ее, однако, огромны. Скрещивание сглаживает различия внутри популяции, препятствует дивергенции прежде единого вида на внутривидовые группировки, которые в дальнейшем могли бы стать новыми видами. Напротив, изоляция закрепляет в небольших популяциях (субпопуляциях, или, как их порой называют, демах) различия. Без нее не было бы дивергенции – вся популяция если и изменялась бы, то целиком, один вид переходил бы в другой, не порождая новых. Это было бы видопревращение, а не видообразование.