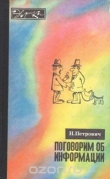Текст книги "Дарвинизм в XX веке"
Автор книги: Борис Медников
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Какое значение имеет игра между популяцией и средой для прогресса? Самое прямое: чем сложнее среда, чем больше других видов организмов воздействуют на вид, тем более сложными становятся условия существования вида, поэтому он должен усложниться или вымереть.
Некоторую аналогию можно найти в эволюции оружия. Ясно, что самый лучший воин, типа д'Артаньяна, вооруженный шпагой, кремневым пистолетом и мушкетом, не выдержал бы поединка против любого новобранца современной армии с пистолет-пулеметом. Современный автомат намного сложнее мушкета, но отнюдь не потому, что конструкторы оружия любят сложность ради сложности.
Доказательство этого принципа можно найти от обратного, как говорят математики. В условиях упрощения среды потребности в прогрессивной эволюции уменьшаются. Именно поэтому мы находим на островах, даже таких больших, как Австралия или Южная Америка (которая долго была островом), весьма примитивные формы животных и растений.

«Живое ископаемое» – рачок щитень, которого можно встретить в весенних лужах.
Для того чтобы познакомиться с «живым ископаемым», не обязательно ездить в Австралию. В весенних лужах под Москвой можно увидеть довольно крупного рачка щитня. От его облика веет какой-то подчеркнутой архаичностью, и это не удивительно. Щитень древнее многих динозавров, он существует с триасового периода без изменений, именно потому он обитает в пересыхающих, временных водоемах, где кроме него никто не может жить, разве только личинки двукрылых. Практически не имея врагов и конкурентов и обладая такой завидной адаптацией, как яйца, покрытые прочной оболочкой, переживающие сухой сезон в земле, щитень не «испытывал» никакой «потребности» к прогрессу.
Еще Дарвин указывал, что пресные, материковые воды – убежище многих архаичных организмов – «живых ископаемых». Причина этого в первую очередь – обедненность водных биоценозов – сообществ животных и растений.
В этом правиле есть, как будто бы, противоречие. Все мы знаем, хотя бы из описания, как исключительно богата флора и фауна тропиков, особенно тропических лесов. Казалось бы, вот где богатство биоценотических связей, наиболее сложные биоценозы! И однако мы находим в тропиках древние формы, давно вымершие в умеренной зоне. Оттуда описаны невзрачные растеньица, во многом аналогичные псилофитам – первым растениям, вышедшим на сушу в кембрийском периоде, а также саговники, гинкго и древовидные папоротники, под сенью которых в свое время прогуливались динозавры; самые примитивные пресмыкающиеся (крокодилы и гаттерия); примитивные лемуры и полуобезьяны – список этот можно увеличить.
Это кажущееся противоречие разрешил Шмальгаузен, указав, что каждое из «живых ископаемых» занимает весьма узкую экологическую нишу с весьма стабильными условиями, обладая к тому же каким-либо уникальным приспособлением, которое позволяет ему с успехом противостоять высшим, прогрессивным формам. Это специализация, благодаря которой «живые ископаемые» и могут процветать в узкоспециализированных условиях, подобно тому, как холодный сапожник выдерживает конкуренцию с мощными комбинатами бытового обслуживания.
Но среда может упрощаться и дальше. Выпадает внешний фактор – и отпадает нужда в органе. Что из этого следует? Среда уже не ведет отбор по развитию этого органа. В геноме начинают накапливаться неконтролируемые средой мутации, ведущие к дисгармонии развития, недоразвитию органа и, наконец, к полной его редукции.
Так потеряли способность к полету (а порой и сами крылья) многие птицы на островах без хищников, глаза – пещерные и подземные животные. Китообразные в начале третичного периода перешли в море, где органом движения у них стал мощный хвост. В таких условиях задние конечности не нужны, даже вредны, так как увеличивают сопротивление воды. Итогом явилась потеря задних конечностей, «ног». Передние остались, но приобрели функцию рулей. Тем не менее, в среднем каждый десятитысячный кашалот рождается с зачаточными задними ногами. А это может означать одно – в генотипе китообразных еще остались гены, ответственные за построение задних конечностей. Поэтому следует очень осторожно относиться к утверждению, что такая-то ветвь – тупиковая, она не сможет приспособиться к новой среде и ничего нового не даст. Чтобы установить наличие тупика, нужно уткнуться в стену – а стена где-то в отдаленном будущем.
Единственное, что можно утверждать: в настоящее время, в данных конкретных условиях эти группы, или же (что вернее) такие-то органы у них регрессируют, а сами они находятся в стадии морфофизиологического регресса, что, впрочем, не исключает их биологического прогресса, процветания.
До крайних пределов регресса доходят паразиты. Анализируя их эволюционные ряды, можно видеть, как они постепенно теряют органы чувств, хорошо развитую нервную систему, пищеварительную систему. В конце концов от них остается мешок, заполненный половыми продуктами. Таков, например, паразит крабов – ракообразное саккулина, паразитические моллюски, самцы некоторых видов, живущие в половых протоках самок. Венец регресса – встроенные в геном хозяина вирусы.
Может ли регресс идти дальше? Видимо, нет – организм уподобится чеширскому коту из детской английской сказки «Алиса в стране чудес», от которого оставалась одна улыбка.
Широкое распространение регрессивной эволюции в природе явно говорит против ламаркова «врожденного стремления к прогрессу». Если же мы учтем известное замечание Ф. Энгельса о том, что прогресс в органическом развитии в то же время и регресс, так как ограничивает возможности к развитию в других направлениях, нам станет ясно, что Ламарк ошибался. Виды прогрессируют, усложняя свою структуру и совершенствуя функции тех или иных организмов, только когда им выгодно (то есть пока в этом направлении действует естественный отбор).
В главе, посвященной прогрессу, нам, как ни странно, нужно рассмотреть еще вопрос о втором начале термодинамики и применимости его к живой природе. Сам по себе вопрос довольно сложен, к тому же вокруг него скопилось столько спорных и попросту неверных мнений, что автор приступает к нему с некоторым опасением, – удастся ли изложить его достаточно ясно и убедить всех без исключения читателей. Да еще надо постараться обойтись без формул!
Демон Максвелла и демон Дарвина
Первое начало термодинамики знают все – это закон сохранения энергии, и смирились с ним почти все, кроме немногочисленных теперь изобретателей вечного двигателя. Да и те сейчас – компетенция скорее клиники, чем физики.
Иное дело – второе начало. Хотя на нем, вкупе с первым, построено все величественное здание современной физики, противников у него и сейчас столько, что становится ясным – оно затрагивает какие-то жизненные интересы людей, пресекает самые сокровенные их мечтания.
А какое самое сокровенное мечтание у человека? Может быть, бессмертие? Не постулирует ли второе начало неизбежность смерти?..
В самом общем виде второе начало можно выразить так: все процессы в природе протекают в сторону увеличения вероятности состояния, в сторону увеличения энтропии. Энтропия – омертвленная энергия, понизить запасы которой в системе можно лишь потратив еще большее количество энергии (ибо нет систем со 100 % коэффициентом полезного действия). Она может только увеличиваться, так же как и время может идти только вперед.
Чем менее равновесна система, тем менее вероятность ее пребывания в этом состоянии. Примеры неравновесных систем – стакан горячего чая на столе или палочка эскимо в летнюю жару. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что рано или поздно стакан остынет, а эскимо растает. Они уравновесят свою температуру с окружающей средой, и энтропия возрастет. Чтобы ее понизить, нужно снова вскипятить чай и заморозить эскимо, но при этом мы всегда потратим больше энергии, чем потеряли. Как остроумно заметил известный биохимик, писатель-фантаст и популяризатор науки Айзек Азимов, первое начало гласит, что в игре с природой нельзя выиграть, а второе, – что нельзя даже остаться при своих.
А вот и другие примеры. Груда кирпичей – более вероятна, чем выстроенный из них с затратой энергии дом. Железная руда более вероятна, чем выплавленное из нее железо. И наконец, живой человек – явление, термодинамически менее вероятное, чем его скелет.
Наверное, последний пример и делает второе начало неприятным для мыслящих существ, знающих, что такое смерть. Эмоциональное неприятие бренности всего сущего и породило гипотезу о том, что для живой природы второе начало недействительно. Живая материя борется с энтропией, снижая ее количество во Вселенной, и достигает венца в разумной деятельности человека.
Как будто похоже на правду. Зеленые растения превращают воду и углекислый газ в углеводы, которые можно съесть или сжечь (каменный уголь!) и тем самым получить энергию. Животные растут, размножаются, увеличивают массу. Наконец, сам человек – не он ли возводит величественные города, строит железные дороги и космические корабли, борется с болезнями и продлевает свое существование.
Получается красивая картина – мир неживой природы пассивно плывет вниз по течению, к водопаду Энтропии; лишь живая природа (или только человечество – в зависимости от оптимизма авторов) плывет вверх, преодолевая поток.
Это возвышает и ободряет – но, увы, так же, как идея бессмертной души, воспаряющей в рай. Красиво, но неверно.
Вернемся к примеру с потоком. Что нужно для того, чтобы, скажем, не продвигаться вверх, но хотя бы удерживаться на одном месте, в обычном водяном потоке вроде быстрой реки? Еще Ньютон знал, что для этого нужно отбросить вниз по течению n-ное количество воды, а в результате скорость течения позади все увеличивается.
То же самое и с термодинамическим потоком, по которому плывем все мы, делая попытки затормозить свой снос. Растения синтезируют низкоэнтропийные вещества из высокоэнтропийных. Это правда, но за счет энергии Солнца, которую они утилизируют отнюдь не со 100 % КПД. Животные поедают растения или других животных, а ведь есть такое понятие – кормовой коэффициент, означающее, сколько нужно единиц пищи для достижения единицы веса (у разных животных он колеблется от 7 до 10). Венца производство энтропии достигает в разумной деятельности человека. Недаром в последнее время температура поверхности Земли повышается за счет безудержного роста потребления энергии.
Поэтому нужно оставить высокопарные бредни о космической роли Жизни, спасающей Вселенную от энтропии, и запомнить, что живое вещество (включая человека), снижая энтропию в себе и вокруг себя, в той же мере борется с энтропией Солнечной системы, в какой карманный воришка повышает национальный доход Сказано, может быть, резко, но без недомолвок.
Итак, как писал Шмальгаузен, в индивидуальной жизни все организмы поддерживают свою упорядоченность, сохраняют до поры свой уровень энтропии тем, что непрерывно повышают ту же энтропию в окружающей среде. Способность к упорядочению какой-нибудь части внешней среды у животных ничтожна (гнезда птиц, коры роющих грызунов, плотины бобров). Только человек активно и в небывалых доселе масштабах повышает упорядоченность своего окружения с тех пор, как построил первую хижину. Зато и свободной энергии он тратит, обращая в энтропию, намного больше, чем любое животное.
А как же быть с явлением прогрессивной эволюции – ведь это несомненное снижение энтропии?
В термодинамике есть парадокс, именуемый парадоксом Максвелла. Максвелл предложил поставить умственный эксперимент: представить некое микроскопических размеров существо или устройство, способное каким-нибудь образом различать быстро и медленно движущиеся молекулы в окружающей его среде. Находясь у микроскопической двери, соединяющей две части системы, это существо (условно названное «демоном») могло бы открывать дверь перед быстро движущимися молекулами и закрывать перед медленными. В результате подобной деятельности «демона» температура в одной части системы могла бы повыситься, а в другой понизиться. Такой «демон» мог бы вскипятить воду в стакане на столе без затраты энергии – иными словами, понизить энтропию.
Увы, «демон» Максвелла невозможен. Известный физик Л. Бриллюэн четко показал, что, для того чтобы отличить быстрые молекулы от медленных («горячих» от «холодных»), «демон» должен оценивать энергию молекул, хотя бы освещая их. Расход на получение такой информации с лихвой компенсирует ожидаемое снижение энтропии.
Но в эволюции такой «демон» существует. Это естественный отбор – «демон Дарвина», как удачно его назвал А. Азимов. Именно отбор, сохраняя жизнь более сложным организмам, если они более приспособлены, и создает прогресс.
Исчезни отбор – и бесконтрольно накапливаемые в генотипах видов мутации быстро поведут к дезорганизации всех связей внутри организмов – к регрессу, к повышению энтропии. По словам Шмальгаузена, «в эволюции организмы снижают энтропию, то есть увеличивают свою упорядоченность естественным отбором особей, наиболее успешно разрушающих внешнюю среду, то есть повышающих ее энтропию». Сам по себе мутационный процесс есть фактор разрушающий, повышающий энтропию. Де Фриз был неправ – одни мутации, без отбора не могут создать виды, ибо они по своей природе не созидают.
С той же позиции Шмальгаузен рассматривает и стабилизирующий отбор, при котором гибнут все особи с менее устойчивой организацией (вспомните воробьев Бампуса!). В любой популяции энтропия возрастает вследствие мутационного процесса – и отбор, отсекая крайние популяции, поддерживает ее на прежнем уровне.
Было бы очень любопытно проанализировать с этой точки зрения многие эволюционные тенденции – например, возникновение теплокровности. У всех без исключения организмов все реакции, идущие в их теле (в основном за счет распада АТФ), завершаются выделением во внешнюю среду высокоэнтропийных веществ – углекислого газа, воды и аммиака. Помимо этого, выделяется большое количество тепла – это тоже, так сказать, отброс производства. У мелких животных выделение «тепловых шлаков» не составляет проблемы, так как у них относительно большая поверхность по сравнению с объемом. Но чем крупнее организм, тем выше опасность перегрева. Поэтому самые крупные пресмыкающиеся, в основном ночные и водные, крайне медлительные животные. Они способны, как крокодилы и змеи, к быстрому, стремительному броску на добычу, но не к продолжительному движению, а медлительность черепах даже вошла в пословицу. Исключение – водяные черепахи, но вода лучший теплопроводник, чем воздух.
Лишь птицы и млекопитающие (а также, если вы помните, летающие ящеры) стали утилизировать эти «тепловые отбросы», задерживая теплообмен между телом и средой теплоизолирующим перьевым или шерстным слоем. Но одной теплоизоляции мало – она увеличивает опасность перегрева. Потребовалось создание весьма сложных систем, регулирующих температуру тела; примером могут быть потовые железы млекопитающих. Результатом явилась стабилизация жизненных процессов, повышение автономности от внешней среды – и успех в жизненной борьбе.
Итак, можно заключить, что все организмы в течение жизни поддерживают энтропию своих тел на низком уровне ценой повышения энтропии окружающей среды, и победа в борьбе за существование достается тем видам, которые наиболее эффективно осуществляют этот процесс.
Остается только вопрос – применимо ли второе начало к индивидуальному организму, иными словами – обязательна ли смерть? Надо помнить, что в клетках нашего тела непрерывно происходят мутации, которые вызывают дисгармонию жизненных процессов (старость – это повышение энтропии). Кроме того, я убежден, что в наших генотипах отбором заложен механизм, постепенно, после 50 лет в среднем, начинающий отключать одну защитную систему за другой. Не будь смены поколений, не было бы и эволюции – зачем дети бессмертному существу? А остановка в эволюции в конце концов будет фатальной. Короче, бессмертие индивидов означает смерть вида. Как писал Ф. Энгельс: «Жить значит умирать».
Начало эволюции
Чрезвычайно приятно быть частью этого грандиозного эволюционного спектакля, даже если нам придется считать себя прямыми потомками тошнотворных газов и грозовых разрядов.
X. Шепли

От финиша к старту
Мы рассмотрели проблему прогресса в живой природе. Можно прийти к выводу, что тенденции к увеличению сложности организмов вне зависимости от сложности окружающей среды не существует. Сложность не самоцель, а лишь средство для выживания. Поэтому нельзя отрывать проблему прогресса от проблемы приспособленности, а тем более – противопоставлять их, как это сделал Ламарк. Это лишь две стороны одного процесса, в котором естественный отбор поддерживает нужный для самовоспроизведения уровень сложности, отсекая «генетический шум» – мутации.
Но когда возник этот процесс? Иными словами, как возникла жизнь на Земле и когда факторы эволюции по Дарвину приступили к работе? Где начало естественного отбора?
Нельзя сказать, чтобы эта тайна тайн была уже разгадана. Более того, даже когда мы синтезируем в лаборатории первую живую клетку, у нас не будет никакой уверенности в том, что жизнь на Земле возникла именно этим путем. Но кое-что мы уже успели узнать и пытаемся узнать больше.
Не поможет ли в этом благородная (как ее назвал Дарвин) наука палеонтология? Давайте совершим путешествие к точке старта эволюции. Машиной времени нам послужат труды палеонтологов, а вехами на пути – отложения горных пород, возраст которых удалось установить. Последняя задача не из самых легких. Сведения о точном возрасте и продолжительности геологических эр, эпох и периодов дает лишь изотопный анализ возникших в то время минералов.
Так, известно, что изотоп калия – К40 превращается в кальций – Са40 с излучением быстрого электрона, а с захватом электрона превращается в инертный газ аргон – Ar40. За период около 12,4 миллиарда лет половина наличного калия претерпевает эти превращения. Определив в минерале процентное соотношение калия к кальцию или калия к аргону, можно рассчитать возраст данного куска породы. Для той же цели служит рубидий – Rb87, превращающийся в стронций, а также известные всем уран и торий. Принцип метода прост; однако чем проще принцип, тем, как правило, сложнее его материальное воплощение. Беда в том, что многие продукты радиоактивного распада «утекают» из тех минералов, в которых они образовались. Далеко не каждый камень годится для определения возраста. Поэтому некоторые останки организмов с достаточной точностью датировать не удается. И тем не менее геохронология за последние годы сделала заметные успехи.
Без сомнения, большинство читателей знакомо со многими популярными и фантастическими книгами по палеонтологии (особенно с прекрасным романом В. А. Обручева «Плутония»). Палеонтологи воскресили удивительный мир вымерших существ – первобытных людей, чудовищных зверей третичного периода, исполинских ящеров мезозойской эры, дремучие леса каменноугольного периода и первые невзрачные растеньица, росшие по берегам девонских морей. Чем дальше мы будем отходить от современности, тем беднее и примитивнее будет и флора и фауна. Однако и в кембрийском периоде, около 500 миллионов лет назад, в морях существовала еще обильная, хотя и не очень разнообразная флора и фауна, состоящая не только из бактерий и сине-зеленых водорослей, но и из высших организмов, клетки которых имеют оформленное ядро: губок, археоциатов и кишечнополостных, членистоногих, морских лилий и моллюсков. Не найдем мы в кембрийских отложениях лишь останки хордовых животных, но несомненно, предшественники их, похожие на доживших до нашего времени ланцетников, уже существовали.
Стоит лишь, однако, опуститься в глубину времен до 570–600 миллионов лет, как вся картина резко меняется. Докембрийские отложения в палеонтологическом отношении оказываются пустыми. Этот период Земли не зря называют криптозоем – эпохой скрытой жизни. Ясно, что жизнь на Земле в то время была – было б абсурдом считать, что разнообразный мир кембрия возник как по мановению волшебной палочки. Однако находки можно буквально пересчитать по пальцам.
К докембрию относятся загадочные останки, по-видимому, водорослей, из отложений Прибалтики. Находки докембрийских животных еще более редки. Расчеты, основанные на предположении о постоянстве скорости эволюции, дают дату периода возникновения многоклеточных животных около 750 миллионов лет до нашего времени. Но вряд ли это так. В отложениях с возрастом более одного миллиарда находят если не самих животных, то следы их жизнедеятельности: норки каких-то роющих червеобразных организмов, окаменевшие экскременты животных-илоедов (получившие от палеонтологов звучные латинские наименования – катаграфии и вермикулитесы).

Кишечнополостное (коралл «морское перо») из отложений Эдиакары (полтора миллиарда лет). Очень близкие формы распространены в морях по всей земле и сейчас.
Запомните название – Эдиакара. В этой пустынной местности к северу от австралийского города Аделаиды найдены останки древнейших (пока древнейших) животных нашей планеты. Полтора миллиарда лет назад на этом месте было мелкое море, которое населяли разнообразные медузы и сидячие кишечнополостные «морские перья» – близкие родственники кораллов, но еще без скелета. Скелет будет «изобретен» природой без малого миллиардом лет позже. Жили там, по-видимому, и весьма примитивные членистоногие (тоже без прочного хитинового панциря), предшественники иглокожих и погонофор, плоских червей и примитивнейшие моллюски.
1600 миллионов лет загадочным останкам из сланцев Финляндии, описанным под названием Корициум загадочный. Выглядят они как кульки из углистого вещества, слоистые на срезе, до 40 см в длину. Об их происхождении до сих пор идут споры. Одно несомненно: углерод корициумов органического происхождения. Это удалось установить по распределению изотопов. Углерод имеет два стабильных изотопа: С12 и С13. Организмы предпочтительно используют более легкий, поэтому для их останков характерно высокое отношение С12 к С13. На сей день корициум – древнейший известный организм Земли, у которого клетки, кажется, имели настоящие ядра.
Еще дальше ядерные организмы – эукариоты – исчезают. Но прокариоты – бактерии и сине-зеленые водоросли по-прежнему широко распространены. Чаще, конечно, находят останки не самих сине-зеленых водорослей, а так называемые строматолиты. Водные растения обычно используют растворенный в воде гидрокарбонат кальция как источник углерода при фотосинтезе. При этом образуется нерастворимый карбонат кальция (мел), обволакивающий колонию водорослей нарастающей год от года коркой. В результате возникает сооружение, немного напоминающее коралловый риф, сохраняющее свои характерные очертания, даже когда известняк станет мрамором.
Хотя строматолиты докембрийских времен описаны из тысячи мест и распространены на огромных площадях, останки водорослей из них довольно редки. Только в некоторых местах породы не настолько видоизменены подземным жаром и давлением, чтобы из них исчезла органика.
Таковы, например, кремнистые породы Ганфлинт в Канаде, имеющие возраст в два миллиарда лет (заметили ли вы, что мы уже стали считать на миллиарды?). В кремне Ганфлинт обнаружены многочисленные микроорганизмы. Одни из них похожи на современные сине-зеленые водоросли осциллатории и кокки. Другие весьма близки к железоокисляющим бактериям. Очень любопытны останки, описанные под названием какабекия зонтичная. Это крошечные, около 30 микрон в длину пузырьки, имеющие зонтикообразный вырост на длинной ножке. После того как этот вид был описан, микробиологи выделили живой, удивительно похожий, по-видимому, идентичный микроорганизм из загрязненных аммиаком и мочевиной почв в Уэльсе, в почвах Аляски и Исландии, а в последнее время – на склонах вулкана Халеакала (Гавайские острова).

Загадочный микроорганизм какабекия (возраст – 2 млрд. лет). Сходные, по-видимому, идентичные формы живут и сейчас в почве, загрязненной аммиаком.
Неужели же какабекия существует два миллиарда лет не изменяясь? Доказать это невозможно, но и отрицать заранее нельзя. В конце концов, найденные с ней сине-зеленые водоросли до сих пор портят воду, вызывая цветение водохранилищ (особенно на юге страны), а железобактерии, в настоящее время созидающие болотные руды в северных болотах, в принципе неотличимы от создавших в докембрии Курскую магнитную аномалию. Примеры «живых ископаемых» мы рассматривали в предыдущей главе, и все же, думая о судьбе форм из ганфлинтских слоев, невольно чувствуешь холодок в душе – ведь они старше нас на два миллиарда лет и, несомненно, переживут человечество, оставшись последними обитателями планеты!
Однако нас все это еще не устраивает. Продвинувшись в прошлое на два миллиарда лет, мы еще не обнаруживаем начало жизни, – а то, что находим (бактериальную и водорослевую пленку), мы можем обнаружить и сейчас в любой луже.
Еще древнее ганфлинтских черные кремнистые сланцы, найденные в Африке (Трансвааль и Свазиленд). Им уже более трех миллиардов лет! И в них найдены структуры, в электронном микроскопе похожие на палочковидные бактерии и сине-зеленые водоросли – кокки. Более того, анализ сланцев позволил обнаружить в них углеводороды, идентичные тем, которые образуются при распаде и окислении хлорофилла, холестерина и каротина. Значит, можно полагать, что процесс фотосинтеза имеет по меньшей мере такой же возраст! На этом палеонтологический лот упирается в дно. Форм, древнее свазилендских, пока не обнаружено.

Электронная микрофотография древнейшей из пока известных бактерий (3,2 млрд. лет, отложения Фиг-Три, Южная Африка).
Можно ли считать свазилендских бактерий первыми жителями планеты? На этот вопрос следует сразу ответить отрицательно.
Самая примитивная бактерия обладает всеми основными чертами, присущими всему живому на Земле. В самом деле: у бактерий и сине-зеленых водорослей, если вы помните, имеются хромосомы, правда, устроенные проще, чем у высших организмов, генетическая информация считывается с ДНК путем синтеза информационной РНК, и на матрице информационной РНК синтезируются белки. И у бактерии белки синтезируются на рибосомах, правда, меньшего размера и проще устроенных, но в принципе однотипных с рибосомами эукариот. Одинаковы и материалы, слагающие клетку – белки и нуклеиновые кислоты, полисахариды и липиды. Те же и источники энергии – аденозин– и гуанозинтрифосфат, реакции катализируются сходными ферментами, и вплоть до мельчайших деталей идентичны пути биохимических превращений веществ. От камня до бактерии расстояние неизмеримо большее, чем от бактерии до человека!
А теперь сопоставим следующие цифры. Большинство авторов сейчас оценивает возраст твердой коры Земли в 4,5 миллиарда лет. Древнейшие бактерии месторождения Фиг-Три в Свазиленде имеют возраст в 3,2 миллиарда лет. Получается, что путь от камня до бактерии (если считать свазилендских действительно первыми) эволюция прошла всего в 1300 миллионов лет, а от бактерии до человека – в 3200 миллионов! На возникновение жизни отводятся чересчур уж сжатые, неправдоподобно малые сроки.
Костыль палеонтологии, с честью служивший нам на пути в три миллиарда лет, сломался. «Посмотрим, не поможет ли нам биохимия», – решили энтузиасты изучения первых этапов эволюции, попытавшиеся воссоздать жизнь в лаборатории при помощи технических средств. Вслед за гетевским доктором Вагнером они задумали создать в колбе гомункулюса. Первый путь был – от сложного ко все более простому, второй – от простого к сложному.
В поисках гомункулюса
Дарвин не зря старался не высказываться безапелляционно о происхождении жизни. Органическая химия в то время делала лишь первые шаги, и перед исследователями в этом направлении неизбежно возникал парадокс: все животные и растения на Земле построены из сравнительно простых, но специфичных для живой природы веществ – аминокислот, углеводов, жиров. Для того чтобы жизнь хотя бы в принципе могла возникнуть, необходимо наличие этих элементарных «кирпичиков». Но они сами являются ее продуктом. Возникает заколдованный круг, где причина – следствие самой себя. Разорвать этот круг Дарвин не мог, однако в одном из писем он высказал пророческое предположение, что независящий от жизни, абиогенный синтез простейших органических веществ может идти и в настоящее время, но накапливаться они не могут, потому что сразу же потребляются микроорганизмами. Иными словами, отсутствие жизни на планете – необходимое условие для возникновения жизни!
Широкого распространения эта точка зрения не получила. К аналогичному выводу пришли лишь в 1924 году А. И. Опарин и в 1927 году английский ученый Дж. Холдейн. Впоследствии Холдейн отошел от проблемы происхождения жизни и занялся генетикой, оставив след во многих ее областях. Иное дело Александр Иванович Опарин – он остался верен этой проблеме всю жизнь и сейчас возглавляет крупнейшую школу советских исследователей, работающих в данном направлении.
Опарин и Холдейн независимо друг от друга пришли к выводу, что первичная атмосфера Земли не имела свободного кислорода. Ее составляли углекислый газ, метан, азот, аммиак, окись углерода, пары воды, водород и, возможно, пары ядовитейшей синильной кислоты. Ничто земное, за исключением некоторых бактерий, не просуществовало бы в такой атмосфере ни одной минуты. Но именно такая Смесь и послужила сырьем для синтеза элементарных «кирпичиков» жизни – аминокислот, нуклеотидных оснований, углеводов, органических кислот и жиров.
Однако для такого синтеза нужна энергия. Опарин и Холдейн предположили, что источником энергии могло быть тепло остывающей земной коры или вулканической лавы, солнечный свет (в первую очередь жесткое ультрафиолетовое излучение), возможно, космические лучи или же энергия радиоактивного распада тяжелых элементов. Возникающая при разнообразных реакциях органика накапливалась в океанах, которые под конец этой фазы развития планеты стали как бы «первичным бульоном» – колыбелью всего сущего.
История науки изобилует совершенно необъяснимыми парадоксами. К числу их относится и тот факт, что экспериментаторы, в принципе благожелательно относившиеся к теории Опарина – Холдейна, не очень спешили воспроизвести процесс возникновения «первичного бульона» в лаборатории. И это несмотря на то что Ж. Лёб еще в 1913 году получил простейшую аминокислоту – глицин, воздействуя электрическим разрядом на смесь окиси углерода и аммиака. Практически к целенаправленному «созданию гомункулюса» приступил лишь в 50-х годах нашего столетия американский ученый С. Миллер. Техника его опытов была настолько простой, что они могут быть воспроизведены в школьной лаборатории.