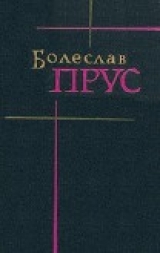
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
Минуту спустя Коцек с неразлучным поэтом (конечно, с левой стороны) вошел в подъезд и скрылся на лестнице, а толпа, вздыхая или посвистывая, смотря по настроению, разбрелась в разные стороны.
В первом этаже керосиновая лампа (привязанная к перилам, во избежание последствий местного позитивизма), во втором легроиновый кенкет и в третьем две стеариновые свечи заливали потоками света дорогу к квартире господ Пастернаковских, известных своими семейными добродетелями.
По этой дороге то постукивали изящные ботинки молодых людей из породы увивающихся, то проносились с пронизывающим до мозга костей шелестом развевающиеся платья барышень, то, наконец, величественной и вместе с тем суровой поступью двигались солидные маменьки и тетушки.
Каждую партию этого груза, предназначенного для чаепития, жеманной болтовни, сидения на диванах или закручивания усиков и ухаживания за дамами, встречал с изысканной вежливостью на первой ступеньке первого этажа гостеприимный хозяин, расточая любезности и одновременно проверяя, не украдена ли лампа, не лопнуло ли в кенкете стекло и горят ли стеариновые свечи соответственно правилам экономии. Обняв и расцеловав гостей, а заодно приведя в порядок осветительные приборы, улыбающийся хозяин на минуту забегал в кухню, называл цифру, имеющую некоторое отношение к числу гостей, и поторапливал молодую, плотненькую кухарочку методом, не имеющим никакого отношения ни к освещению, ни к числу гостей, ни к бессознательному.
К восьми часам гостиная радушного семейства Пастернаковских была уже так переполнена, что многим оставалось лишь подпирать печку и стены или расхаживать, спотыкаясь на дорогом ковре; с тоской поглядывали они на диваны, качалки и кресла, словно лелея недостойную культурных людей мысль примоститься на коленях у почтенных матрон. Температура подскочила с двенадцати градусов по Реомюру до двадцати. Молодые прелестные девицы, взявшись под руки, прижимались друг к дружке и перешептывались с таким видом, как будто все они поверяли своим приятельницам самые сокровенные сердечные тайны. Почтенные мамаши и покровительницы как бы невзначай посматривали на наряды своих дочек и воспитанниц или старались убедить друг друга, что в нынешние времена скромная, хорошо воспитанная барышня не сделает карьеры замужеством. Наконец, молодые люди, тихонько позевывая, обдумывали остроты, которыми можно было бы блеснуть в обществе, или разглядывали свои костюмы, обращая особое, хотя и не исключительное, внимание на пуговицы.
Вдруг… наступила тишина: на лестнице послышались шаги стройной горничной и возглас: «Идут!.. Идут!..»
– Маня! Сейчас будет чай, – крикнул из другой комнаты самый младший Пастернаковский самой младшей Пастернаковской.
После этих слов стало еще тише, и тогда послышался сначала многозначительный топот нескольких пар ног, потом волнующий скрип двери, потом нервирующее шарканье вытираемых о циновку башмаков, а потом…
– Пан (как, бишь, его?..) Клинович, доктор философии! Член многих ученых обществ! Сотрудник многих журналов! Автор многих трудов!.. – провозгласил хозяин голосом, свидетельствующим о том, как высоко он ценит оказанную ему честь.
В эту минуту пульс присутствующих достиг ста двадцати ударов в минуту. Несколько впечатлительных лиц, питающих большее уважение к науке, с глубоким волнением высморкались, а одной старой даме, самой впечатлительной из всех и питающей наибольшее уважение к науке, пришлось поспешно покинуть общество, как это всегда с ней случалось в особо торжественные и возвышенные минуты.
На пороге гостиной показались три человека. Первым был пан Каэтан Дрындульский – умытый, расфранченный и надушенный, как никогда. Гости, впопыхах приняв его за доктора философии многих университетов и члена многих обществ, приветствовали глубоким поклоном.
Вторым вошел веселый врач Коцек, у которого, казалось, было весьма срочное дело к некой сильно покрасневшей барышне. Гости, впопыхах приняв его за доктора философии многих университетов и члена многих обществ, отвесили ему глубокий поклон.
Третьим был пан Чеслав Клинович, действительный доктор философии многих университетов; он явился в обыкновенном фраке, обыкновенной сорочке и обыкновенных перчатках. Гости, впопыхах приняв его за кого-то другого, ему вовсе не поклонились.
Однако, спохватившись и желая загладить невольную неучтивость, все сосредоточили внимание на том пространстве, которое целиком и безраздельно заполнила личность доктора и т. д., члена обществ и т. д., сотрудника и т. д., автора и т. д. Прежде всего и с большим удивлением все заметили, что у этого доктора, члена обществ и т. д. было пухлое лицо и жирный, как у монаха, затылок и что ни на одной части его тела или туалета не красовались знаки отличия, хотя он, несомненно, заслужил их обширными познаниями, незаурядным литературным талантом и другими столь же редкими и ценными достоинствами. С таким же удивлением было замечено, что этот доктор и т. д. сел на стул самым обыкновенным образом, чем обнаружил черты, присущие всем простым смертным, и без всякого смущения поправил тесноватый воротничок и потянул книзу коротковатый жилет. Наконец, все обратили внимание и на то, что этот, столько раз уже упоминавшийся доктор, член обществ и т. д. не только не выказывает особого благоговения к собственной персоне, но и смотрит с таким равнодушием на окружающих и при этом закидывает ногу на ногу и поглаживает бороду так, как будто забыл, что видит перед собой избранное общество уездного города X., куда он приехал, дабы принести ему должную дань уважения, и откуда обязан был, разумеется за свой счет, вывезти спутницу жизни.
Наблюдения эти убедительным образом доказали, что доктор философии и т. д. под перекрестным огнем испытующих, прекрасных и умных взоров не только не смутился, но даже, надев очки, сам начал разглядывать присутствующих весьма неприличным образом; оказалось также, что под влиянием этого философского разглядывания все кавалеры столпились, подобно стаду овец, между тем как барышень бросило в дрожь, а потому хозяин решил, что пора начать беседу. С большим достоинством откашлявшись, он повернулся к доктору философии, оперся рукой о колено, открыл рот и… не издал ни звука, как будто ему в эту минуту заткнули глотку.
Заметив растерянность хозяина, пан Эней Пирожкевич, человек необыкновенного ораторского таланта, с лысой головой и глазами навыкате, желая спасти положение, вышел на середину, протянул руку по направлению к носу доктора философии и т. д., с непередаваемым величием откашлялся, но… продолжал молчать.
Эти красноречивые изъявления чувств воздействовали на доктора философии и т. д.: он протер очки, поправил воротничок, одернул жилет и… тоже промолчал.
Тогда хозяйка дома, вся потная от волнения, решила прибегнуть к последнему средству и толкнула локтем пани Саломею Копысцинскую, женщину, известную своей добродетелью, умом и самообладанием, всегда громогласно утверждавшую, что она способна без устали и перерыва говорить двадцать четыре часа подряд. К несчастью, пани Саломея, казалось, не замечала, что происходит, и сидела так тихо, точно в эту торжественную минуту некий злой дух вывернул ее красноречивую натуру наизнанку.
– Дорогая пани Копысцинская, – прошептала, изнемогая, хозяйка дома, – заговорите о чем-нибудь, если желаете мне добра! Вы так плавно изъясняетесь…
– Ради бога, избавьте меня от этого, а то со мной сделается истерика, – ответила подвергавшаяся нападению жертва.
С этой минуты все принялись поощрять друг друга к решительному выступлению. Пан Пастернаковский подмигнул пану Пирожкевичу, пан Пирожкевич ущипнул пана Дрындульского, пан Дрындульский наступил на ногу судье Дмухальскому, вследствие чего пан Дмухальский вскрикнул; половина общества засмеялась, доктор философии и т. д. снова протер очки и снова одернул жилет, Коцек пожал ручку некой молоденькой, сильно покрасневшей барышне, – и начался разговор вовсю, так что даже те, что до сих пор упорно молчали, стали болтать без удержу.
Когда наконец, по выражению известного своим красноречием Пирожкевича, дипломатический лед был столь успешно сломлен, достойный и всеми уважаемый судья Дмухальский спросил у Каэтана Дрындульского, в каком университете получил диплом доктор философии и т. д., а узнав у веселого врача Коцека географические подробности, касающиеся городка Гейдельберга, придвинул свой стул к стулу доктора философии и т. д. и, обращаясь к нему, сказал:
– Гм! Разрешите, того, милостивый государь, что вам, того, милостивый государь, всего более понравилось в Гейдельберге, разрешите?..
– Старый замок, окрестности и рейнское вино, – ответил доктор философии.
Судья Дмухальский, как говорится, широко разинул рот, однако, не падая духом, продолжал:
– Фью-ю… А того, милостивый государь, разрешите из прочих вещей, что вам… того, милостивый государь?..
– Из прочих?.. Ничего… Немки некрасивы. Еда скверная.
Продолжение судебного допроса прервала красавица Зося, обратившись к герою дня с вопросом:
– Господин доктор, говорят, вы прекрасно декламируете… Нельзя ли просить вас…
Говорила бедняжка с таким видом, словно спереди ее пронизывали взоры доктора философии, сзади взоры мамы, а сбоку судьи Дмухальского, словно вследствие этого ложного положения она готова была броситься на шею столько раз упоминавшемуся доктору и – вместе с ним или без него – провалиться сквозь землю.
Вопреки всеобщему ожиданию, философ с жирным затылком любезно склонился перед полумертвой барышней и спросил:
– Какого рода декламацию вы желали бы услышать?
– Я спрошу у мамы, – ответила перепуганная барышня.
Затем, получив, где полагалось, соответствующую информацию, сообщила, что и она, и ее мама, и все вообще хотели бы услышать что-нибудь в поэтически-философском роде, с прогрессивно-вольнодумным, даже атеистическим оттенком, если господин доктор занимается именно этой областью философии.
Услышав ее пожелание, член многих обществ и автор многих трудов поправил очки на носу и начал:
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Пусть же философ даст место поэту!
Материн атом, кружася по свету,
Везде во вселенной рождает движенье
И множит обильное жизни цветенье.
Природа – извечно слепое бытье —
Как паук, разноцветные сети плетет,
Не зная, не ведая в долгий свой век,
Что в жизни нашел и познал человек!
И в хаосе этом блистают виденья,
И в хаосе этом растет вдохновенье.
И в хаосе этом – приязнь и любовь,
Печаль и разлука на веки веков.
Ракушка, что спит ныне в мертвом покое,
Когда-то улитку носила на воле.
Улитка мертва и лежит под землею…
В земле же и целое племя людское.
У всех ведь у нас одинакова доля…
Властитель, что мнишь себя мощным и грозным,
Счастливых семей нарушая покой,
И ты, мотылек, что цветущей весной,
Играя, порхаешь с розы на розу…
О дева, что к милому вдруг на плечо
В мечтаниях нежных головку склонила,
О юноша!.. ты, что прижал горячо
К груди своей личико милой…
Вы, розы душистые! Вы, соловьи,
Зеленые рощи! Лесные ручьи!
Смертельный удар вас всех поразит, —
Судьба так велит!..
Апчхи!..
Неизвестно, была ли эта последняя фраза у автора поэтически-философских стихов преднамеренной, служила ли она переходом ко второй части или же весьма удачным окончанием, но именно в этом месте гром аплодисментов заглушил как декламатора, так и нежные, тихие звуки рояля. Надо сказать, что, начиная со второй строфы, одна из дам, обладавшая высоким даром музыкальной импровизации, усевшись за вышеназванный инструмент, очень успешно аккомпанировала декламатору.
Оценивая события с точки зрения человеколюбия, мы чрезвычайно рады, что это замечательное сочетание поэзии и музыки довольно скоро прекратилось, ибо умиление присутствующих дошло до апогея и могло привести к самым плачевным последствиям. Не говоря о том, что старая дама (о которой было сказано выше) с несвойственной ее возрасту поспешностью уже в начале третьей строфы покинула гостиную, и о том, что некоторые не менее пожилые дамы проливали горькие слезы, нельзя было не заметить, что поэтичного Дрындульского хватил удар, что у одной из барышень кровь пошла носом, а комнатная собачка Милюсь выла так пронзительно, что ее пришлось выгнать во двор, между тем как почтенный судья Дмухальский впал в своего рода летаргию, от которой его с трудом разбудил сильный удар в бок. Однако несколько минут спустя болезненные проявления восторга благополучно прошли, и гостей пригласили к ужину, за которым, к великому удовольствию собравшихся, оказалась и старая впечатлительная дама; она восседала между двумя самыми огромными блюдами, как бы вознаграждая себя за утраченные духовные наслаждения.
Из числа прекраснейших девиц, давно испытывающих влечение к философии, наиболее утонченная, Зося, села по правую руку доктора и члена обществ, чувствительная Маня по левую, а печальная Клеця лицом к нему, по другую сторону стола. Оказалось, однако, что и другие девицы считали себя вправе черпать сокровища знаний, а также, что у доктора философии, члена многих обществ и т. д., всего лишь одно лицо и два бока, поэтому остальные поклонницы глубокой науки заняли место за стулом именитого гостя в качестве хозяек. Роль эта оказалась чрезвычайно благодарной, так как давала тысячи возможностей прикоснуться к плечу, локтю, воротничку и даже к бороде доктора, который, по-видимому, был ослеплен этим обилием любезного внимания и, не смея поднять глаза на прекрасных соседок, притворялся, будто всецело захвачен созерцанием блюд и прилежным восприятием их содержимого всем своим философским существом.
Считая, что на столь торжественном собрании не следует унижать человеческое достоинство излишком горячительных напитков, хозяин по собственному разумению исключил из программы ужина водку, пиво и ром, приказав подавать только чай, и лишь в конце банкета собственноручно поставил на стол бутылку настоящего шестидесятикопеечного венгерского вина, в котором было весьма мало возбуждающих элементов и значительно больше гумми и сахара – символов солидарности науки с жизнью, – равно как сладости, приносимой высшим образованием.
Просвещенный хозяин, разливая таинственный нектар, поделил гостей на две категории, причем одна получила по полрюмки жидкости из бутылки, другая же по целой рюмке экстракта из графина. Когда необходимые приготовления были окончены, когда присутствующие, по предложению судьи Дмухальского, встали и обратились к тому месту, где сидел доктор философии и его прелестные соседки, и, наконец, когда старая, слишком впечатлительная дама с большим шумом отодвинула свой стул, – тогда в напряженной тишине на середину вышел с рюмкой и салфеткой в руке талантливый К.Дрындульский и взволнованно провозгласил следующий.
ТОСТ!
Философия – слово совсем неплохое…
Но хоть об стену бился бы ты головою,
Грыз железо и камни до самозабвенья, —
Коль не будет при том вдохновенья.
Ты философом не прослывешь,
В академики не попадешь!
Господа! Ныне здесь, за столом, среди нас,
Философии светоч неугасимый!
Честь окажем ему и себе мы сейчас —
За него все бокалы поднимем!
– Ура! – кричат присутствующие без различия пола и возраста; доктор кланяется, а самовлюбленный Дрындульский продолжает:
Доктор! Пусть ты уже знаменит,
Но грызи, как и прежде, науки гранит!
А когда на чело твое лавры возложат,
То найдется подруга, которая сможет
Пот с чела твоего отереть и всегда
Поддержать и помочь на дороге труда,
Жизнь цветами украсить твою
И потомством…
Тут охваченный энтузиазмом пиит умолк, ибо оказалось, что большая часть барышень готова упасть в обморок и что удерживает их только полное отсутствие необходимых средств спасения. Благодаря тому что поэтический порыв красноречивого Дрындульчика был своевременно остановлен, встревоженным мамашам удалось успокоить расчувствовавшихся дочек и через несколько минут вернуться с ними в гостиную.
Это взаимное увеселение вскоре закончилось, ограничившись невинными общими играми. При этой оказии присутствующие с немалым удивлением увидели, что доктор философии и автор многих трудов бренчит на рояле (правда, одним только пальцем), поет и танцует, как всякий простой смертный, чтобы получить свой фант, а в кошки и мышки играет с воодушевлением, возбудившим восторги барышень, но сильно встревожившим их маменек. Уже близилась полночь, и хозяйка стала зевать, а молодые люди заволновались, что закроют рестораны, когда почтенный судья Дмухальский предложил разойтись по домам, к великому огорчению нескольких весьма благовоспитанных барышень, заявивших вслух, что для них настоящее веселье начинается только после полуночи.
В самую последнюю минуту известный своим ораторским талантом пан Эней Пирожкевич, обратившись к доктору философии и члену многих обществ, сказал:
– Милостивый государь! Благоволите доставить мне честь и разрешите пожать руку мужу, который своим знаменитым трактатом о бессознательном двинул вперед науку, указал человечеству новые пути и обратил внимание всей просвещенной Европы на наш город.
– Милостивый государь, смею думать, – скромно ответил философ, – что, если бы я познакомился с вами и с этим уважаемым обществом раньше, мои познания в области бессознательного были бы несравненно полнее.
После этих слов среди присутствующих пронесся восторженный шепот; все отдали должное как блистательной речи пана Энея Пирожкевича, так и беспристрастию знаменитого ученого, не ослепленного собственными заслугами и умеющего каждого оценить по достоинству.
Как видно, удовлетворение было обоюдным и полным.
Если смелому уму Диогена Файташко удалось создать свою собственную философскую систему, то не менее возвышенный интеллект благородной Гильдегарды сумел выработать самостоятельные, никем не навязанные суждения о многих сложных жизненных вопросах.
Одно из таких суждений, возведенное в принцип, гласило: «Человек вообще, а женщина в особенности – должны помогать не только себе, но и природе». Принцип этот, будучи применен на практике, давал блестящие результаты, из которых самым незначительным был тот, что Гильдегарда всегда казалась свежей и округлой.
В тот день, когда Дрындульчик поссорился с Файтусом и когда он сообщил Гильдегарде о прибытии «нескольких философов» в гостиницу «Бык», в тот день, наконец, когда доктор философии и член многих обществ оказал честь дому господ Пастернаковских своим посещением, принцип «помощи природе» осуществлялся в будуаре благородной подруги худощавого Диогена в небывалой дотоле степени. Сколько ваты, белил и сурьмы вышло в этот день, сколько заработали парикмахеры и парфюмеры, не нам об этом судить, достаточно сказать, что прекрасная Гильдегарда, словно по мановению волшебной палочки, обрела множество новых прелестей для покорения сердец, а местная промышленность и торговля множество новых оснований для дальнейшего благоприятного развития.
Около пяти часов вечера, то есть в то время, когда интересная Гильдегарда была еще в пеньюаре, в изящный ее будуар вошел (соблюдая все правила этикета) гениальный Файтусь с весьма озабоченным видом.
– Ну, что же? – спросила дама, сажая мушку на подбородок.
– Увы, Гильця! – вздохнул Файтусь. – Они сегодня с Коцеком и паном Дрындульским будут на вечере у Пастернаковских!
– У Пастернаковских? Сегодня, когда устраиваю вечер я?! И вы их не опередили, разиня?!
– Честное слово, Гильця…
– Да на что мне ваше честное слово? Мне нужны действия, действия, пан Файташко, а не слова, вы понимаете?
Создатель собственной философской системы устремил мрачный взгляд на свои непомерно сухощавые колени, точно призывая их в свидетели как своих благих намерений, так и невозможности исполнить приказание прекрасной, пленительной, но требовательной дамы, которая тем временем продолжала необыкновенно решительно:
– В конце концов какое мне дело до вечера у Пастернаковских? Слушайте, пан Файташко! Сегодня, не позже восьми часов, у меня должен быть хотя бы один из этих философов: я уже пригласила гостей и сказала, кого они у меня встретят. Вы поняли, пан Файташко?
– Вы хотите лишить меня жизни, жестокая Гильдегарда!
– Ну! Ну!.. Я прекрасно знаю эти отговорки, не будьте рохлей! В восемь я жду хоть одного Клиновича, а сейчас… до свидания, пан Файташко!
Пан Диоген встал, бросил на прекрасную мучительницу такой взгляд, как будто лицезрел ее последний раз на этой планете, и ушел, наполняя будуар, гостиную и прихожую тяжелыми вздохами. Знакомые видели, как с половины шестого он бродил вокруг гостиницы «Бык» – сначала по улице, потом по двору и, наконец, возле двери пятого номера. К чему привели эти скитания, увидим дальше.
После захода солнца великолепная Гильдегарда пришла в весьма кислое настроение: вместо ожидаемого множества гостей и нескольких докторов философии, прибывших из Варшавы, просторную и изысканную ее гостиную украшали лишь две особы.
Одна из них была дама почтенного возраста, поминутно поливавшая свой платок, накидку и лиф одеколоном с туалета благородной Гильдегарды, что не мешало ей беспокоиться, как бы Азорку, оставленного дома по причине преклонных лет и неприятного запаха, не искусала бешеная собака, а также рассказать о том, как покойный Людвик Осинский однажды, когда она была еще барышней, усадил ее в карету.
Другой особой, самой значительной в этом обществе, был некий пан Эдгард, маленький, тщедушный блондинчик, известный в уезде как талантливейший критик. Этот интеллигентный юноша носил рыжую бородку, напоминавшую пирожок, и имел обыкновение подавать своим знакомым только два пальца; при каждом удобном случае он произносил слово «враки» и время от времени покачивал головой, как будто отгоняя мух. Кроме того, он умел с неподражаемым изяществом курить, а главное – совать в рот и вынимать (с помощью двух вышеупомянутых пальцев) двухкопеечную сигару; умел он также – правда, строго, но беспристрастно – критиковать все и всех, а самое главное – умел верить в себя. В свободное от занятий время, покуривая сигару и покачивая головой, он охотно размышлял о том, скоро ли его оранжевую бородку и усики вместе с коричневым пальто и не слишком толстыми ножками отольют из воска и под именем Эдгарда I выставят вместе с оттисками его несравненных критических трудов в музее величайших гениев мира. Когда же? Кто может это угадать?.. К счастью, сей одаренный юноша был терпелив: ожидая места в музее восковых фигур, он не бросал места в канцелярии городского головы, а ради титула Эдгарда I не отказывался от ласкательного прозвища «глупый Эдзик», которое ему дали любящие друзья.
– Кто ж это у тебя должен быть, милая Пракся? – спросила уже в десятый раз дама почтенного возраста, обращаясь к привлекательной Гильдегарде.
– Я уже говорила вам. – резко ответила хозяйка, – что будет знаменитый Клинович, доктор философии… из Варшавы…
– Враки! – буркнул Эдзик, начертив в воздухе очень красивое кольцо дымом от сигары.
– Знаменитый доктор? Из Варшавы?.. Так это, верно, Халубинский!.. Не знаю, могy ли я показаться такому гостю в моем платье?
– Что вы за вздор городите? Я вам ясно сказала: Клинович, а не Халубинский.
– Но, видишь ли… он все же такой известный доктор…
Гильдегарда, криво усмехнувшись, сказала:
– Пан Клинович не обыкновенный доктор, а доктор философии.
– Так он не прописывает рецептов? Боже мой, а я-то хотела его просить помочь мне, ведь я уже целый год плохо вижу и с трудом хожу. Как жаль, что Халубинский не прописывает рецептов!
– Во имя отца и сына! – перекрестилась Гильдегарда. – Я же вам говорю, что это не Халубинский, а доктор философии Клинович.
– А! Так он прописывает рецепты?
Гильдегарда пожала плечами, а ехидный Эдзик ответил:
– Доктор философии прописывает рецепты только против глупости.
Эта блестящая острота оказала удивительное действие на старушку повертев головой и испытующе поглядев в глаза знаменитому критику, она возразила:
– Вы говорите – против глупости?.. Какое это счастье для вас, что вы встретитесь с таким доктором!
Но минутное умственное напряжение так утомило старушку, что, невзирая на грозное бормотание Эдзика, она откинула голову на спинку кресла и крепко уснула.
Минуту спустя сердитая Гильдегарда и незаслуженно обиженный бестактной старой дамой пан Эдгард услыхали шаги в прихожей, а затем и следующий разговор:
– Пожалуйста, доктор, повесьте шубку здесь… вот здесь… – говорил Диоген.
– А ее не украдут? – спросил чужой голос.
– Вы шутите, доктор! Тут все свои…
– А-а!.. В таком случае легче будет найти.
Едва почтенная дама благодаря общим усилиям Гильдегарды и Эдзика успела проснуться, из прихожей отворилась дверь, и в ней показался незнакомый молодой человек в сопровождении Диогена Файташко, который, пройдя на середину комнаты, объявил:
– Пан Клинович, доктор философии, член многих заграничных обществ, автор многих трудов…
Хозяйка встала, поклонилась, за ней и остальные: гость также поклонился, после чего все уселись вокруг стола.
– Ваш уважаемый брат сейчас где-то на вечере, доктор? – обратилась к гостю хозяйка дома.
Доктор философии облокотился на стол, склонил голову на руку и промолчал, очевидно погрузившись в глубокие философские размышления. Старушка уставилась на него, как на чудо.
– Мы слышали, доктор, что уважаемый брат ваш проводит сегодня вечер у Пастернаковских? – спросил на этот раз Эдзик, полагая, что его вмешательство вызовет немедленный ответ.
Вдруг доктор философии поднял голову, сунул в рот большой палец, прижал его к зубам и… не произнес ни слова.
– Гениальный человек! – в упоении прошептала Гильдегарда, глядя на полузакрытые глаза гостя.
– Всеобъемлющий ум! – шепотом ответил Диоген.
– Враки! – буркнул Эдзик.
Старую даму вывело из терпения молчание гостя, и, собравшись с духом, она спросила:
– Господин доктор…
– Что? – прервал гость, вдруг откинув голову, как пробужденный лев.
– Ничего, ничего! – в ужасе вскричала старушка, поднеся к носу платок, смоченный одеколоном.
Доктор философии опустил голову на руку и снова замолчал.
– Великолепен! – прошептала Гильдегарда. – Пан Файташко, я признательна вам до гроба…
– Я с первого взгляда разгадал в нем незаурядный ум, – ответил Диоген, нежно сжимая пальчики своей восхитительной подруги.
В эту минуту доктор философии, выйдя из задумчивости, снова поднял голову и, глядя в потолок, быстро проговорил:
– Тут, вероятно, много воров…
Все переглянулись, а пан Диоген спросил:
– Вы спрашиваете, доктор, об общем моральном уровне здешних мест или же…
– Что касается морали, – прервал его Эдзик, – то по этому вопросу я могу поделиться сведениями: в текущем году в нашем городе было тридцать краж, два поджога, пять попыток изнасилования, из которых только три увенчались успехом…
– Пан Эдгард… – с упреком прошептала добродетельная Гильдегарда.
– Пожалуйте ужинать! – неожиданно объявила горничная, прервав таким образом, к великому неудовольствию Эдзика, продолжение перечня статистических данных.
В конце ужина, длившегося часа два, так как и старая дама, и тщедушный Эдзик, и не менее тщедушный Файтусь оказали большое внимание кухне прекрасной Гильдегарды, а пленительная хозяйка дома собственноручно накладывала двойные порции своему знаменитому гостю, молчавший до сих пор доктор философии стал беспокойно ерзать и вздыхать.
– Вам что-нибудь нужно? – спросила Гильдегарда.
– Покой, – ответил занятый своими мыслями философ.
– Покой и бумага? Понимаю… Пан Файташко, будьте любезны, зажгите свечу. Пан доктор хочет писать… Думаю, что мой будуар будет самым подходящим местом: там вы найдете все необходимое.
Доктор философии кивнул головой, и через минуту его проводила в будуар сама хозяйка; весьма тонко выполнив эту миссию, пылая румянцем, сияющая, вернулась она в гостиную со словами:
– Пан Файташко, мой друг, приношу вам стократную благодарность!.. Этот знаменитый человек, несомненно, создаст в моем доме нечто возвышенное…
– Несомненно! – восторженно воскликнул Диоген.
– Если только он нас не надувает, – добавил Эдзик.
– Как он рассеян! – удивлялась старая дама.
– Как всякий гений, – сказала Гильдегарда.
– В минуту зарождения великой мысли, – докончил Файтусь.
– Действительно, пан Диоген, – нежно сказала пани Гильдегарда, – лишь сравнив вас с ним, я поняла, что все знаменитые люди похожи друг на друга и что я поистине должна гордиться таким другом, как вы.
– Пани Гильдегарда, – ответил Файтусь, – я польщен вашей дружбой, а сравнение, приведенное вами, наполняет сердце мое восторгом. Хотя, – прибавил он, вздыхая, – я знаю, что недостоен даже завязать ремни у сандалий нашего нового друга.
– Хотела бы я знать, однако, что он там делает? – неожиданно спросила старая дама, видимо не понимая, сколько блаженства кроется во взаимных излияниях благородных и чувствительных душ.
Прекрасная Гильдегарда, игриво погрозив пальчиком гостям, легко, как небесное видение, подлетела к двери будуара и заглянула в замочную скважину.
– Темно… – протянула она в величайшем изумлении.
К ней подошел Диоген и приотворил дверь.
– Темно!.. – повторил он.
Услышав это, ехидный Эдзик взял лампу, и через минуту вся компания очутилась в будуаре прекрасной женщины.
За письменным столом не было никого, в амбразуре окна также не было никого, зато, укрывшись за пологом от взглядов невежд, кто-то храпел на постели пленительной девы.
– Ну, это уже, пожалуй, слишком! – прошептала Гильця.
– Какая эксцентричность! – удивился Диоген.
– Бахвальство! – буркнул Эдзик.
В эту минуту полог сильно заколыхался, и все услышали сдавленный голос, бормотавший:
– Верно, воры… Надо быть настороже!..
– Лунатик или болтун, – проворчал Эдзик.
– Уйдем отсюда, – сказала Гильдегарда.
– Вот увидите, он проснется и, несомненно, извинится перед нами, – уверял Файтусь, осторожно пятясь назад.
Полог заколыхался еще сильнее, все попятились еще стремительнее, а гневный голос закричал:
– Воры! Разбойники!.. Где мой револьвер? Клянусь, я уложу на месте по крайней мере шестерых!..
Одновременно в будуаре послышался грохот. Эдзик поставил лампу на стол и вдруг скрылся где-то в его окрестностях. Диоген бросился собирать ноты на рояле и куда-то пропал. Прекрасная Гильдегарда и почтенная дама хотели сесть на диван, но тоже исчезли. В течение одной секунды казалось, что в гостиной нет ни живой души, кроме доктора философии: с горящими глазами и сжатыми кулаками он быстро расхаживал посредине комнаты и бормотал:
– Где же Чеслав?.. Оставил вещи без присмотра, и все куда-то черти унесли! Вот тоже!..
Вдруг дверь из прихожей отворилась, и вошел врач Коцек с неразлучным Дрындульским (с левой стороны).
– Что ты тут делаешь? – вскричал Коцек, обращаясь к возбужденному философу.
– Ничего… Соснул немножко, но меня разбудили воры… Я им голову размозжу!.. Почему Чеслав не идет спать? Чего он шатается по ночам?








