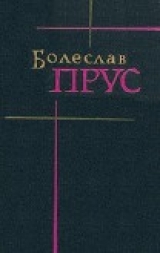
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
Солидные шестиногие скамьи с непомерно выгнутыми назад спинками приобретают вид качелей, где на одном конце сидит бонна с вышиванием или книжкой, а на другом – празднолюбец с книжкой или папиросой. На первый взгляд между ними нет ничего общего, так как сидят они, отвернувшись в разные стороны. Однако даже на значительном расстоянии от этих странных парочек при наличии тонкого слуха легко можно убедиться, что длина скамьи отнюдь не мешает разговорам и что проказник амур ранит сердца, даже повернутые спиной друг к другу.
Чем выше поднимается солнце на небосклоне, тем меньше становится между ними расстояние, и когда в полдень степенные люди проверяют время у солнечных часов, трогательную чету уже разделяет не больше половины скамьи. Тут к размечтавшимся парочкам обычно сбегается шумная орава детей с криком: «Кушать!» – бонны удаляются, а счастливые победители их сердец, откинувшись на спинки скамеек, впадают в дремоту, которая нередко заменяет им обед.
Давно уже за полдень; в саду, оживленно беседуя, собираются сливки общества. Улыбаясь, сияя, шелестя, плывут к главной аллее царицы мироздания, окутанные облаками тканей всех цветов радуги.
Перед их щебетом умолкают птицы и затихает, затаив дыхание, заблудившийся в листве ветерок.
Бурливая волна гуляющих, зажатая между живыми берегами зрителей, разделяется на течения, поминутно меняющие русло. Вот все они устремляются в одну сторону, через мгновение два из них сворачивают вправо, три влево, а затем – одно вправо и одно влево. Временами волны на миг исчезают, но тотчас текут вспять и снова сливаются.
Ослепляют молнии взглядов, дурманит дыхание тысяч людей, оглушают потоки слов, но когда, потрясенный ураганом необыкновенных ощущений, отойдешь в сторону – видишь толпу болтливых двуногих, неизвестно зачем шатающихся в густых облаках пыли.
О жизнь! Чем бы ты была без иллюзий?..
Спускается ночь; в Летнем театре идет опера, и толпа бесплатных любителей прекрасного, воплощенного в звуки, бродит взад и вперед вдоль роковой ограды. Какой-то страстный меломан, вклинившийся между двумя деревьями, бросает на меня сердитые взгляды, потому что шарканьем ног я осмелился напомнить ему о неудобствах даровых мест. О, я не помешаю! Не помешаю!.. Но и не стану завидовать. Ария тенора, долетая сюда, напоминает выкрики торговцев, развозящих уголь, сопрано – сдавленные рыдания, а бас – рев быка.
Но вот опять главная аллея; гуляющих мало, и скамьи почти опустели. Я сажусь и подслушиваю чей-то шепот.
– Ты не пришла вчера?
– Я не могла…
– Избегаешь меня… ты сердишься?
– Нет…
– Дай мне твою ручку… Ты меня все-таки любишь?..
– Не… знаю…
– О, любишь!
– Пустите мою руку!
– Не пущу…
– Пусти!.. Подумай сам, к чему это приведет?
Голос издалека. Мама… мама!.. Где ты, мама?..
Голос ближе. Я здесь, Маня! Иди сюда, иди!..
Уйдем отсюда. Продолжайте блаженствовать, счастливцы! В эту минуту сердца ваши так переполнены, что вы не способны внять грозному предостережению, услышанному из уст ребенка.
Как тихо!.. Только птенчик попискивает в гуще листвы… Почему бы и мне не насладиться созерцанием сверкающих звезд и влюбленных глаз?
Мелькают какие-то огни. То лампы горят в беседке с содовой водой, а там вон спичка… Но что мне в конце концов спички, содовая вода и прочие изобретения, когда вокруг меня ночь, а надо мной небо и шелест деревьев?
Места эти как будто знакомы мне и незнакомы… Кажется, я заблудился, – это доставляет мне удовольствие!
Сейчас я в том настроении, когда восхищает даже обесславленный птичий щебет и волнует развенчанная луна. Какая буря чувств!.. Я мог бы, кажется, излить в пении всю мою душу, столь не похожую на души других людей, но… мне уже хочется есть, и к тому же я опасаюсь, что не хватит места в «Курьере».
― СОЧЕЛЬНИК ―{2}
Когда я принес к себе в комнату какой-то, между нами говоря, совсем неказистый пирог, приобретенный на собственные (в поте лица заработанные) тридцать копеек, когда я собственными руками затопил печку и собственными щипцами наложил уголь в собственный пузатый самовар, я почувствовал себя, должен признаться, довольно глупо.
Что за черт! Я, такой порядочный и достойный человек, я – опора и сотрудник стольких периодических изданий, я, у которого здесь родные, там друзья, тут сваты, – буду в этот вечер один как перст, когда самый последний из разносчиков «Курьера» веселится в семейном кругу…
Э, скверно!
По правде говоря, вчера я таки клюнул маленько, но то, что было вчера, не может удовлетворить сегодня. Я не голоден, мне не холодно, но мне хочется видеть сейчас рядом с собой веселое человеческое лицо, которое изгнало бы из моих роскошных апартаментов скуку и дурное настроение.
Я чувствую, что зол на весь мир. Будь я в силах, я растер бы луну в нюхательный табак, остановил бы бег земли лет на сто, а солнце так заморозил, что оно бы у меня и не пискнуло. Но сделать это невозможно, и я ударяю табуретом о пол так, что ножки разлетаются во все стороны. Валентия, когда он явится с поздравлениями, я встречу с кислым лицом, а против хозяина начну процесс за то, что он не освободил мне до сих пор подвала.
– Как поживаешь, недотепа?
– Однако…
Я оглядываюсь… Позади меня какая-то дама. Чепец с желтым бантом и тюлевым рюшем, от ватного салопа несет рыбой, как от торговки сельдями, в одном кармане – маковник, в другом – паяц, а под мышкой какой-то оловянный снаряд с деревянной ручкой… А талия у этой дамы! В три обхвата… платите мне по шесть грошей за строку, если вру!
– Ну! и чего ты на меня глаза пялишь? – провизжала дама.
– С кем имею честь?.. Не с пани ли Люциной?
Я назвал первое попавшееся имя, которое, как мне казалось, больше всего соответствовало внешности, соединявшей в себе незаурядную энергию с необыкновенной деловитостью.
– Ты что, с ума спятил?.. Какая Люцина?.. Не Люцина, а Ви… ги… лия!..[5]5
Вигилия (Wigilia) – сочельник (польск.)
[Закрыть] Понимаешь?
– Вигилия?.. Красивое имя, честное слово. Будьте же, милостивая пани, так добры…
– Почему ты называешь меня пани, глупец этакий… разве ты не видишь, что я дух?
– Дух?.. Но Вигилия – это… как будто особа женского пола.
– У духов нет пола…
– В самом деле? Разве?..
– Ну-ну! Хватит! Одевайся и пойдем, мне некогда с тобой любезничать.
Допуская, что руки дамы такой корпуленции могут в случае надобности двигаться с той же стремительностью, как и язык, я не мешкая натянул шубу на плечи и шапку на уши. Через несколько минут мы были уже на улице.
– Дальше, милостивая государыня, я не пойду, – объявил я своей спутнице, ухватившись обеими руками за перила покрытой коврами лестницы. – Дальше я ни шагу, ибо если кто-нибудь нас увидит, то… Сами понимаете!
– Я призрак! – прошептала дама, положив жирную руку на хрустальную дверную ручку. – Мне ничего не сделают, ну, а ты – ты как-нибудь вывернешься… Наконец, за тебя поручатся редакторы!
Она толкнула дверь, затем меня в дверь, и мы очутились в передней.
Господи помилуй! Какие гостиные, какая мебель, какое освещение!.. Пышная фигура моей спутницы с необыкновенной отчетливостью отражается в паркете. Ковер на столе, ковер под столом, бархат на диване… На мраморных тумбах стоят урны и длинногорлые этрусские вазы, кресла такие, что в самом худшем из них наслаждение сидеть даже тогда, когда вам снимают голову с плеч. А портьеры!.. А золотые кисти, тяжелые, как смертный грех!
Я вздохнул:
– Боже мой! Вот бы мне, бедняку, праздновать сочельник в этакой гостиной.
– Погляди! – прошептала моя спутница.
Я просунул голову между рукой и талией моей спутницы и, заслонившись портьерой, смотрел.
В гостиной было двое: молодая красивая блондинка (просто конфетка – скажу я вам) в длинном платье и какой-то столь же худой, как и скучающий, щеголь, который сидел на диване, поминутно перекладывая ноги с колена на колено и прочесывая пальцами довольно жидкие бакенбарды.
– Ты все же уходишь, Кароль? – спросила блондинка голосом, который пронзил мое сердце, как игла обойщика матрац.
– Я останусь, Анеля, если только… – отозвался я.
– Да тише, ты-ы… – пробурчала Вигилия, бесцеремонно прижимая мою голову к своей подбитой ватой талии.
– Мне необходимо пойти, душечка, честное слово, – соизволил наконец ответить щеголь, снова перекладывая ногу на ногу.
– И ты оставляешь меня одну даже в такой день, Кароль?
Голос блондинки просверлил мне лопатку и застрял где-то в шубе.
– Предрассудки! Сентименты! – зевнул щеголь.
– Ты совсем не думаешь обо мне.
– Тебе только так кажется, мой ангел, – ответил щеголь, поднимаясь. – Если бы я о тебе не думал и не соблюдал старых обычаев, я не купил бы тебе к рождеству гарнитур за триста пятнадцать рублей с полтиной, считая извозчика. Ну, будь здорова.
Сказав это, он наклонился к прелестной даме в длинном платье, поцеловал цветок, приколотый к ее волосам, и вышел.
В это мгновенье в противоположной двери появился лакей во фраке.
– Кутья на столе…
– Можете есть, – ответила блондинка, прикрывая платком лицо.
– А вы, милостивая пани, не сядете за рождественский стол?
– С кем же?
– Со мн… – вырвалось у меня.
– Молчи! – пробурчала старуха, выпроваживая меня на лестницу.
О блондинка, блондинка! Если бы ты знала, как горячо билось для тебя чье-то сердце по другую сторону нарядной портьеры.
Мы снова остановились, на этот раз у желтого, одноэтажного, покосившегося домика, покрытого старой дранкой; при виде его, сам не знаю почему, мне припомнилась народная песенка:
Домик низенький…
и т. д.
Вигилия прислонилась к оконному косяку, я стоял рядом с ней. Боже, эти люди не знают даже, что такое двойные рамы, и вряд ли их защищает от холода эта кисейная занавеска и большая закопченная печь, в которой тлела горсточка углей.
Посреди комнаты стол, покрытый белой, недостаточно длинной скатертью, вокруг стулья: один обитый, второй деревянный, и простая табуретка. В одном углу – топчан, в другом – детская кровать с сеткой, когда-то покрытая лаком, между ними дверь в альков – вот и все.
В комнате три человека: слепой старик, очень бледная женщина и девочка в траурном платьице.
– Папочка, уже звезды взошли, сядем за стол, – сказала женщина.
– А что ваша милость соизволит подать сегодня? – спросил старик.
– Борщ есть, дедушка, селедка и клецки, – вот! – ответила девочка.
– Ого-го! Настоящий бал!
Женщина тем временем принесла просвирки; отломили по кусочку и приложились.
– Папочка, – сказала снова хозяйка, – вот тебе шарф к рождеству, теплее будет.
– А я, дедушка, подарю тебе пачку табаку.
– Ах ты девочка моя, Ганя дорогая! – воскликнул старик, стараясь нащупать руками голову внучки. – Я-то табаку не нюхал, чтобы тебе вот эту куколку подарить, а ты мне табак припасла, наверно из завтраков своих откладывала?
И он вытащил из-за пазухи дешевенькую куклу в розовом платье.
– Какая красивая! – восторгалась девочка.
– А тебе, Касюня, я тоже шарфик купил… Хорош? И он протянул женщине вязаный платок.
– Красный, папочка…
– А, чтоб им! – заворчал старик. – Сказали, что черный.
Кто-то постучался в дверь.
– Войдите, пожалуйста! Кто там?
На пороге появился широкоплечий здоровяк в тулупе.
– Это я, сосед (кобыла меня залягай!..)… Да будет благословен…
– Пан Войцех! – воскликнула женщина. – Во веки веков…
– Просвиркой угости, Ганя, – сказал старик, протягивая руку.
– Я, с вашего позволения, пришел просить вас к нам на сочельник. И старуха моя, с вашего позволения, и Зося, и все остальные (чтоб у меня ось лопнула в пути, если вру), все скопом просим вас. Вот как!
Закончив свою речь, он сплюнул сквозь зубы.
– Но, пан Войцех, мы не смеем вас стеснять…
– Ни к чему это вы! (Чтоб мне сапом заболеть!) Я без вас не уйду.
– Мы всегда дома… – робко пробовала возражать женщина.
– Дома, дома – ну и что из того? Пусть меня заставят евреям воду возить, если вас тут кто-нибудь держит на привязи. Ну же!
Невозможно было дольше сопротивляться такому идущему от чистого сердца приглашению. Старик взял дочь под руку, внучку за руку, и они вышли.
Во дворе шествие столкнулось с нами.
– Да благословит вас бог! – крикнула Вигилия.
– Господь воздаст вам, – ответил пан Войцех, внимательно приглядываясь к нам. – Нищие какие-то, – добавил он немного погодя. – Пойдемте же и вы с нами (задави меня телега), подкрепитесь немного.
Вигилия последовала за ним с нескрываемой радостью, а я за ней с отчаянием в сердце, так как приглашение это чертовски поколебало веру, которую мне внушали моя шуба и шапка.
Не успели мы войти, как нас гурьбой окружили люди.
– А что? – кричал торжествующий Войцех. – Не говорил я (чтоб мне из пекла носа не высунуть), что господа не побрезгуют нами.
– Ганя!.. Ганя… – визжали дети всех возможных возрастов.
– Ганя! У меня для тебя есть позолоченные орехи.
– А y меня лошадка…
– Ганя… А у меня…
– Постойте, люди добрые, у порога, – сказала нам пани Войцехова, дама с красным носом и впалыми щеками.
– А это, – обратился Войцех к гостям, – это пан Владислав.
– Владислав Дратевка! – важно представился прилизанный юноша в светлой куртке и юфтяных сапогах.
– За моей Зоськой ухаживает, – добавил пан Войцех.
Кругленькая девушка, которую назвали Зосей, сделалась красной, как свекла.
– Милости просим к столу, – приглашала хозяйка.
Когда старшие уселись, а вслед за ними примостились кое-как у стола и дети, пан Войцех начал:
– Благослови, господи боже, нас и эти дары…
– Мамуня!.. Стах все ушки вылавливает из моего борща…
– Замолчи, Франек, не то как тресну! Благослови, господи боже…
– Ванда, не толкайся! – закричал еще кто-то из детей.
Пану Войцеху с большим трудом удалось окончить начатую молитву, для чего потребовалось предварительно оттаскать за волосы две-три детских головки. Наконец принялись за еду; дали и нам, дали и кудлатой собачке, которая, поджав хвост и насторожив ухо, не спускала глаз со стола.
– Как жаль, – сказал пан Владислав, блестящий Зосин поклонник, – что мастер не отпустил меня пораньше.
– Почему? – спросила панна Зося.
– Я бы вам мак растер!..
– Да вы бы не справились.
– Могу хоть сейчас попробовать, – ответил всегда готовый к услугам кавалер.
– Мамуня. Стах…
– Замолчите, чертенята! – прикрикнул хозяин.
Когда ужин, который был уничтожен с достойной внимания быстротой, подходил к концу, пан Войцех сплюнул на середину комнаты и завел разговор:
– На свете все-то хуже становится, разрази меня гром! Налей, Зося, пану…
– Святая истина, – ответил старик.
– В мои времена, скажу я вам, елки были такие, что лезь на них без всякого, а теперь (провалиться мне на первом мосту) – не толще кнутовища.
– В одном отношении стало хуже, а в другом во сто раз лучше, – уверял пан Владислав.
– Ни в каком не лучше.
– Что это вы, пан Войцех, околесицу несете…
– Ни в каком, говорю, а кто мне тут будет другое доказывать…
– Кхе!.. Кхе!.. Кхе!.. – закашлялся кто-то из детей.
– Матерь божия!.. – закричала Войцехова. – Франек подавился!
– Дай ему по спине… Вот так!..
Отпрыск рода войцеховского был спасен, к великой радости пана Владислава, который оживленно всем разъяснял, что, попади кость в глотку, немедленно был бы «капут».
– Насколько времена переменились к худшему, скажу я вам, лучше всего видишь по лошадям, – продолжал хозяин. – Лет двадцать назад у меня на каждого ребенка приходилось по две лошади, потом по одной, а теперь пара на троих… Чтоб у меня ось лопнула, если вру!
– А разве вам от этого хуже?
– Да ведь только пара на троих, говорю я.
После этих слов пан Войцех задумался, сплюнул прямо в печку и крикнул:
– Баста, моя панна!
Приняв это восклицание за сигнал к отбытию, я подтолкнул Вигилию. Мы попрощались с хозяевами, получили по трехкопеечной монете и по куску пирога (который выставлен для обозрения в моем домашнем кабинете) и ушли, благословляя хозяев.
Когда мы были уже в конце двора, до нас донесся бас пана Войцеха, выводивший:
Пресвятая дева младенца породила
И того младенца в ясли положила.
Женщины подхватили:
Фунда, фунда, фунда!
Тота ризибунда,
Эй, коляда, коляда!..
В исполнении последнего трехстишья приняли участие уже все наличные мужские басы, пронзительные женские сопрано и какие-то неопределенные дисканты, импровизируя хором душераздирающий концерт на еле различимый мотив оберека. Тут уж Вигилия разошлась вовсю и, лишенная возможности повертеться со мной по причине полного моего неумения, она так стремительно подхватила какого-то калеку на костылях, что оба они чуть не попали под проезжавшие сани.
Если, любезная читательница, ты хочешь познакомиться с одним из самых пламенных поклонников женского пола, когда-либо существовавших на свете, потрудись внимательней приглядываться ко всем нескладехам, разгуливающим в пропыленных шубах. Когда заметишь, что у какого-либо из этих господ воротник с корнем вырван из шубы, – радуйся и гордись, ибо господин этот – я!
Пока мы, подобно обыкновенным смертным, бродили с Вигилией по земле, воротник мой оставался в целости; он был оторван тогда, когда эта уважаемая дама, ухватив меня за шиворот самым бесцеремонным образом, как пустое ведро за дужку, села на свой оловянный снаряд, напоминавший какой-то медицинский инструмент, и взвилась в воздух.
Когда мы въехали прямо через трубу на чердак старого пятиэтажного каменного дома, я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Как здесь холодно и пусто! Полуистлевшие веревки, на них несколько тряпок сомнительного цвета, в углу ящик с черепками и бутылочными осколками, за дымоходом кошка, которая зябко ежилась и как будто дышала себе на лапки, а в одной стене небольшая, оклеенная бумагой дверь, за которой кто-то ходил, садился или, может быть, даже ложился, не переставая кашлять.
Перегнувшись через полусгнившие перила, я посмотрел вниз и где-то глубоко в непроглядной тьме заметил слабый огонек; невольно вспомнился мне рассказ о бернардинском подвале, снизу доверху наполненном сорокаведерными бочками, где камень, кинутый на рождество Христово, достигает дна лишь на пасху. Огонек этот мигал весьма двусмысленно, а его подмигиваниям сопутствовал такой шум, будто кто-то с большим трудом шагал сразу через три ступеньки вверх, а потом с не меньшей легкостью скатывался на две ступеньки вниз.
Тень, несшая этот огонь, прошла таким образом третий, четвертый и пятый этажи, останавливаясь поминутно и громко зевая:
– А-а!
Когда тень поднялась на лестницу, которая вела с пятого этажа на наш чердачок, огонек замигал еще сильнее, и тень неминуемо отправилась бы через нижний этаж прямо к праотцам, если бы сильная рука Вигилии не схватила ее за шиворот.
При помощи этого чудодейственного прикосновения зевавший человек твердо стал на ноги рядом с нами, выпрямился и пробормотал:
– Эй, коляда, коляда!
Это был седоватый уже мужчина в старом тулупе. Шапку ему заменяли искусно взлохмаченные волосы; с правой стороны его длинного носа красовалась свежая царапина, и еще более свежие следы ногтей выступали на левой щеке. В правой руке он нес грязный фонарик, в левой – судки и булку под мышкой.
Не сомневаюсь, что если бы спиртные испарения обладали свойством превращаться в облака, нашего нового приятеля можно было бы принять сейчас за одряхлевшего херувима, которому какой-то доброжелатель сильно намял бока.
Возглас: «Эй, коляда, коляда», – и отзвук неуверенных шагов заставили оклеенную бумагой дверь приоткрыться, и я увидел исхудалое юношеское лицо, на котором сверкали ввалившиеся, оживленные странным блеском глаза.
– Кто там?
– А это я… Антоний, сторож… Я это…
И мужчина в тулупе, стукнувшись головой о низкую притолоку, вошел в комнату.
Старая, узкая, выкрашенная в желтый цвет кровать из Поцеёва со страшно измятой постелью, кувшин без ручки, на круглом столике величиной с котелок – лампа под прожженным бумажным колпаком и, наконец, груда бумаг и книг – вот вся меблировка комнаты, которую днем должно было освещать маленькое квадратное окно, а сейчас обогревала железная печурка.
– Эге-ге!.. – сказал сторож. – Так вы, что ли, нынче весь вечер из дому не выходили?
– Нет, – коротко ответил молодой хозяин.
– Я вот… с вашего разрешения… принес кой-чего… Грушек несколько, а это капуста, а в капусте – плотица. Я ее, чертягу этакую, вверх хвостом, чтобы ей света белого не видеть… Тут и лепешки есть…
Хозяин поколебался с минуту, потом взял принесенную еду и прошептал:
– Спасибо… Бог воздаст вам… а когда-нибудь, может, и…
– Да что там! А куда это я ложку девал?.. И тут нет, и тут нет… Ого-го! Вон где она… За голенище забралась… вот где она…
Изможденный юноша взял ложку, сел на краю постели и с жадностью принялся за еду.
– Так тут знобко, а вы без ничего…
– Жарко мне! – ответил хозяин и закашлялся.
– А потому все, что в грудях у вас… и лихоманка эта… А я одно только лекарство признаю: сало и водку. Верное дело.
Юноша продолжал есть.
– Только водку надо чистую, светлую, как слеза! А в шинке сегодня мне такого дали ерша, что в нем смотри и купоросу не было ли. Верное дело!
Больной ел, отнимая ото рта ложку только при кашле.
– И выпил-то я самую малость, а как стало меня пробирать, а как стало меня кидать… Только вошел я в сени, а меня в другой раз как возьмет да как скрутит, а тут баба моя выскочила да начала меня трепать. Эх, пан! С самой женитьбы так меня не угощала, как сегодня! Верное дело…
Юноша съел все, поставил судки на пол, прислонился головой к стене и прикрыл обнаженную впалую грудь одеялом, которое когда-то было, вероятно, более определенного цвета.
– И всегда вы в сочельник вот так… один? – спросил Антоний.
– Уж третий год.
– А раньше-то… а тогда-то был у вас кто-нибудь?
Юноша оживился:
– Еще бы!
Пауза.
– Помню, когда мне было восемь лет, мы с матерью пошли к дяде. Это было недалеко, но выпал густой снег, и служанка взяла меня на руки.
Он закашлялся.
– Ну и гостей там было, детей!.. Мне подарили саблю… под стол положили целый воз сена… На елке зажгли много свечей… три дня украшали ее мама с теткой и все прятались от нас, как бы мы не подсмотрели… Ха-ха-ха!
Пауза.
– Она получила фарфоровую куклу и муслин на платье. Я отлично помню: синие глаза, черные как смоль волосы, а остальное из замши. Когда мы ее распороли, из нее посыпались отруби…
Снова приступ кашля, еще более сильный, чем прежде. Лицо юноши покрылось кирпичными пятнами. Глаза метали молнии.
– Пташечка моя родная! Ты сегодня, наверно, так же одинока, как и я!.. Ты думаешь, что я тебя не вижу? Взгляни же на меня, взгляни… Нет… разве ты можешь услышать меня из такого далека…
Пока он говорил, одеяло сползло с груди; он весь дрожал, вытягивал вперед руки, а глаза смотрели так пристально, словно хотели проникнуть взором по ту сторону жизни. В трубе между тем шумел ветер, а стены сочились сыростью.
– Я должен пойти к доктору, он вылечит меня. Потом в Щавницу… Надо поправиться, и тогда… мы уж не будем одиноки…
«Кап! Кап! Кап!» – отвечали падающие капли.
– Излишеств у нас не будет, напротив, немало забот… но мы уже будем вдвоем… Вместе! вместе!
«Кап! Кап! Кап!»
О, как страшен дом, который вздыхает и стены, которые плачут!
Больной снова закашлялся и очнулся.
– Антоний!.. Антоний!..
– Счас… счас!.. – отозвался сторож. – А-а-а… Это вы, пан?
– Послушай, как будто пахнет горелым?
– Аа… о… чтоб его… только прислонился человек к печке, и смотри, весь тулуп к черту опалило! Верное дело!
На этот раз мы очутились в необыкновенно оживленном доме. Со всех сторон долетал до нас гул шагов по лестницам и коридорам, за окном звенели колокольчики мчавшихся мимо санок, под нами бренчал рояль, заглушаемый время от времени топотом ног и взрывами смеха.
Мы стояли в темной комнате, спиной к закрытой двери, за которой стонал какой-то больной, и лицом к другой открытой двери, которая вела в слабо освещенную комнату. Там, вглядевшись получше, я увидел множество разной домашней утвари, фотографии на стенах и двух молодых женщин.
Одна из них, в зеленом платье, накинула платок, положила что-то в крышку от сломанной картонки и выбежала из комнаты.
Мы пошли за ней.
Пройдя лестницу второго и третьего этажа, сени и небольшой двор, девушка в зеленом платье остановилась у стеклянных дверей подвала, в глубине которого мерцал огонек керосиновой лампочки.
В темной, с удручающе спертым воздухом комнате, кроме нескольких коек, стола и скамейки, ничего не было. Из обитателей этого жилища мы застали только троих детей, занятых игрой.
Звуки рояля с первого этажа долетали и сюда.
Услышав шум отворяемой двери и шелест платья, старшая девочка подняла голову и спросила:
– Кто там?
– Это я, Анелька, не бойся. А где взрослые?
– Мама у соседей, – ответила девочка.
– Что она там делает?
– А с Гжегожовой схватилась, еще с самого утра.
Только сейчас я услышал где-то рядом приглушенный шум, который в равной мере мог означать веселье, ссору и даже драку.
– Вы ели что-нибудь? – продолжала расспрашивать посетительница.
– Ели, паненка, в полдень, картошку с селедкой.
– А что вы получили на рождество?
– Мы – ничего, а Ясек получил в воскресенье сюртук от отца.
И в самом деле на мальчике было напялено какое-то одеяние длиной по колена, которое при ближайшем рассмотрении обнаруживало большое сходство с жилетом, распахнутым и спереди и сзади.
– Ну, а теперь становитесь в ряд, я принесла вам поесть.
– Мне, мне! – закричала младшая девочка, собравшись разреветься.
Она сидела на полу и колотила что было сил жестяной ложкой о сковородку.
– Замолчи! Ты тоже получишь. Вот вам пирог – вот тебе… и тебе… и тебе.
Дети стали в ряд по росту, опершись подбородками на край стола.
– Здесь винные ягоды… Ну, берите! А тут сама не знаю, как называется, но ешьте, это сладкое.
– Ах, правда, паненка, сладкое.
– А вот щука…
– Щука… Посмотри, Ясек, щука, – обратилась старшая девочка к мальчику.
– Тюка! – лепетала малышка, засовывая палец в полуразинутую пасть рыбы, которую мальчик, засмеявшись, тут же зажал.
– Ай-ай, кусает, кусает!.. – заплакала Магда. – У-у!..
– Ты гадкий мальчишка! – рассердилась девушка в зеленом платье. – Тощий, все ребра наружу, а злой, как собака. Ну, погоди, ты у меня ничего не получишь.
Теперь принялся реветь мальчик, но его быстро успокоили и поставили в ряд. Молодая девушка делила остатки щуки, вынимала при слабом мерцающем свете острые кости и, шелестя платьем, перебегала от ребенка к ребенку, суя в открытый рот маленькие кусочки рыбы, словно птица, кормящая птенцов.
А рояль между тем бренчал, и по соседству не прекращалась перебранка.
– Ну, вот и все… Теперь можете играть… – сказала девушка.
Услышав это, мальчик и младшая девочка, как по команде, сели на пол и снова принялись за свой концерт на сковородке.
– А где отец?
– Папа в участке, – ответила старшая девочка.
– В участке, – повторила младшая.
– Вот как! А за что его посадили?
– Он что-то украл.
– Уклал!.. – пролепетала сидевшая на полу малютка, ударяя ложкой о сковородку.
– Это плохо.
– Конечно, плохо паненка, если кого поймают.
– А красть хорошо?
Ой, Галина! Ой, дивчина!
Ты одна виной.
Ты одна моя зазноба,
Я всем сердцем твой!
Так пел, нельзя сказать чтобы чересчур приятным тенором, кто-то шагавший по комнате с торопливостью, которая говорила о сильном возбуждении.
Как выглядел этот певец, я не знаю, ибо мы с Вигилией стояли в маленькой, совершенно темной комнатушке, примыкавшей к более обширному помещению, в котором запахи одеколона, камфары, пачулей, асафетиды состязались с другими, не менее пронзительными.
В то время как я раздумывал над разрешением новой загадки, Вигилия постучала три раза в дверь. Минуту спустя я увидел чью-то завитую голову, от которой несло миндальным маслом, очень красные губы, распространявшие запах розовой помады, и галстук бабочкой, благоухавший мильфлером.
Легкомысленный обладатель этих достойных внимания примечательностей даже не взглянул на нас и одним прыжком, подобно кенгуру, перемахнул пространство, отделявшее его от дверей в коридор.
– Ах, ах… божественная панна Мария! – воскликнул обладатель завитой головы. – Куда это вы собрались в такую позднюю пору?
– Добрый вечер! Я иду далеко, в Нове Място.
– Как это? В одиночестве? Лишенная недремлющего дружеского ока…
– А если не с кем? Хи-хи-хи!
– О, не шутите так, разве меня уже нет на свете? – воскликнул приятный молодой человек, стараясь увлечь девицу в свой благовонный уголок. – Самое большое через пять… да что я говорю, – через одну минуту вернется Фердзя, заменит меня в исполнении моих обязанностей, и тогда…
– Он в самом деле так скоро вернется? Хи-хи-хи!
– Клянусь прахом моей матери! А если бы он и опоздал немного…
– О, это было бы очень нехорошо!
– Нет, панна Мария, это было бы прекрасно, это было бы благородно, так как дало бы мне возможность высказать вам все, что, как сизифов камень, лежит у меня на сердце.
– И-и-и… и не пойму, что вы говорите.
– Не понимаете?.. О, горькая ирония! Утонченная жестокость свила гнездо в нежнейшем женском сердце! Разве вы не понимаете, что я вас боготворю, что я мечтал бы целую вечность услаждать свой слух эоловыми звуками твоего голоса, что я жаждал бы каждое мгновение вкушать чашу…
Динь!.. Динь!.. Динь!.. – раздался звонок.
– Кто-то звонит, пойдите откройте!
– Проклятье! Демоны!.. О, каким безжалостным…
Динь!.. Динь!.. Динь!..
Послышался топот ног, потом скрип отворяемой двери.
– Что вам надо, женщина?..
– Этого… вот… керосину на десять копеек.
– Пошла прочь, здесь нет керосина!
– Ну, как же…
– Прочь! Прочь!
Скрежет засова, шаги, разговор продолжается.
– Я жаждал бы каждое мгновение вкушать чашу божественного нектара твоих уст…
– Что вы мне голову морочите!.. Дайте лучше баночку тополевой помады…
– Дам, дам!.. Твоих уст, сквозь которые купидон бросает свои пламенные стрелы…
– Но я хочу фарфоровую баночку…
– Я дам фарфоровую… Пламенные стрелы мучительной любви.
– Но такую вот, с деревянной крышечкой…
– С деревянной, с деревянной!.. Любви, которая сплетает в один венок…
Динь!.. Динь!..
– О судьба, за что ты приковала меня к этому проклятому месту, как Прометея! Кто там?
Двери отпираются.
– Уж вы извините, я не так сказала… Не керосину мне нужно, а касторового масла…
– Ладно, ладно, хватит! Где деньги?
– Вот они! Хозяйка меня так ругала…
– Хватит! Замолчи!
Слышно, как открывают шкафы, переставляют какие-то мелкие предметы, затем снова скрежещет засов, и юноша возвращается.
– А где моя помада? – требовательно напоминает молодая особа.
– Сию минуту!.. Пламенные стрелы мучительной любви, которая сплетает в один венок тернии с цветами…
Динь! Динь! Динь!
– О, муки! О, пытка! – вопит молодой человек, снова бежит к двери и отпирает ее.
– Римской ромашки, только побыстрей!
– Молчать! Еще приказывать мне будешь!
– Вы тут, пожалуйста, поменьше говорите, а давайте поскорее ромашку, ребенок болен.
– Довольно! Не захочу – и не дам.








