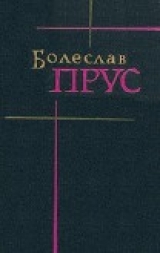
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)
Настала минутная тишина, среди которой до слуха членов научно-социально-филантропического общества донесся какой-то шум с лестницы.
– Что это значит? – выкрикнул Пёлунович и ринулся к дверям, в которых появилась Вандзя с каким-то свертком в руках.
– Дедушка! – с громким плачем воскликнула девочка. – Они говорят, что этот ребенок умер!..
Она быстро прошла через гостиную и положила свою промокшую ношу на председательский столик.
– Мой меморандум! – в ужасе закричал Зенон.
Но было уже поздно. На приснопамятном меморандуме в самом деле покоился бледный, холодный и окостеневший детский трупик…
– Кто это принес?.. Чей это? – спрашивал в величайшем ужасе пан Клеменс.
– Того господина, который спас твою трубку, дедушка, – рыдая, ответила Вандзя…
– Как?.. Гоффа?.. Ребенок Гоффа?.. Янек! Янек!.. – в отчаянии кричал старик.
Вбежал Янек.
– Говори сейчас, что случилось?.. Что это значит?
– Дело было так, ваша милость: стою я это в воротах с Иоась… то бишь стою я это в воротах, глядь, а этот господин сидит на камне… Я сейчас к барышне, барышня скорей спустилась, взяли у него ребенка и говорят: «Пойдемте со мной!..» А он взял да ушел прочь, на улицу!
– Так это был Гофф, Вандзя, Гофф?.. – снова спрашивал Пёлунович прижавшуюся к нему и неутешно рыдающую внучку.
– Он, дедушка, он!.. Я сразу узнала его.
Разбуженный предводитель Файташко стоял среди других, окаменев от ужаса, хотя и не понимая в чем дело.
– Несчастье! – стонал старый Пёлунович. – Надо искать его… Он еще, того и гляди, на самоубийство решится.
– Нужно прежде всего отправиться к нему на квартиру, – отозвался помертвевший от ужаса Вольский.
– Идемте, идемте! – повторило несколько голосов.
Пан Клеменс вбежал в свою комнату, чтобы переодеться.
– Господа, устроимте складчину, – сказал вдруг Дамазий. – Немыслимо же идти туда с пустыми руками!..
Присутствующие схватились за кошельки, и в мгновение ока собралось около ста рублей.
– Идемте! – вскричал одетый уже Пёлунович, вбегая в гостиную.
Все двинулись, Вольский пошел со всеми.
Через минуту гостиная совершенно опустела; в ней покоились лишь останки бедной Элюни, лежащие на меморандуме о пауперизме и прикрытые протоколами заседаний филантропического общества.
Это был последний и единственный долг, выполненный пессимистом Антонием по отношению к семейству злополучного Гоффа. Мизантроп боялся покойников и накрыл ребенка тем, что оказалось под рукой.
Глава тринадцатаяБез заглавия
Очутившись на улице, члены филантропического общества бросились бежать, словно стадо овец, подгоняемых собакой и бичом пастуха. Дождь капал им за воротники, из-под ног брызгала грязь, а они между тем забрасывали друг друга упреками.
– Наш формализм убил это несчастное дитя! – говорил Пёлунович, опираясь на руку Вольского.
– Э, что там формализм! Это ваша нерешительность больше всего виновата… – ответил Дамазий.
– Моя нерешительность! Ты слышишь, Густав! – жаловался пан Клеменс.
– Ну, разумеется, – уверял Дамазий. – Вы были у Гоффа, вы его видели, разговаривали с ним… Надо было предпринять что-нибудь на свой риск, а мы бы потом охотно это утвердили.
– Правда! Правда!.. – повторяли спутники, которые стали смелей среди окружающей темноты.
– И ты им веришь, Густав? – чуть не со слезами спрашивал задетый обвинением председатель. – Разумеется, я бы ему сразу помог, если бы вы меня одного послали; но Антоний все парализовал… все!
– Ах, уж этот Антоний со своей зубочисткой и своим пессимизмом!.. Я к нему чувствовал антипатию с первого же момента, – вставил Дамазий.
– Невыносимый субъект! – прибавил некто в плаще.
– Эгоист! – бросил некто в пальто.
– Только и думает о хорошем ужине!..
– Все мы понемногу виноваты, господа! – сказал нотариус. – Надо было заняться тем, что у нас было под руками, а не широкими проблемами и выслушиванием нелепых меморандумов…
– Пан нотариус! Вы, сударь, вечно ко мне придираетесь! – выкрикнул Зенон. – Вы меня систематически преследуете… Вы заставите меня потребовать объяснений!..
– Ах, беда… заблудились! – прервал вдруг Пёлунович. – Вместо того чтобы идти налево, мы идем направо. Густав, может, я слишком сильно на тебя опираюсь?
– Будьте покойны, сударь! – изменившимся голосом ответил Густав.
Путешественники свернули налево.
– Я вижу в окнах Гоффа свет, – шепнул пан Клеменс.
Густав так ослабел, что его даже дрожь охватила. Заметив это, дедушка оставил его руку и выдвинулся вперед.
– Мы уже у цели, – сказал пан Клеменс следовавшим за ним спутникам и с трудом открыл тяжелую, скрипучую дверь.
Первая комната, в которую толпой ввалились пришельцы, была открыта. На столе не слишком ярко горела лампа, а посреди комнаты стоял небольшого роста человечек в синих очках.
Это был Лаврентий.
Густав, входивший последним, взглянул на Лаврентия, побледнел и отступил в сени. Этого никто не заметил, ибо все заговорили сразу.
– Здесь господин Гофф?..
– Какой ужасный случай!
– Принесли мертвого ребенка…
– Господа! Пусть один кто-нибудь скажет, – сдерживал их Дамазий.
Собравшиеся утихли. Слово взял Пёлунович:
– Дома пан Гофф?..
– Увы, сударь! Его нет с сегодняшнего полудня, – ответил Лаврентий, набожно складывая руки.
– Этот человек принес ко мне мертвого ребенка, – продолжал Пёлунович.
– Неужели? – удивлялся Лаврентий. – Бедная Элюня отправилась за своей матушкой, вечная ей память!
В этот момент пан Зенон шепнул на ухо судье, что этот пожелтевший человек, должно быть, когда-то был актером. Судья согласился и прибавил, что его манера говорить и движения кажутся ему неестественными.
– Вы знали это семейство? – продолжал допрашивать Пёлунович.
– Я был его единственным другом, – ответил Лаврентий.
– Это, должно быть, были люди очень бедные?..
– Бедные, сударь, но богобоязненные. Они придерживались принципа: «Терпи со Христом и ради Христа, если хочешь царствовать со Христом», – ответил ростовщик.
– Но ведь у Гоффа был участок?
– Участок продан за долги.
– И как это никто не помог им!..
– Бедные люди, как мы, могут помогать друг другу единственно советом, а советов несчастный Гофф не принимал, ибо…
И ростовщик указал пальцем на лоб.
– Больше никого из семьи у Гоффа нет?
– Никого. Вчера господь призвал к себе дочь, внучка, вы говорите, умерла сегодня, а зять…
Он оборвал речь жестом, обозначающим, что на зятя рассчитывать нечего.
– Есть у вас надежда еще увидеться с Гоффом?
– Я буду искать его и надеюсь, бог поможет мне найти.
– В случае, если вы его найдете, очень просим вас передать ему эти деньги, – сказал Пёлунович, кладя на стол пачку банковых билетов. – Мы займемся похоронами его внучки, – прибавил он, – а теперь мы простимся с вами, сударь.
– Да наградит вас всемогущий господь, сударь! – ответил, кланяясь чуть не до земли, ростовщик.
– А можно узнать, как ваша фамилия? – спросил вдруг Дамазий.
– Фамилия моя… Гжибович! – запнувшись, ответил ростовщик.
Общество покинуло лачугу. Они прошли уже полулицы, когда Пёлунович позвал:
– Густав! Густав!.. Где же Вольский?
– Я что-то его не вижу, – отозвался Дамазий.
– Должно быть, вышел раньше, – добавил Зенон.
– Может, заболел? – с тревогой говорил пан Клеменс. – Я уже, когда сюда шли, заметил, что ему как-то не по себе…
– Благородное сердце! – сказал Дамазий. – Видимо, это расстроило его, и он сбежал… вероятно, домой.
Выяснив этот вопрос, все направились к дворцу под знаком бараньей головы.
По уходе гостей Лаврентий подошел к столу и стал считать деньги.
В эту же минуту какой-то сдавленный, доносившийся словно из-под земли голос произнес:
– Ой!.. Пожалуй, я уж вылезу…
– Вылезайте, вылезайте, дорогой мой пан Голембёвский, – ответил ростовщик, все еще считая деньги.
Из-под кровати, на которой умерла Констанция, показались две жилистые руки, косматая голова и давно не бритое лицо, затем широкая спина и, наконец, весь человек, огромного роста, одетый в изодранную куртку и сермяжные штаны. Ноги его были грязны и босы.
– Фуу… – передохнул бандит. – Я весь в поту.
– Верю, верю! – с улыбкой ответил пан Лаврентий. – Пан Голембёвский решил было, что это уже за ним…
Голембёвский тяжело упал на скамью и, исподлобья глядя на деньги, сказал:
– Это для старика принесли эти банкнотики?
– Вы же слышали.
– Вот, кабы вы, сударь, немножко мне из них уделили.
– В самом деле? – насмешливо спросил ростовщик.
– А то нет?.. Ей-богу, они бы мне пригодились!
– Старику тоже пригодятся.
– Ну, что мне старик!.. – возмутился бандит.
– Как это, что мне старик? Да ведь ему некуда голову приклонить, а вам стоит только захотеть, даром крышу над головой получите…
Эти произнесенные со спокойной улыбкой слова разъярили бродягу.
– О пан Лаврентий, какой вы жалостливый! – крикнул он. – Не надо было отнимать у старика дом и участок, вот и было бы ему куда голову приклонить!..
– Я у него не отнимал, а купил, дорогой мой пан Голембёвский, – сладеньким голосом ответил ростовщик.
– Знаю! Купили за двадцать рублей…
– За тысячу, дорогой пан Голембёвский.
– Да, и расплатились расписками, под которые давали рубль, а брали десять, мне это известно. Костка говорила…
Ростовщик пожал плечами и, завернув деньги в бумагу, спрятал их в карман.
Глаза бродяги заискрились, но он подавил бешенство и снова дрожащим от волнения голосом стал просить:
– Дайте мне, пан Лаврентий!
– Не могу.
– Хоть немножко…
– Ни чуточки…
– Хоть несколько рублей…
– Ни копейки. Это не мои деньги.
– Ну, так дайте из своих.
– Не могу! Я истратил тридцать рублей на похороны вашей покойной жены, вечная ей память, оплатил недоимки по налогам.
– Не обеднели бы, сударь, если бы и мне еще что-нибудь пожертвовали, – сказал бродяга.
– Я человек бедный, пан Голембёвский, я не могу бросать деньги в грязь.
Оборванец вскипел от гнева:
– Бедный! Бедный!.. Знают люди, какой вы бедный! Знают, что когда надо, так пан Гвоздицкий и в карете ездит!
Слова эти произвели в ростовщике страшную перемену. Он выпрямился, вызывающе взглянул в глаза бандита и сказал:
– Так, говоришь, знают меня люди?
Голембёвский уже не владел собой.
– А что ж им тебя не знать! – крикнул он. – Да и я тебя знаю, ты… мошенник!
В этот момент против открытых дверей комнаты, в темных сенях мелькнуло бледное, полное ужаса лицо Густава, но ссорящиеся его не заметили, и ростовщик тем же резким и решительным голосом продолжал:
– Так ты, значит, знаешь меня, Ендрусь, знаешь?
– Знаю, Лаврусь, знаю! – крикнул бандит.
– А я тебе говорю, – ответил Лаврентий, – ты меня еще не знаешь и узнаешь только сейчас.
С этими словами он снял свои синие очки, из-за которых показались умные черные глаза, такие зоркие и пытливые, что бродяга попятился, не в силах выдержать его взгляда.
– Знаешь ли ты, – продолжал ростовщик, – почему твоя жена умерла с голоду? Так вот, потому что на ее крестинах у вас здесь умерла с голоду другая женщина… А знаешь ли, почему я вас вышвырнул из этого домишки?.. Да потому, что вы меня из него вышвырнули двадцать пять лет назад…
В сенях раздался глубокий вздох, но Лаврентий не слышал его и продолжал:
– А знаешь ли ты, кто тебя заставил кандалы таскать?
– Миллериха, чтоб ей пять лет помирать – не помереть!.. – буркнул бродяга.
– Не Миллериха, сынок, нет, это я… Я, слышишь? А может, сказать тебе за что?
Бандит медленно опустил руку в карман холщовых штанов и молчал.
– Слушай, помнишь ты маленького Гуцека, с которым вы вместе играли, когда ты еще мальчишкой был?
– Это такого белоголового? – с виду спокойно спросил бродяга, становясь против дверей в сени.
– Вот-вот, того самого!.. Того, которого ты толкнул в колодец… У него до сих пор шрам на лбу от края колодца, но зато у тебя на руках и на ногах шрамы от кандалов… Он сейчас барин, а ты пес, которого завтра поймают и снова посадят на цепь…
В руках бандита сверкнул длинный складной нож.
Увидев это, Лаврентий рассмеялся:
– Что это, Ендрусь, иголка… а?
– Не уйдешь живой! – буркнул бродяга, делая шаг вперед.
– Осторожно, Ендрусь, не то я потушу тебя, как свечку! – предупредил Лаврентий, опуская руку в карман пальто и пятясь к другой комнате.
Полсекунды молчания. Голембёвский еще колебался.
В комнате что-то щелкнуло.
В этот миг разъяренный бандит бросился на ростовщика с ножом. Одновременно грянул выстрел.
– А-аа!.. – простонал кто-то в сенях и рухнул на землю. Голембёвский, увидев в руках Лаврентия револьвер, как безумный, прыгнул в сторону, высадил окно и исчез во дворе.
Комната была полна дыма. Лаврентий словно окаменел посередине. Потом медленно подошел к сеням и, глядя во тьму, страшным голосом спросил:
– Кто здесь?..
Ответа не было. На сырой земле, плавая в крови, лежал какой-то человек.
– Гуцек!.. Мой Гуцек!.. Убит!.. – вскрикнул ростовщик. – Я убил свое дитя!
Он кинулся туда, упал на колени и с душераздирающим стоном стал целовать ноги Вольского.
Раненый шевельнул губами, судорожно сжал пальцы и умер.
ЭпилогЧитатель имеет полное право заинтересоваться дальнейшей судьбой лиц, принимавших то или иное участие в описанных нами событиях.
Чтобы удовлетворить эту как-никак похвальную любознательность, мы прибавим следующие замечания.
После смерти Густава научно-социально-филантропические сессии прозябали еще некоторое время, но уже на квартире пана Дамазия.
Справедливость заставляет сознаться, что скромные бутерброды, которые великий оратор предлагал на этих собраниях, успешно охлаждали усердие его коллег.
Дело кончилось тем, что идее работы ради общего блага остались верны лишь пан Дамазий да его поклонник судья. Первый из них целый вечер болтал, а другой дремал, и оба были взаимно друг другом довольны.
Старика Пёлуновича теперь и не узнать. Он забросил гимнастику, отказался от душа, порвал с научно-филантропическим обществом, а уж молодых художников избегает как огня. В летнее время его любимое занятие – ходить с красивой, уже полнеющей Вандзей на Повонзское кладбище и украшать цветами могилу Густава, о котором он всегда вспоминал со слезами.
Тем, кому случалось посещать больницу св. Яна, некоторое время особо бросались в глаза среди обитателей этого благотворительного заведения три резко выделяющиеся на общем фоне субъекта.
Один из них целые дни проводил за писанием меморандума о пауперизме и за обдумыванием такой экономической теории, которая удовлетворила бы все партии.
Другой субъект – целыми днями сидел неподвижно, лишь время от времени бормоча:
– Пойдем тпруа, Элюня, пойдем тпруа!
Третий вел себя сдержаннее всех. Обычно он читал религиозные книги или производил какие-то бесконечные вычисления, но когда шел дождь и наступал вечер, он вскакивал со своей постели и нечеловеческим голосом кричал:
– Гуцек, мой Гуцек убит! Я убил свое дитя!..
― ЖИЛЕЦ С ЧЕРДАКА ―{6}
Ученый еврей, реб Лейзер Сковронек, поправил на седеющей голове бархатную ермолку, вытряхнул из фарфоровой трубки пепел и, спрятав ее в задний карман ластикового халата, остановился посреди грязных сеней, задумавшись над трудным вопросом: из каких ворот ему выйти.
Если выйти из зеленых, ведущих на улицу, ему наверно попадется на глаза мясник, погоняющий волов, старуха с ведром, хлебом или бутылкой в руках и уж, во всяком случае, деревянный коричневый дом, где в подвальном этаже живет жестянщик, а в мезонине… Пан Лейзер поморщился, повернулся и шагнул к желтым воротам.
Тут все принадлежит ему. И дворник, смиренно стоящий перед ним с шапкой в руке, и квадратный двор с большим сараем посередине, и эти красные подушки, и перины в голубую клетку, вывешенные посушиться на солнце, и вот эта приставленная к крыше сарая лесенка, где на третьей перекладине снизу показывает чудеса ловкости его Давидка, мальчик с длинными пейсами, самая умная голова среди всех Сковронеков, когда-либо живших на свете; да, все это принадлежит ему.
И разве только это?.. А деревянный дом за сараем, с восьмью окнами наверху и пятью внизу?.. А тот, другой, направо, с тремя дверьми и железной крышей?.. А тротуар, по которому маленький Йосек тащит на веревке табурет, перевернутый вверх ногами?.. А полуразвалившаяся лачуга налево, возле которой, на груде истлевших досок, играют трое грязных, оборванных детей и с грохотом сбивает бочку бондарь?
Унылая лачуга! В ней нет ни одной пригнанной вплотную доски, ни одной запирающейся двери, ни одного окна, которое можно было бы открыть, не опасаясь, что оно вывалится. Почерневшая, замшелая крыша образует такую неровную, такую вздыбленную поверхность, что самый искусный геометр не взялся бы ее измерить; а под ней ютятся такие бедняки… ах!.. такие бедняки, что сострадательный реб Лейзер уже пятый месяц не решается напомнить им о квартирной плате.
Желтоватые глаза Сковронека остановились на последнем разбитом окне чердака, откуда уже целый час клубами валил пар. Такое обилие пара означает жаркий огонь, а слишком жаркий огонь…
– Ах… ах… – заворчал ученый еврей, – они мне еще дом подожгут…
Он медленно подошел к бондарю.
– Слава господу богу, Мартин.
– Во веки веков… – ответил бондарь, прикасаясь рукой к шапке и складывая свои инструменты.
– Отчего это у Якуба такой огонь в комнате?..
– Да это она… греет воду для стирки.
– Ну-ну… а как он?..
Бондарь махнул рукой.
– Иной раз похоже, что пьян, – продолжал еврей.
– Какое там пьян! Просто упал с лесов и с тех пор стал какой-то… Ээх!.. не того… – объяснил бондарь.
– Ну-ну… Я это сразу подумал. Один раз он дрова у меня колол, так и часу не поработал, а уже устал. А в больнице ему совсем не помогли?
– Ну да, помогут они! Ногу – и то не вылечили…
– Франек… Франек… поди-ка сюда! – послышался голос с чердака, и из разбитого окна на собеседников глянула женская голова, замотанная желтым платком.
Старший из маленьких оборвышей, спрятавшихся при виде хозяина за истлевшими досками, бросился к лестнице.
– Это его дети? – спросил Лейзер.
– Его, – подтвердил Мартин. – Трос здесь, во дворе, а еще двое в комнате, больные.
– Ай-яй! – пробормотал еврей и, склонив голову, стал прислушиваться к разговору на чердаке.
– Где вчерашняя картошка, что была в горшке? Где? – спрашивал сердитый женский голос.
– Почем я знаю… матуся, – не очень уверенно отвечал детский голосок.
– Врешь, ты съел ее ночью. Юзя видела… Я тебе задам, ты…
– Ей-богу, матуся… чтоб у меня руки и ноги отсохли… чтоб меня холера!.. – визжал мальчик под аккомпанемент шлепков.
– Вот тебе!.. Вот тебе!.. – кричала женщина. – Будешь врать, будешь красть?.. будешь божиться?.. Вот тебе!
Каждое слово сопровождалось ударом мокрой тряпкой по разным частям тела худенького и грязного мальчишки, который, плача навзрыд, кричал:
– А разве я виноват, если вы мне есть не даете, да?.. А я вчера ужинал?.. А завтракал я… а?.. Да вы еще бьете меня… У-у-у!
Поднялся невероятный шум, поскольку к крикам карающей матери и крикам караемого преступника присоединились еще двое детей с чердака и двое снизу. Наконец, еврей потерял терпение; с минуту подумав, он вошел в сени, поднялся по грязной расшатанной лестнице и, запыхавшись от усталости, остановился на пороге комнаты, душной от пара и запаха мыльной воды.
– Якубова! Пани Якубова! И что это у вас всегда такой крик?
– О-о-о… пан хозяин? – удивилась женщина в лохмотьях и, заплакав, добавила: – А что мне, несчастной, делать с этими паршивцами, когда ничего от них не спрячешь и никак их не накормишь… Этот остался без работы, а детей-то пятеро, и все хотят есть, ну, а ты хоть из кожи лезь вон, хоть пополам разорвись…
– Вот что я вам скажу, Якубова, – сердито прервал ее Лейзер. – Что вы бедны – это правда, но что вы мне устраиваете беспорядок в доме и не платите – это тоже правда. Вечно у вас стирка, сырость, сушка белья, и вы ходите по чердаку со свечой, и вечно у вас шум… А платить вы не платите, и уже пять рублей мне должны… От вашего крика у меня голова идет кругом, вы мне дом спалите… Вы… вы… съезжайте отсюда… Не хочу я видеть ни вас, ни ваших денег…
– Ой, пан хозяин!.. – завопила женщина. – Ради бога, не делайте этого, потерпите еще немного…
– Что значит потерпите?.. Я уже пять месяцев терплю…
– Может, господь бог сжалится над нами и пошлет моему старику какую-нибудь работу, тогда уж все заплатим…
– Работа… работа… – проворчал еврей. – Разве вы о чем-нибудь заботитесь?.. Разве не прогнали вы свою жиличку?..
– Правда ваша, хозяин, но и то сказать, такая она поганая была, что и вас, пан, и нас срамила. Смилуйтесь, пан Лейзер, – продолжала она, умоляюще складывая руки, – хоть над этой мелюзгой смилуйтесь!
Хозяин окинул взглядом комнату; теперь все обитатели ее были налицо. Трое худеньких ребятишек с непомерно большими животами забились между лоханью и столом, заваленным мокрым бельем. Четвертый лежал под какой-то черной ветошью в кровати, пятый – в деревянном ящике на соломе; а их несчастный отец, растрепанный, с нелепо торчащими усами, с испуганными глазами, стоял, прислонившись к печке, возле дырявого ведра, на котором только что сидел.
На важном лице еврея отразилось волнение.
– Что с этим? – спросил он уже мягче, указывая на ящик.
– Чего-то все кашляет, – ответила мать.
– А с этим? – указал хозяин на кровать.
– Это девочка, она нечаянно обварилась кипятком.
– Ай-яй!.. – вскрикнул хозяин и, повернувшись к Якубу, спросил: – Ну, а с вами что, Якуб?
Бедняга тряхнул головой и стал царапать скрюченными пальцами печку, но молчал.
– Да отвечай же пану хозяину! – вмешалась жена.
Якуб пошевелил губами, с тревогой уставился на хозяина своими круглыми, глубоко запавшими глазами, но продолжал молчать.
– Ну, оставайтесь с богом, – прошептал еврей и поспешно вышел из комнаты.
– Дай вам бог здоровья! – ответила, перегнувшись через перила, женщина, глядя вслед спускавшемуся по лестнице хозяину.
В сенях его остановил бондарь:
– Как там, пан Лейзер?..
– Помоги ему бог, несчастный это человек… – сказал еврей и пошел дальше.
– Ну, слава богу! – говорила пани Якубова, с ожесточением терзая какую-то подозрительного вида тряпку, равномерно и с силой дергая ее правой рукой, а левой прижимая ко дну лохани с водой. – Славу богу, счастливо день начался. Горячая вода есть, мыло тоже есть, и работа на целый полтинник, да и хозяин хоть месяц еще подождет. Франек… не разгребай палкой уголь, а то что-нибудь натворишь. Денька через два я вымою пол у лавочницы, так, может, она опять станет давать нам в долг, а может, и племянника своего – ну, того, что у фельдшера, – пришлет, чтобы полечил Юзю. Манюся, берись за картошку… Франек, сбегай-ка в лавку, выпроси буханку хлеба; деньги послезавтра отдадим… Мошкова говорила, будто этот племянник лучше всякого доктора; может, он и тебе, старик, что-нибудь посоветует.
– Ой, матуся… как колет… – чуть слышно пожаловался мальчик в ящике и закашлялся.
– Колет, так и ты его коли! Чем я-то тебе помогу? – рассердилась мать. – Да погляди ты, старик, – повернулась она к стоявшему неподвижно мужу, – ведь и твои это дети, так помоги им. Ох, лучше бы я ослепла раньше, чем пошла за тебя замуж!..
В эту минуту заскрипела, затрещала лестница, и на пороге остановилась какая-то женщина, еще молодая, но истощенная и бедно одетая.
– Золотая моя пани Якубова! – вскричала она, входя. – Скорей отдайте лохань и котел, не то старуха мне голову оторвет.
– Лохань и котел?.. – в ужасе повторила прачка. – Лохань и котел?.. Как же я достираю?
– Что же мне-то делать, милая?.. Пока я могла, давала вам потихоньку, а теперь, как все открылось, она и слышать ничего не хочет… воровкой вас обзывает, кричит, что пойдет в участок; а если вы сей же час не отдадите лохань и котел, грозится нагнать к вам полицейских со всей Варшавы…
Прачка схватилась руками за край лохани.
– Не отдам лохань… не отдам котел… ничего не отдам!.. больше мне негде достать, а дома нечего есть, и работа спешная…
Посетительница всплеснула руками.
– Побойтесь бога, кума, что вы говорите?.. За мое же доброе сердце вы хотите, чтобы и меня и вас повели в участок…
Дикая вспышка отчаяния несчастной матери разрешилась слезами. Что ей было делать? Как она могла не отдать вещи, ей не принадлежавшие? Не удивительно, что после долгих упрашиваний и криков она сама вытащила из лохани мокрое белье и помогла вылить в сток горячую воду, для которой не нашлось подходящей посуды и у добросердечного бондаря.
Этот, казалось бы, незначительный случай совсем обескуражил бедную женщину; она опустилась на единственный в комнате табурет и, закрыв лицо передником, громко зарыдала.
– Вот тебе жена, вот тебе дети! – кричала она, всхлипывая. – Захотелось тебе жениться, так на вот… Все валится на мою бедную голову, а что я могу сделать, когда последний чугунок, последнюю лохань жидам пришлось продать.
В дверях показался расстроенный, запыхавшийся Франек.
– Матуся, – сказал он, – в лавке хлеба не дают да еще говорят, чтобы вы за прежний заплатили…
– Господи… где же мне взять, когда я последний грош на мыло истратила?..
– Матуся, – позвала с кроватки больная девочка, – матуся, а мы сегодня совсем не будем есть?..
И бедняжка со страхом уставилась на заплаканное лицо матери.
Женщина опустила голову, стараясь не замечать терзающий душу взор девочки, но тут она увидела пожелтевшее личико мальчика, он кашлял, высунув из своего ящика взъерошенную головенку; перевела взгляд к дверям, но там встретилась с тремя парами глаз, робко просивших хлеба; наконец, она повернулась к печке, – однако и оттуда с беспомощной мольбой на нее глядели круглые запавшие глаза ее несчастного мужа.
Тогда горе и отчаяние сменились в сердце женщины яростью; слезы высохли, и жалкая прачка превратилась в волчицу, которая, почуяв опасность, решилась защищать своих детенышей.
– Послушай-ка, старик, – прошипела она сквозь зубы, положив на плечо мужа тяжелую, огрубевшую от работы и мокрую руку. – Слушай меня да пошевеливайся! Видишь, дома нет ничего.
Старик молчал. Жена тряхнула его.
– Теперь, старик, ты что-нибудь надумай, как-никак ты мужик, а у меня уже все из рук валится. Иди ищи у людей работу или милостыню проси, только бы дома был хлеб, а то мне тут с ребятами уже невмоготу…
Старик продолжал молчать и блуждающим взглядом смотрел вдаль. Жена еще ниже склонилась к нему и глухо промолвила:
– Иди же, иди… говорю тебе, иди!.. Сделаешь ты что иль не сделаешь – только бы с глаз моих долой; не то – либо тебе, либо мне не жить.
Несчастный очнулся; понимал ли он что-нибудь, трудно сказать, но я уверен, что чувствовал он все. Он ощущал сырость в квартире, ощущал голод, боль в искалеченной ноге и то, как кружится его бедная, разбитая голова, а главное, чувствовал, что ему нет уже места в родной берлоге.
Когда он встал с ведра, жена нахлобучила ему на голову шапку и слегка подтолкнула к двери. Он даже не оглянулся, но, спускаясь вниз, услыхал голос сына:
– Ну, не реви, Манька. Отец пошел в город и принесет нам хлеба, а может, как бывало, и мясца копченого.
Выйдя из дому, бедняга с удивлением остановился у ворот. Удивила его ясная погода и солнечное тепло; удивили веселые лица прохожих и то, что они не жаловались и не просили хлеба; удивил простор улицы, где он мог дышать, не ощущая запаха мыльной воды, и двигаться, не чувствуя на себе взглядов голодных детей и впавшей в отчаяние жены. Помутившийся разум его немного прояснился, и Якуб вспомнил, что должен куда-то идти, искать хлеба.
Идти, но куда?.. Улица тянулась в обе стороны. Налево была неровная мостовая, направо тротуар. У Якуба болела искалеченная нога, и он пошел направо. Мог ли он предвидеть, что это слабое движение инстинкта, тяготеющего к гладкой дороге, окажется для него тем страшным ударом судьбы, которому еще сегодня предназначено размозжить ему череп?
Дойдя до угла, он столкнулся с дворником в синей блузе, который с редкостным усердием подметал лестницу убогого кабака.
– Эге-ге!.. – закричал дворник. – Хорошая, значит, будет погода, если уж пан Якуб вышел! Как поживаете?..
– Спасибо, пан Валентий, – пробормотал Якуб, должно быть впервые за много дней вымолвив слово.
– Что это вы целую неделю не показывались? Люди говорят, у вас беда дома?
– И верно беда, – ответил Якуб, – работы у меня нет.
– Работы?.. А у кого она есть? То же самое и деньги. Они только и водятся у важных господ да у жидов… Ну, идем в чайную.
С этими словами он повел Якуба в кабак, где, кроме владельца, – еврея с хитрым лицом, – сидел, вернее дремал, прислонившись к большой бочке, какой-то мужчина в помятой шляпе и линялом сюртуке, совсем светлом у воротника, но постепенно темневшем до горчичного цвета к спине и густо табачного к карманам.
– Ай-яй… наш пан Якуб! – воскликнул хозяин. – Такой гость! Надо бы углем на печке записать… Что это с вами стряслось?
– Ну, Янкель, поставьте-ка водочки, живо! – скомандовал Валентий.
– А вы еще работаете каменщиком, пан Якуб?
– Ну как же, работает он!.. Свалился с лесов оземь башкой и теперь вышел на пенсию… Ну, живо, водки! – крикнул Валентий.
– А деньги? – спросил еврей и, расставив ноги, стал покачиваться, заложив руки назад.
– Какие там деньги! А без денег нельзя?.. Я угощаю! – рявкнул Валентий.
– Вы угощаете?.. Ну, так сколько муки – столько и хлеба… Ничего… – заключил Янкель.
– А-а-а! Наше вам… Пан Валентий!.. – неожиданно очнулся линялый мужчина у бочки. – А-а-а, мое почтение! Разрешите узнать, что это за оборванец пришел с вами?
– Это мой приятель! – ответил дворник. – Пан Якуб работал каменщиком, да вот разбился, ищет теперь работу.
– Ха-ха! Работу в кабаке?.. Работа – ерунда! Во всей Европе теперь не найдешь работы, одну только водку и найдешь… если есть у тебя деньги. Янкель, мышонок мой, дай-ка мне рюмочку…
– Опять в долг? – плаксиво спросил еврей. – Вы столько уже задолжали мне с утра и еще хотите?
– Что я тебе с утра задолжал, собачья ты требуха? Это я?.. тебе?.. задолжал?..
– А может, нет?.. С самого утра вы съели баранку, потом выпили водки, потом опять выпили, и опять поели, и опять два раза выпили, и опять хотите пить?..
– Пан Игнаций, – начал Валентий, – не сочините ли вы для пана Якуба прошение к каким-нибудь важным господам, чтобы хоть немного помогли человеку?
– Прошение?.. Этому оборванцу? – удивился пан Игнаций, хотя к погрешностям собственного костюма был, видимо, весьма снисходителен. – На черта оно сдалось?.. Чего стоят все эти прошения, вы меня спросите… Я сам ходил с письмом, в котором было написано… Водки, старый пес!..
– Водки нет! – решительно заявил еврей.
– В этом письме, – продолжал пан Игнаций, – было черным по белому написано, что я, Игнац, глухонемой от рождения и к тому же разорившийся мастер… п-п-покорнейше прошу покровительства… я-ясновельможных и вельможных господ… И что же вы думаете? Может, думаете, они кому-нибудь помогают? Тысяча чертей! Они только и умеют обругать пьяницей. Меня… меня самою обозвали пьяницей… Водки, коровий хвост!.. Не то убью тебя… сожгу… по судам затаскаю… Ну!..








