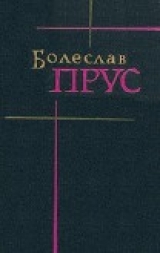
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
– Не дадите, так я полицейского позову. Тоже нашелся…
– Бери и убирайся прочь, бездельник!
Дверь снова на запоре.
– Ну и что, что ты скажешь мне, Мария? – спрашивает обладатель завитой головы, возвращаясь поспешно обратно.
– Дайте мне тополевую помаду.
– Дам, дам! Но мое признание?
– Все это ни к чему, у вас ничего нет.
– Мария, согласись только, и я положу к твоим стопам все сокровища мира! Как только я окончу практику, мы покинем этот исполненный корысти город и упорхнем в какой-нибудь уединенный провинциальный уголок; там я открою собственное дело…
Динь! Динь! Динь!
– О Фердзя! О проклятый Фердзя! Почему ты не приходишь, чтобы освободить меня от этих дантовских оков? – жалуется юноша, снова устремляясь к двери.
В это мгновение кто-то стучится в нашу комнатку; девушка открывает дверь и говорит вполголоса:
– Сейчас, Фердзя, сейчас… Я только на минутку задержусь, у меня вышла вся помада…
– Черт его дери! Я тебе дам сколько захочешь, только не томи меня, слышишь?
– Сию минутку!
– …Открою дело, – продолжает меланхолический юноша, возвратившись, – и тогда, на лоне божественной природы…
– Помаду дайте, помаду! – кричит, топая ножкой, ангельское создание.
– Разрешите, дражайшая!.. На лоне божественной природы, вдали от недружелюбных…
– Помаду! Помаду!
– Вдали от недружелюбных взглядов, завидующих нашему счастью…
Динь! Динь! Динь!
– О, небо! – взывает несчастный влюбленный и рысью мчится к двери.
– Чего тебе, негодяй?
– По… по… жа… жа… луй-луйста…
– Что?.. говори, не то я тебя сейчас на мелкие куски изрублю!
– По-по-пожа…
Дверь в каморку приоткрывается.
– Маня, я ухожу! – доносится сердитый голос.
– Кто там? – кричит влюбленный… – Панна Мария!.. Где она? Боже! О, тень матери моей!.. Этот мерзавец еще обворует мою аптеку! Чего тебе надо, посланец ада?
– По… по… пожа… луйста…
– Чего тебе? Говори, не то убью!
– О-го… го… ппо… по…
– Чего, чего?
– О… по-го… делетидок!
– Оподельдок?.. Здесь кроется какая-то адская интрига… Где деньги? Кто прислал тебя, чудовище?
– Ттот… пан, что… у… у… во… рот…
– А-а-а… Это он!
Юноша бежит к воротам, останавливается у лестницы и кричит вслед поспешно садящейся в санки паре:
– Фердинанд! Мария!.. О Мария! Вы изменили мне!
– Нельзя так орать по ночам, весь город разбудите, – раздается в это мгновение строгий голос с угла.
Юноша обернулся, взглянул, отскочил, подобно молодой антилопе при виде тигра, и, задвигая засов с энергией, полной отчаяния, прошептал:
– Вот какой у меня сочельник… вот какой сочельник у сироты! Боже!.. Боже!.. Разве я могу назвать тебя милосердным?..
О люди! Что такое подлинные несчастья простого народа перед сознанием несчастья, которым озарены возвышенные натуры?
― ЗАТРУДНЕНИЯ РЕДАКТОРА ―{3}
Что стерлось на скрижалях прошлого,
Пусть воскреснет в песне или шутке.
– Да натопи ты хоть раз как следует эту чертову печку, разрази тебя гром! – крикнул довольно солидный мужчина в собачьей, под медвежью, шубе. – Ну, что ты торчишь здесь, разиня?
– Жду корректуру.
– Осел, как же я буду тебе править корректуру, если у меня пальцы окоченели?.. Натопи печку, тогда сделаю.
– Да печка же дымит.
– Чтоб вас всех тут продымило, растяпы! – продолжает ругаться мужчина, по-извозчичьи хлопая себя озябшими руками по бокам. – Разогрей мне хотя бы чернила, а то и они замерзли!
Парень отправляется с замерзшими чернилами в более теплые места, мужчина в шубе, отогрев руки, принимается тереть уши ярко-клерикального цвета, а тем временем в дверях этого храма остроумия появляется метранпаж.
– Пан редактор, – говорит он, – на заглавном рисунке стерся нос.
– А что я могу сделать? Не отдам же я свой нос. Идите к художнику.
– Художник тоже не отдает, у него у самого его нет; да и поздно уже.
– Я замечаю, что вы день ото дня становитесь все остроумнее, пан, как вас…
– Все мы здесь острим понемногу, пан редактор. Вместо рисунка придется дать текст.
– А где я возьму вам текст, если сотрудники не прислали рукописей?
– Но вы же собирались дать… этот… скелет… или как его там…
– Ага!.. «Скелет и дева», фантазия! Дам, но пусть кто-нибудь пишет под мою диктовку; есть у вас подходящий человек?
– Найдется. Здесь наверху живет один, он писцом у адвоката, так я приведу его к вам.
– Хорошо. Ну, а тебе что? – спрашивает редактор вошедшего в эту минуту мальчика. – Принес рукопись?
– Какое там, пан редактор! Пан Охватович страшно болен и прислал вам только записку.
– Давай ее сюда!.. – Читает: – «Весь мир мне опротивел… голова тяжелая… умираю без надежд и сожаления… Пришлите мне несколько рублей. Охватович.
Постскриптум. Велите вашему мальчишке купить мне по дороге несколько лимонов».
– Ах, чтоб ты скис! – кричит редактор, снова принимаясь отогревать руки. – Чтоб тебя!.. Видел ты пана Охватовича?
– Видел. У него голова обмотана платком.
– А что с ним?
– Не знаю, пан редактор. Прислуга сказала, что вчера его привезли в первом часу ночи и из саней на руках внесли в комнату. Кажется, он был на именинах.
– Ах! – вздыхает редактор, падая в кресло и закрывая лицо руками.
В это время входит метранпаж в сопровождении лысого человека средних лет, физиономия которого отличается спокойствием, граничащим с полнейшим равнодушием ко всему окружающему миру.
– Вот, пан редактор, пан Дульский пришел писать.
– Хорошо, садитесь и пишите, – отвечает редактор, не отнимая рук от лица.
– Добрый день! – говорит Дульский все с тем же безразличным видом.
– Туда! – указывает метранпаж; затем усаживает равнодушного писца задом к спине редактора, подвигает к нему перо и чернила и подкладывает какую-то газету под бумагу.
– А сколько вам нужно полос «Скелета и девы»? – спрашивает редактор, обращаясь к метранпажу.
– Две с половиной.
– Какой сегодня холод, – замечает пан Дульский.
– Давайте писать, – говорит редактор, – даже не взглянув на своего ближнего, взявшего на себя роль каллиграфической машины.
– Я уже лет десять не припомню такой зимы, – уверяет Дульский.
– Заглавие «Скелет и дева», – диктует редактор. Перо Дульского начинает скрипеть.
«Беспредельная степь (многоточие), ужасная (многоточие), пустынная степь (многоточие). Вместо зеленой травы белеет снег. Вместо щебета птиц – зловещее карканье ворон и завывание ветра. (Абзац.)
На лице девы, подобном мраморному изваянию, застыло выражение ужаса: все ближе и ближе вслед за ее гордым скакуном мчится стая волков, зловеще высунувших кровавые языки и яростно щелкающих белыми, как фарфор, зубами…»
Вдруг редактор умолкает, словно холод описываемой степи заморозил и каскад его слов. В приоткрывшихся дверях показывается острая бородка, крючковатый нос и коротко остриженная голова.
– А-ааа… пан Йосек! Что скажете?
– Нижайший поклон, пан редактор. Я пришел за теми семью рублями… ну, вы знаете…
– Теперь у меня нет. Пан Дульский, пишите дальше!
– Как это нет? Я должен сегодня же заплатить хозяину.
– Не мешай! «Из глаз и ноздрей ретивого скакуна сыплются искры; он несется как вихрь, но вдруг волчица подскакивает к нему и вырывает у него хвост. Кровь хлещет потоками…»
– Ну, что же будет, пан редактор?
– Теперь ты ничего не получишь; не мешай!
– Так я подожду.
– Не жди, говорят тебе!
– Но я же не могу… Сегодня я должен получить мои семь рублей.
Мрачный редактор вдруг принимает величественный вид.
– Йосек, – говорит он, – через час ты получишь полтинник, а теперь убирайся отсюда, не то…
Йосек исчезает.
– Погоди же, постой! Постой! Принеси-ка мне еще коробку папирос.
– Дайте денег.
– У меня нет мелких; купи на свои и оставь папиросы в типографии.
– С какой это стати? Я и денег не получил, да еще должен покупать вам папиросы?
– Можешь за это выпить рюмку водки.
– Тоже за свой счет?
– Разумеется. Пока что…
– Ну и ну!..
– Пан Дульский, пишите дальше, – говорит редактор, поглядывая через плечо на сидящую за ним машину. – «Эта ничтожная добыча лишь на мгновение задержала стаю бегущих волков, быстро догоняющих свою жертву…»
– Пан редактор! – кричит, вбегая с озабоченным видом, какой-то господин в старой бурке и измятой шляпе. – Пан редактор, ради бога, дайте мне пятнадцать рублей!
– Пятнадцать рублей? – с изумлением спрашивает редактор, притопывая ногами и крепко растирая руки. – А статью вы принесли?
– Боже мой! Оставьте меня в покое с этой статьей по крайней мере сегодня. Вы же знаете, моя жена…
– Ааа… поздравляю!
– Ну, вот видите сами, можно ли в такую минуту думать о статье?
– Милостивый государь, подобная причина могла бы с полным основанием послужить оправданием для вашей жены, – сурово возразил редактор, – но никак не для вас.
– Ах, пан редактор, не терзайте меня! Мне до зарезу нужны пятнадцать рублей, а вы…
– Через час мы сможем предложить вам пять рублей, а теперь… Пан Дульский, пишите дальше.
– О, чтоб вас!.. – буркнул автор и хлопнул дверью.
Перо скрипело, редактор диктовал:
– «В это мгновение самый крупный волк подскочил к несущемуся вскачь коню и сорвал у него копыто с левой ноги; однако благородное животное, чувствуя, какой драгоценный груз оно несет, продолжало мчаться вперед, не касаясь снега ногами… Поток крови, хлынувший из хвоста, замерз…»
Но тут редактор струхнул, увидев в открытых дверях некое важное лицо в шубе с енотовым воротником.
– А… уважаемый пан Гольдфиш!.. Что привело вас ко мне так рано?
– Добрый день! Вы, вероятно, шутите, – ведь еще вчера вы должны были отдать мне эти сто двадцать рублей.
– Прошу вас, пан Гольдфиш, садитесь, пожалуйста! Надеюсь, сынок ваш получил хороший табель?
– Ничего… Но, видите ли, у меня нет времени, а вы всегда как-то умеете заговорить мне зубы.
– Так, пан Гольдфиш, если у вас нет времени сейчас, мы сможем уладить наши счеты через несколько дней.
– Через несколько дней?.. Разве уж через суд, – с оскорбленным видом ответил Гольдфиш, собираясь уходить.
– Минуточку, пан Гольдфиш!.. Вы знаете «Венецианского купца» Шекспира?
– А почему бы мне не знать? Я всего Шекспира чуть не наизусть знаю.
– Вы помните, что в этой трагедии фигурирует ростовщик Шейлок?
– Ну да… Шей… Помню, помню…
– Так вот представьте себе, что вчера по городской почте мы получили рисунок, а на нем… Как вы думаете, кто изображен? Вы!.. Вы изображены там с ножом в руке и надписью: «Авраам Гольдфиш, Шейлок из Поцеёва, дающий в долг из двухсот процентов».
– Но кто написал такую глупость?
– Не знаю. Однако… рисунок этот мы используем.
– Как? Вы поместите его в газете?
– Конечно. Раз вы хотите нанести нам ущерб, у нас тем самым нет основания щадить вас.
– Ну вот что, пан редактор. Я с теми ста двадцатью рублями подожду еще недельку, две… пусть даже три… но только вы этого не делайте.
– Гм!.. Видите ли, пан Гольдфиш, это очень трудно… У нас нет литературного материала.
– Нет? А когда я вам предлагал, вы не брали?
– Но ваши стихи чрезвычайно слабы.
– Те были слабы… Зато уж это стихотворение, которое я написал сейчас, чрезвычайно сильное. Я вам прочту, оно называется «О дружбе».
Редактор соглашается послушать. Пан Гольдфиш садится, достает из кармана рукопись и читает:
Нам друг наш верный всех милее
Богатств безмерных. Он умеет
Обиды горечь
Прощать нам вскоре
А вдруг случись тебе нужда,
Тебя он выручит всегда,
Он деньги в долг дает
И от беды спасет
А если у тебя волнения,
Заботы или огорчения,
У друга утешения ищи
И в сердце верное стучи.
– Ну, что вы на это скажете, пан редактор?
– Великолепные стихи!
– Так пойдут они в этом номере?
– В этом! Пошли бы, но… я еще не уверен, выйдет ли этот номер.
– Как? Почему вы не уверены?
– У нас не хватает денег. Несколько дней (из-за праздников) не поступали деньги за подписку.
Пан Гольдфиш задумался.
– Ну, а если бы они пошли, то за моей подписью?
– Разумеется! Я приказал бы даже один номер отпечатать для вас красными буквами на веленевой бумаге.
Пан Гольдфиш опять задумался.
– А сколько нужно?
– Рублей пятьдесят.
– Но они будут напечатаны за моей подписью и красными буквами?
– А то как же…
– Если так… Я вам одолжу эти пятьдесят рублей, только… Зайдите ко мне через час.
С этими словами пан Гольдфиш встал, глубоко вздохнул и, с чувством попрощавшись с редактором, ушел. Однако через несколько секунд он снова вернулся, приоткрыл дверь и сказал:
– За моей подписью, не забудьте!..
Только теперь на суровом лице редактора расцвела улыбка, которую, однако, тотчас же пришлось согнать, так как вошел метранпаж.
– Пан редактор! Я пришел за фантазией о скелете, дайте хоть кусок.
– Вы говорите о «Скелете и деве»? Я могу дать вам сейчас небольшой кусок, но через час будет остальное. Пан Дульский, дайте рукопись.
Но пан Дульский даже не поднял головы, усердно продолжая писать.
– Пан Дульский! – закричал метранпаж. – Дайте рукопись!
Пан Дульский все писал.
Столь очевидное пренебрежение к людям вышестоящим возмутило редактора, который с гневом встал и вырвал у Дульского бумагу. Однако эта вспышка нисколько не оскорбила апатичного писца. Он спокойно стряхнул перо и, повернув голову к редактору, сказал:
– Четкий почерк!..
Редактор взглянул на бумагу, поднес ее к свету, протер глаза, и лицо его покрылось багровыми пятнами.
– Что это такое?.. «Актуариус гражданского суда… уведомляет, что по требованию Янкеля Карабина, купца из губернского города… проживающего, а законное проживание у Франтишка Патыковского, защитника суда…» Что это значит?.. Этот человек, вместо того чтобы писать под мою диктовку, переписал объявление о публичных торгах…
– Из этого листа, – сказал Дульский, – вышло бы четыре канцелярских.
– Вы что, с ума сошли? – спрашивает редактор.
– Не менее двух злотых, – отвечает ему новоиспеченный литератор.
– Но… пан метранпаж, этот человек глух!..
– Что вы наделали? – орет на ухо Дульскому взбешенный метранпаж.
– Что? А… я переписал объявление из газеты, как вы мне приказали.
– Но я дал вам эту газету, только чтобы подложить под бумагу, – кричит рассвирепевший метранпаж.
– Ах, чтоб вас всех тут… – заключает редактор.
― ДОКТОР ФИЛОСОФИИ В ПРОВИНЦИИ ―{4}
Пан Диоген Файташко, которого в небольшом, но избранном кружке интимных друзей называли просто Дынцек или Файтусь, провел все утро в меланхолическом разглядывании своих длинных и тонких нижних конечностей. Сегодня он пребывал в мрачном настроении в значительной мере под впечатлением сна. Ему приснилось, что вследствие вчерашнего ужина у него завелись трихины, а вследствие заражения этими трихинами ему пришлось по предписанию молодого врача по имени Коцек выпить целую бутыль неочищенного керосина, и, наконец, что вследствие обеих вышеприведенных причин он, пан Диоген Файташко, краса и гордость уезда, один из столпов провинциальной отечественной литературы, вынужден был лечь, или, вернее, его перенесли с продавленного, но еще довольно мягкого матраца, на жесткий и грязный анатомический стол местного врачебного управления.
– Брр!.. Что за мысль!..
Пан Диоген был слишком передовым человеком, чтобы верить снам; к несчастью, он верил в свою собственную философскую систему, основой которой, между прочим, была аксиома, что идея (субстанция, в миллион раз более невесомая, чем водород) может под воздействием сильной воли выкристаллизоваться во внешний или внутренний факт. Так, например, пан Диоген отроду не бывал в Берлине, но он уже лет десять лелеял мысль о своем пребывании в Берлине, и в конце концов мысль эта настолько выкристаллизовалась в нем, что об улицах, дворцах и площадях, а главное – о Берлинском университете он говорил как о предметах, которые видел собственными глазами и трогал собственными руками. Зная об этом, пан Диоген имел основание опасаться, как бы его – впрочем, довольно неясные – мысли о трихинах не выкристаллизовались в настоящие трихины или в какое-нибудь иное явление, неблагоприятное и для него самого, и для остального человечества.
Долгие, мрачные размышления Диогена то о паразитах вообще и о паразитах кишечных в частности, то о пагубном действии этих последних непосредственно на некоторые индивидуумы и косвенным образом на ход мировых событий прервал нетерпеливый, но почтительный стук в дверь, которая на возглас хозяина: «Entrez!»[6]6
Войдите! (франц.)
[Закрыть] – открылась, пропустив маленькую, но с ног до головы элегантную фигуру пана Каэтана Дрындульского.
– Привет, почтение и уважение! – затараторил гость. – Ой-ой-ой, соня какой! (С самого восхода солнца я в поэтическом настроении.) Одиннадцатый час идет, а он с постели не встает!.. (У меня всегда стихов полон рот.) Должно быть, вчера вы долго занимались и потому сегодня так заспались. (Эта способность легко рифмовать иногда меня самого беспокоит.) А я с утра, как встал, для вас новости собирал и столько сообщить спешу, что, просто едва дышу… (И еще «Еженедельник» говорит, что я не поэт! Ха!..)
Говоря это, гость метался по всей комнате, точно пол был утыкан булавками, и ежился в своем пиджаке так, как будто ему насыпали за ворот раскаленных углей. Тем временем сохранявший серьезность Диоген схватился обеими руками за край кровати и, упершись в потертый коврик пяткой левой ноги, бездумно рассматривал свои высохшие пальцы.
Непоседливый Дрындульский продолжал болтать:
– Я встрепенулся, как птичка, освежился холодной водичкой и тут же пошел в город по привычке, потому что со вчерашнего дня какое-то предчувствие томило меня.
– Так же, как и меня!.. – прервал вполголоса Файтусь.
– В самом деле? – восторженно воскликнул гость. – Великие умы сходятся и в предчувствиях не расходятся (как говорит французская пословица). Новости поистине превосходные!.. Угадайте какие, философ мой бесподобный…
– Вероятно, трихины! – проворчал Дынцек, быстро пряча левую ногу под одеяло.
– Ха! ха!.. Превосходный! Бесподобный! Трихиноутробный! Какой тристих, треножник, троица, трилогия! Поразительно, восхитительно!.. Город наш становится поэтическим в тот самый день, когда ему надлежит стать философическим. Я сочиняю двустишие, мой приятель – тристишие; один философ местный, двое варшавских – итак, всего их трое. Кто не верит в чудеса, пусть тайну сию откроет!..
– Не понимаю!.. – пробормотал Файтусь, поглаживая свою пышную шевелюру.
– Как это вы не понимаете? – рассердился Кайцек, спускаясь с высот пафоса до простой прозы. – Вы же философ местный, здешний, наш единственный, не так ли?
Дынцек погладил бороду, что, по понятиям болтливого поэта, означало, видимо, согласие, так как он продолжал:
– Вы один философ, да из Варшавы приехало двое, всего, стало быть, трое; тристишие о трихинах…
– Какие еще двое из Варшавы? – вскричал Файтусь, вцепившийся снова в кровать.
– Ну, как же, два Клиновича – племянники старого Федервайса, университетские товарищи Коцека, те, что написали знаменитые философские трактаты… о чем бишь?..
– Об отношении сознательного к бессознательному?.. Но писал лишь один из них – Чеслав Клинович, доктор философии…
– Доктор Венского, Парижского, Берлинского и других университетов. Оба двоюродных брата, Чеслав и Вацлав Клиновичи, являются докторами всех этих университетов, а сейчас оба они приехали сюда, к нам, под предлогом посещения дяди.
– Откуда вы это знаете?
– Я видел сегодня обоих в девять утра в гостинице «Бык». Я отправился en фрак, en белый галстук, en темно-синие перчатки (брюки были эти же). Спрашиваю гарсона: «Пятый номер спит?» – «Умывается», – отвечает гарсон. Стучу в дверь… «Entrez!» Я прошу извинения, называю себя, оставляю две визитные карточки (обоим), упоминаю о вас…
– Как они выглядят? – спрашивает, немного взволновавшись, Дынцек.
– Один из них лежал в постели под серым славутским одеялом, а второй умывался глицериновым мылом.
– Ну, а физиономии, манеры?..
– Так я же говорю! Тот, что умывался, был в сорочке в шоколадную полоску. Возвращаясь из гостиницы, я тотчас купил три такие же у Гольдгляса.
– Но что они говорили?
– Ах, что говорили? Это уж мой секрет. Мне некогда его сообщить, потому что я должен спешить…
– Зачем? Уж не надеть ли цветную сорочку или уведомить город о том счастье, которое выпало на его долю? – иронически спросил Дынцек.
– Что это? Насмешка?.. – вспылил гость.
– Чистейшая правда, – сердито ответил хозяин. – Всех ваших почитателей покоробит прежде всего та легкость, с какой вы поддаетесь новым влияниям, а затем то, что вы совершенно безличный человек.
– Как? Что вы сказали?..
– Именно так! И самым ярким доказательством вашей безличности служит приобретение трех цветных сорочек только из-за того, что такие носит какой-то псевдофилософ, какой-то проходимец. Ха! ха! ха!..
– Он – проходимец? Я – безличный человек? – в негодовании закричал пан Дрындульский, самоуверенно засунув обе руки в боковые карманы. – Понимаю!.. Вы завидуете новым светилам, которые могут затмить вашу славу!
– Моя скромная слава не померкнет оттого, что вы сегодня в девять утра бегали в гостиницу и хотите надеть цветную сорочку.
– Действительно скромная! – прервал гость. – Какие-то три маленькие заметки о любительском театре, об эпидемии ветряной оспы у детей и…
– Неважно их содержание, пан Дрындульский! Во всяком случае, их не отклонили, как это случается по отношению к вам каждую неделю.
– Проходимец! Безличный человек! Прощайте, пан Диоген Файташко! – отчеканил элегантный гость, покровительственно кивнув хозяину.
– Цветные сорочки… визит в девять часов утра… en фрак!.. Прощайте, пан Каэтан Дрындульский! – процедил сквозь зубы хозяин и величественно указал гостю на дверь.
Так разрублен был гордиев узел старой дружбы, столько лет связывавшей двух самых известных людей в уезде. Зловещий сон Диогена сбылся.
Каждому беспристрастному человеку личность Диогена Файташко с первого же взгляда внушала глубокую симпатию и уважение. Черный костюм указывал на душу, охотно обретавшуюся под сенью кроткой меланхолии; золотые запонки на сорочке говорили о независимом положении; остроконечная, выхоленная бородка свидетельствовала о самостоятельности суждений, а густое оперение на голове являлось доказательством недюжинного ума.
Что делал пан Диоген в глухом уездном захолустье? По мнению людей меркантильных – ничего; но для тех, кто умел смотреть на вещи глубже, этот сухощавый мужчина средних лет с опущенной головой был проповедником новых идей, пионером цивилизации. Так он сам определял свое положение, прибавляя, что у него только два честолюбивых желания: завершить, испытать и оставить миру в наследие свою философскую систему и в полудикой местности (куда его забросил неумолимый рок) воспитать известное количество людей интеллигентных и добросердечных.
На какие средства существовал пан Диоген? Подобный вопрос был для него величайшим оскорблением. Неужели он, живущий двадцать четыре часа в сутки в мире идей, должен был унижаться до мелочных забот о хлебе насущном, до ответа на столь оскорбительные вопросы? Он ел – потому что вынужден был есть; жил в квартире – потому что не мог не жить в квартире; брал на мелкие расходы – потому что не мог не брать. Но все это он делал не из принципа, а случайно и вопреки своей воле, скорей уступая настойчивым просьбам Гильдегарды, возвышенной и бескорыстной натуры, от квартиры которой его скромную комнатку отделяла одна только дверь.
Люди пошлые, грубые и эгоистичные не могли понять отношений, связывавших эти – не скажу братские, но все же родственные души, и много болтали о двери, той самой двери, которая несколько лет кряду (к вящему стыду сплетников) была загорожена большим столом, а теперь наглухо заклеена и всегда как с одной, так и с другой стороны тщательно заперта на ключ. Поговаривали также, что с того времени, как дверь заклеили, чувство симпатии между этими двумя прекрасными душами значительно ослабело, – что является сущей ложью, так как пан Диоген ни на один день не переставал столоваться и снимать комнату, а иногда даже брал в долг небольшие суммы у прекрасной, благородной Гильдегарды, в метрике совершенно неправильно названной Пракседой.
После ухода поэтичного, а потому запальчивого Каэтана пан Диоген глубоко задумался и, глядя на вышеупомянутую заклеенную дверь, прошептал:
– Тысяча чертей! Сердце женщины! Новый идеал… Готовое приключение… Будущее без денег… Ох, уж этот сплетник Дрындульский! Ох, эти доктора философии!
Как бы в ответ на беспорядочные мысли пионера цивилизации раздался стук в заклеенную дверь, после чего пронзительный женский голос закричал:
– Ты дома?
– Дома, Гильця, – ответил Диоген и, торопливо накинув на себя одеяло, подбежал к двери.
– Говорят, из Варшавы приехало несколько философов?
– Басни, Гильця… как тебе…
– Я слышала, что они хотят засвидетельствовать мне свое почтение.
– Что за сплетни! Что за гнусные сплетни!
– Надо дать им возможность познакомиться с нами…
– Гильця, не верь этому, – умолял Диоген, переступая с ноги на ногу и с отчаянием кутаясь в одеяло.
– Ты глупости болтаешь! – нетерпеливо возразил голос. – Я ведь знаю, что приехали оба Клиновича, и они что-то писали о бессознательном.
– Но…
– Отстань! Ты пригласишь их на сегодняшний вечер!
– Но…
– Размазня! – взвизгнул голос. – Ты пригласишь их на сегодняшний вечер – и баста! Я так хочу!
В ответ на столь категорическое требование талантливый Дынцек хлопнул себя по ляжке правой рукой, что сопровождалось звуком, похожим на удар палкой по стене, в отчаянии бросил одеяло на кровать и стал поспешно одеваться.
В этот день уездный город X., один из первых уверовавший в прогресс, эмансипацию, англо-французский туннель, передовицы «Еженедельного обозрения» и в персидский порошок в качестве противохолерного средства, – в этот день город X. был потрясен. Говорили – кто шепотом, кто вполголоса, а кто и во весь голос, – что в гостинице «Бык» остановилось множество докторов философии, приехавших познакомиться с паном Диогеном, поцеловать ручки благородной Гильдегарде, обнять пана Каэтана Дрындульского – словом, принести дань уважения всем местным знаменитостям, а самое главное – выбрать среди уездных красавиц верных спутниц жизни.
Как легавые за дичью, бегали за ростовщиками запыхавшиеся, хотя и солидные, отцы семейства, с целью выудить у них небольшую сумму денег для предстоящих торжественных приемов. Мамаши, озабоченные будущностью своих дочек, расспрашивали прежде всего о количестве приезжих, а затем – обеспечивается ли профессия доктора философии хорошим доходом. А дочки? Дочки не интересовались ни доходом, ни профессией, они думали только о том, чтобы обнаружить перед верховными жрецами науки и рулевыми кораблей человечества возможно больше физических ценностей, а также и духовных богатств из сокровищниц своих девственных мыслей и чувств.
Гостиница «Бык» была буквально осаждена. Интеллигенция – в цилиндрах и в фуражках, с тросточками, с зонтами и зубочистками – глазела на почтенное здание, как будто стены его, подобно шерсти легендарной клячи из Микуловиц, обладали способностью излучать свет. Многие вспоминали весьма удачное стихотворение пана Каэтана Дрындульского, в котором этот талантливый, хотя и мало известный миру, поэт изложил (по материалам пятидесяти томов) свой взгляд на прошлое, настоящее и будущее философии. Люди более серьезные рассуждали о бессознательном с таким основательным пониманием вопроса, как будто всю жизнь пребывали в этом любопытном психическом состоянии. Публика же, менее сведущая в философии, поэзии и бессознательном, толковала о том, что окна знаменитых путешественников выходят во двор, как раз на сточную канаву, что в одном из окон виден подсвечник, а в другом какая-то полотняная одежда весьма сомнительной формы. Энтузиасты хотели собственными глазами взглянуть на подсвечник и одежду и под предлогом не терпящих отлагательства личных дел поминутно бегали во двор.
Вдруг на тротуаре, на мостовой и у подъезда гостиницы воцарилась тишина, потом раздался шепот, потом… опять тишина. Жаждущая знаний толпа заметила улыбающегося врача Коцека, которого (конечно, с левой стороны) сопровождал сияющий от гордости Каэтан Дрындульский, автор стихотворения о будущем, настоящем и т. д. философии, в шелковом цилиндре, белом галстуке и философской сорочке в шоколадную полоску. Один из тех, кто минуту тому назад с наибольшим знанием дела рассуждал о бессознательном, пошел им навстречу и, обратившись к врачу Коцеку, спросил:
– Скажите, сколько их на самом деле?
– Клиновичей двое, – ответил врач.
– Чеслав и Вацлав, – добавил Каэтан Дрындульский. – Два этаких громких имени вместе – воплощение таланта, труда и чести!
– А сколько же докторов философии? – прервал знаток бессознательного.
– Как это – сколько? – удивился врач. – Один только Чеслав.
– Это звезда первой величины, и ее все вы знать должны: автор труда о бессознательном, который этим трудом замечательным человечеству новые пути открыть спешит, исследуя глубочайшие тайники души!.. – добавил ударившийся в рифму Каэтан Дрындульский, застегивая цветную сорочку, которая поминутно распахивалась, открывая нескромным взорам пунцовую фуфайку.
– У кого вы сегодня будете?
– Они оба сегодня обедают у своего дяди Федервайса.
– И я туда их сопровождаю. Я Федервайса тоже знаю; знаю и уважаю… честное слово!..
– А вечером мы все будем у Пастернаковских… – хотел докончить врач.
– И я, и я… буду у Пастерна… ковских, непременно… К этому семейству чувство дружбы у меня неизменно, – перебил поэт, искоса взглянув на собравшихся, чтобы увидеть, какое впечатление производят его несравненные экспромты.
Но собравшиеся, вероятно вследствие соседства с гостиницей, один из номеров которой занимали знаменитые философы, не замечали, казалось, красот внезапно прорывавшихся стихов и ничуть не удивлялись необыкновенному искусству незаурядного сочинителя.
– Сейчас вы, вероятно, идете к ним? – спросил кто-то из толпы.
– Конечно, конечно! – с наслаждением ответил Дрындульский, рассматривая свои нарядные лакированные ботинки. – Каждая минута в обществе таких людей, как эти, может считаться одной из счастливейших на свете!..
– Дорогой Дрындульчик, – зашушукал на уха поэту некий Корнелий Кларнетинский, младший из двенадцати Кларнетинских, с незапамятных времен занимавших низкие должности в уезде, – дорогой Дрындульчик, познакомь и меня с этими господами…
– Ты хочешь сказать – с доктором философии и его братом? – с достоинством поправил его Дрындульчик, прищуривая глаза. – Хорошо, подумаем об этом!
– Кайцек, милый, – прошептал кто-то другой, легонько потягивая поэта за рукав, – мне бы хотелось познакомиться с этими субъектами.
– Ты говоришь о докторе философии и его брате? – спросил пан Каэтан, выпятив нижнюю губу. – Не ручаюсь, но… попытаюсь.
– Коцек! Кайцек! Доктор! Дрындульчик! Надеюсь на вас! Привет философам! – кричали местные интеллигенты.
– Попытаемся! Посмотрим! Постараемся! – отвечал всем элегантный Дрындульчик, по адресу которого кто-то из его недругов сказал, что он похож на осла, навьюченного мешком с бриллиантами.








