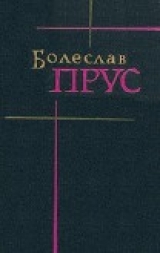
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
В эту минуту в кабак ворвалась какая-то бабенка с криком:
– Опять ты в кабаке, лодырь этакий! Опять! Вот я тебя…
– Магдзя, Магдуся… – залепетал оторопевший Валентий. – Я ничего… Я только с Якубом…
– С Якубом? – взвизгнула жена. – И не стыдно тебе ходить с Якубом? Да ведь он хуже всякого нищего; мало того, что самому жрать нечего, так он еще у детей хлеб отнимает!
Выпалив это, она схватила мужа за шиворот.
– Валюсь… Не сдавайся, говядина ты! – ободрял его пан Игнац.
– И ты туда же, пьянчужка, и ты!.. Вот я вас обоих сейчас!
И, приведя угрозу в исполнение, она спустила с лестницы мужа и пана Игнаца, весьма искусно надавав обоим пинков ногой, которая оставила на сюртуке пана Игнаца очень заметный след. Якуб вышел за ними.
– Фью-ю-ю! Вот это ведьма!.. – заметил, обращаясь к Якубу, Игнац, когда супруги скрылись из виду. – Слава господу спасителю, что она не мне досталась. Фью-ю-ю!
Посвистывая и пошатываясь, он схватил Якуба под руку и потащил за собой.
– Как бишь тебя, мой пряничек?.. – начал он.
– Якуб, – ответил ошеломленный бедняк.
– Вот видишь ли, дорогой. Я-Ясь… скажу тебе одно… дурак ты, если ищешь работу. Работа не для таких, как ты. Работа – сущий вздор, и все вообще вздор…
При этих словах бледное опухшее лицо пьяницы стало печальным.
– Говорю тебе, – продолжал он, – как тебя там?..
– Якуб.
– Говорю тебе, дорогой Яцусь, все на свете вздор. И это солнце… апчхи!.. Я всегда чихаю, когда смотрю на солнце… И солнце вздор, и земля, и дома, и богатство… Такой, говорю тебе, человек с образованием, как я, и тот не может себя прокормить, а уж куда тебе?.. О, слепота людская! Но… да как же тебя?.. Никак не запомню!
– Якуб.
– Так вот, дорогой Ендрусь, если бы мне, с моим благородным сердцем, пришлось отнимать хлеб у своих детей и оказаться лишним на свете, я бы, говорю тебе, я пошел бы на мост и… и, честное слово… бултых в воду… бултых в воду… чтоб не мешать никому… дорогой Юзек… А может, тебе жалко покинуть этот мир? – прибавил пан Игнац, бросая на Якуба блуждающий взгляд. – Ендрусь, горлинка ты моя, не будь дураком. Все, что ты видишь кругом, – тлен и суета. Плевка не стоит, говорю тебе…
Вдруг он умолк и остановился с поднятым кверху пальцем, как бы желая сдержать лавину презрения, слишком поспешно обрушиваемую им на окружающую его действительность, и как бы сознавая, что место, где они сейчас находились, отнюдь не оправдывало, может быть и справедливого, но слишком уж бурного отвращения к миру. Вон водопровод, вот кабак, в подвале харчевня, рядом ларек с овощами, дальше другой – с хлебом, и третий – с колбасными изделиями, где в котелках, похожих на ванночки, кипят рубцы и сосиски… При виде этого изобилия сердце пана Игнаца смягчилось, и он снова заговорил, но уже другим тоном:
– Знаешь что, дорогой Фра… Да как же тебя?..
– Якуб, – ответил его несчастный спутник.
– Ага! Так знаешь что, дорогой Ясек… Я, ей-богу, с охотой угостил бы тебя. Может, мы чего-нибудь… того… ну, рубцов с булочкой?.. Я даже запах слышу, говорю тебе.
– Если будет на то ваша милость…
– А может, послушай, сперва водочки, а уж потом рубцов, а? Видишь ли… есть рубцы у ларька уж очень вульгар-р-р…
– Э-э… чего там… – ответил Якуб.
– Ну, а если бы… послушай-ка меня… сначала водочки, а потом сосисок, а-а-а?.. Гм! видишь, дорогой Петрусь… я угощаю… только я, никто другой. Ну, дай твою мордашку, дай клювик… чтоб тебя…
С этими словами он наклонился направо и поцеловал воротник, затем наклонился налево и задел носом ухо Якуба.
– Ну, вот что, дай мне взаймы полтинничек, не больше, сохрани бог… Я, видишь ли… с собой не захватил.
– Что вы? Откуда у меня деньги?.. – грустно ответил Якуб.
– У тебя нет?.. Полтинника? Фью!.. А еще хотел, чтобы тебе прошение написали?.. Фью!.. И хочешь с порядочными людьми под руку ходить?.. Бог ты мой! И этот негодяй Валек знакомит меня с таким босяком! Будь здоров, Яцусь. Мне нужно вон в ту чайную. Может, увижу там кого-нибудь из знакомых… Ну, адью…
Не оборачиваясь, пан Игнац вбежал в другой кабак и сразу повалился на скамью, оставив на улице Якуба, обернувшегося лицом к Висле, от которой его отделяло не более сотни шагов.
Как сюда попал Якуб, когда заснул, и сколько времени проспал – трудно угадать, но только незадолго до захода солнца он проснулся на какой-то свалке; его лихорадило, но он был спокойнее и яснее сознавал окружающее, чем обычно.
Спал он прямо на мусоре; тут же рядом рылись куры и поросенок, не обращая на него никакого внимания, словно это был неодушевленный предмет. Но Якубу это было безразлично. В нескольких шагах от себя он заметил старую, грязную, но еще не очень рваную шапку, которая могла бы пригодиться для совсем славного подарка сыну; однако не поднял ее, как не поднял бы в эту минуту и мешок с золотом.
Чуть пониже своего омерзительного ложа он обнаружил двух мальчиков, видимо незнакомых между собой; меньшой бросал камешки в воду, а другой, повыше ростом, раздумывал, казалось, как бы завязать с ним знакомство. Якуб почувствовал необыкновенную симпатию к этим подросткам, охотно даже заговорил бы с ними, но не решался сказать первое слово; поэтому он молчал и слушал.
– Эй, ты! – вдруг закричал высокий мальчик. – Перестанешь ты бросать или нет?
– А что? – откликнулся меньшой.
– А то, что получишь в морду, если будешь бросать.
– О, а за что?
– Нельзя бросать камни в воду. Не знаешь ты, что ли?..
Пока Якуб тщетно силился вспомнить, существует ли на самом деле такое странное запрещение, младший мальчик подошел к старшему.
– А видишь ты, щенок, этого шута наверху?.. – указал старший на Якуба.
– Может, в него разок-другой?.. – нерешительно спросил младший.
– Огонь! – крикнул старший.
Тотчас по команде несколько камней засвистело вокруг Якуба, – один упал возле его головы, второй угодил в больную ногу. Якуб застонал от боли и присел на мусоре; увидев это, мальчики сразу удрали.
– Чего они хотят от меня?.. Что я им сделал?.. – пробормотал несчастный.
Не успел он еще найти ответ на этот вопрос, как услышал позади грубый голос:
– Ого! Опять ты здесь, пташка? Давно тебя не видали!
Якуб обернулся: перед ним стоял сильный и высокий человек, по виду дворник.
– Еще что-нибудь хочешь стащить? – продолжал незнакомец. – Недавно ты доски украл, а теперь опять появился, каналья?
– Я не крал досок, – прошептал Якуб.
– Ну как же, не крал, твой брат за тебя крал… Ишь ты, хитрая бестия!.. Вон отсюда!
Бедняга встал.
– Господи, чего вы от меня хотите?..
– Вон отсюда! – еще громче закричал дворник и, схватив Якуба за плечо, свирепо толкнул его на дорогу.
Только сейчас несчастный почувствовал, что нога у нею страшно болит, горит голова, а язык пересох от жажды. Ему хотелось есть, хотелось пить, хотелось прилечь и отдохнуть, но негде было. На углу пустынной немощеной улицы он увидел за грудой балок рыжего нищего в старой военной шинели, с перекинутой через плечо холщовой сумой. Сидя на земле, он что-то раскладывал на коленях и бормотал:
– Краюшка хлеба… за души Петра и Агаты. Хлеб совсем сухой… Три огурца – это чтоб бог дождик послал… Может, и пошлет?.. Три копейки за упокой усопших… Вечная память…
Якуб подошел ближе.
– Милостивый господин, пожалейте убого; о сироту… – затянул нищий, скорее по привычке, чем в надежде, что ему подадут.
Якуб остановился.
– Э-эх, дедушка… – промолвил он, – мне бы от вас что-нибудь получить.
– Вам? От меня?! – с изумлением вскричал нищий.
– Да вот же… Вы-то сегодня ели, а я нет.
– Вот тебе раз, не ели?.. Ну, так ешьте! Кто вам не велит? – проворчал нищий, торопливо пряча свои запасы.
– А если мне нечего есть?
– Заработайте. Вы думаете, теперь нищие такие же богачи, как бывало.
– Да уж конечно, хотел бы я заработать, только негде.
– Ого!.. Негде!.. Ну, так удавитесь.
– У меня и веревки нет.
– Так украдите, – сердито оборвал разговор нищий. – Я вам не брат и не сват, чего вы ко мне пристали?..
Все физические и моральные страдания, перенесенные несчастным Якубом, с новой силой ожили в нем. Ему казалось, что со всех сторон его подстерегают какие-то невидимые сети, какие-то орудия пытки, от которых ему хотелось бежать. Хотелось бежать от собственной кровоточащей, распухшей ноги, от головы, в которой стучали тысячи молотов, от вонзавшихся в сердце острыми гвоздями взглядов голодных детей, от попреков жены, падавших на него, как расплавленное олово, от всего, от всего на свете…
От этих мрачных видений его оторвал внезапный звон разбитого стекла и крики:
– Караул!.. Форточку разбили… Лови его… держи!..
Это он разбил форточку, это его велят ловить! Якуб оглянулся: отсюда было уже недалеко до дому; он повернул в свою улицу и, смешавшись с толпой прохожих, исчез в воротах.
Во дворе его остановил бондарь Мартин:
– Нечего вам торопиться домой. Манька куда-то пропала, так жена ваша пошла с мальчиком ее искать, а остальных детей заперла в комнате.
Якуб, не отвечая, бросился на лестницу, а с лестницы в чуланчик под крышей, где была протянута веревка для белья и лежала охапка соломы, на которой он обычно спал. Задыхаясь и дрожа от возбуждения, Якуб оперся о балку и в сильнейшей тревоге высунулся в слуховое окно, видимо чего-то ожидая.
Ждал он недолго; через несколько минут во двор вошел какой-то еврей в сопровождении женщины.
– Мартин, – окликнула женщина бондаря, – где тут у вас Якуб живет?
– А зачем он вам?
– Как зачем? – вмешался еврей. – Затем, чтобы заплатить за разбитое стекло…
– И это вы, Катажина, показали к нему дорогу? – спросил бондарь.
– Так это же не даром, – объяснил еврей, – она за это водку получит…
– А вы, Катажина, видать, и родного отца за рюмку водки продадите, – презрительно буркнул бондарь.
– Ну, что тут разговаривать, – прервал еврей, – показывайте дорогу, Катажина, мне некогда.
Пристыженная женщина молчала, украдкой поглядывая на слуховое окно, где в полумраке белело изможденное лицо Якуба.
– Ну, где он, Катажина?.. – не отставал еврей.
В эту минуту рука Якуба вскинулась над головой.
– Отвяжитесь вы от меня, – огрызнулась женщина.
Голова в слуховом окне резко закачалась, лицо исказилось судорогой.
– Убирайся прочь! – крикнул Мартин, подвигаясь к еврею. – Ты чего в чужом доме разошелся?..
Лицо Якуба, выглядывавшее из окна, посинело.
– Как это – убирайся?.. Что значит – убирайся?.. Караул!.. – орал обозлившийся еврей, и во дворе поднялся шум, утихший лишь с приходом Лейзера Сковронека.
Старый хозяин возместил убыток потерпевшему и велел ему уходить.
– Награди вас за это господь, – проговорил бондарь, снимая шапку. – Столько уж на них навалилось бед, что вчуже страшно делается. А теперь еще ребенок у них пропал.
– И ребенок найдется, – возразил хозяин, – и еще все будет хорошо. Я сегодня говорил про них одной монахине, так она сказала, что старика заберут в больницу, а детей в приют, и Якубовой дадут работу… Гут будет!
– Якуб! – закричал бондарь, подняв голову. – Спуститесь-ка вниз! – Он внезапно замолчал и с испугом добавил: – Что это с ним?
– Что это с ним? – сразу побледнев, повторил хозяин, глядя в слуховое окно.
В эту минуту в воротах показалась прачка с найденной девочкой, от усталости уснувшей у нее на руках; рядом бежал старший мальчик, усердно обкусывая внушительный ломоть хлеба, который быстро уменьшался.
Увидев хозяина, Якубова принялась его благодарить; но он нетерпеливо махнул рукой и пошел наверх; за ним последовали бондарь и прачка с детьми, а позади несколько зевак со двора.
У двери чуланчика хозяин остановился.
– Идите вы вперед, – сказал он бондарю.
Но и Мартин не решался войти; он заглянул в щель между досками – и в ужасе отшатнулся.
Якубова, ничего не подозревая, первая вошла в дверь, за ней потянулись зеваки.
– О, матерь божия! – вдруг вскрикнула женщина. – Да что же ты наделал, Якуб?!
– Дайте знать в полицию, – сказал кто-то. – Якуб удавился.
– Обрежьте веревку: может, он еще жив!
– Не трогайте, за это тюрьма!
Поднялся шум, суетня; в толпе, мгновенно нахлынувшей в коридор и на лестницу, слышались самые противоречивые суждения.
– Ай-яй… ай-яй… – причитал хозяин, дрожа всем телом. – Такой ужас, такой грех, такой срам! Почему он это сделал?.. Зачем он это сделал?.. Денег я с него за квартиру не брал… детям его помогал, к монахиням ради него пошел… а он повесился!.. Вот и делай людям добро… а они так тебе за это заплатят…
– Не сердитесь, пан Лейзер, – сказал не менее его взволнованный бондарь. – Не со зла он это сделал, а в уме повредился. Его и сам бог простит.
Так сетовали и скорбели добрые люди. А перед ними на веревке, привязанной к стропилам, висел труп Якуба. Бедная голова его поникла, но на посиневшем лице, искаженном безумием, ужасом и страданием, уже разливалось величавое спокойствие смерти.
― ПРОКЛЯТОЕ СЧАСТЬЕ ―{7}
I. Немного светаПан Владислав и пани Элена Вильские поженились всего полгода тому назад. Жилось им на этом свете неплохо, хотя – могло бы и лучше. Были у них три комнаты, кое-какая мебель, две-три олеографии, подаренные дружкой, и старая служанка Матеушова, которая взялась бог весть откуда, но стряпала недурно.
Хозяйственный вклад пани Элены был невелик. Прежде всего следует упомянуть канарейку, которую вместе с клеткой подарила ей тетка; тетушка не из богатых, ну и подарок, не сказать, чтоб дорогой, но за его уменье есть и петь ему порадовались и повесили, как полагается, на окошке.
Вместе с канарейкой в квартиру вселились сундучок с бельем, еще один сундучок – с платьем, картонка с шляпой и туалетный столик, уж не знаю с чем. Извозчик, доставивший всю эту рухлядь, получил полтинник на чай, чем остался вполне доволен, и Элюня, разместив надлежащим образом сундучки, картонку и туалетный столик, тоже была довольна, наверно даже больше, чем извозчик.
Водворившись в новое гнездо, она заметила вскоре, что чего-то ей недостает, и сшила себе фартук с кармашками. Чистенький был этот фартук, как золото, еще и с оборкой по подолу. Молодая хозяюшка поскорее нарядилась в него и с утра до вечера ходила, засунув руки в карманы, а на следующий день запрятала его в шкаф, где он лежит и поныне. Говоря по правде, этот фартук был ей совсем ни к чему.
Неделю спустя прибавилось новое переживание, которое разрешилось тем, что пани Элена плотно-наплотно задернула окна муслиновыми занавесками. Муж ее похвалил, хотя и не знал, почему она это сделала; но я знаю. Была у этого мужа дурная, хотя, может быть, и простительная привычка частенько целовать свою жену. Он целовал ее в первой комнате, целовал во второй и в третьей, на стуле, против зеркала и у окна, причем всякий раз с неизменной обстоятельностью. Сперва в левую ручку, потом в правую (или наоборот), потом в шейку с четырех сторон, потом в личико со всех возможных сторон…
Можно не сомневаться, что поцелуи эти не огорчали пани Элену и не надоедали ей, тем не менее всякий раз при совершении торжественного обряда она отворачивала голову от окна. Мужа это забавляло, хотя он и понятия не имел, почему она отворачивает голову от окна, но жена-то знала отлично. Как раз напротив них находилось окно другой квартиры, а из окна выглядывал желтолицый старик с жидкими седыми бакенбардами. Сколько бы раз молодые ни принимались целоваться, старик становился в окне, в белом ночном колпаке с пунцовой кисточкой на макушке, и заливался смехом, щуря глаза и обнажая зубы, желтые, как он сам.
Рассердившись, Элюня купила десять аршин муслина и занавесила все окна. С тех пор вместо искривленного гримасой старческого лица она видела только пунцовую кисточку от колпака, которая тряслась, словно студень, должно быть, от ужасного возмущения. Так ему и надо, старикашке, пускай не смеется!
Ай-ай-ай, мы чуть было не позабыли сказать, что, кроме сундучков, картонки, туалетного столика и канарейки, Эленка принесла в новое хозяйство еще кое-что. Что?.. Не ломайте себе голову, добрые люди, все равно не угадаете. Так вот, принесла она с собой пару рук, маленьких, белых и пухлых, деятельных, как муравьи; вдобавок к тому косу, густую и мягкую, как шелк, и пару глаз, как ясное небо; и вздернутый носик, и коралловые губки, и зубы, мелкие и белые, и сердце – такое честное и чистое, такое любящее и верное, какое – ах! – вряд ли найдешь среди нас с вами.
В один прекрасный день (было ей в ту пору семнадцать лет) нынешний муж Эленки, а тогда студент политехнического училища, сказал ей:
– Мне хотелось бы вам что-то сказать…
– Говорите, – разрешила она.
– Боюсь!
– Наверно, что-нибудь нехорошее?
– Я вас люблю.
Эленка открыла рот от изумления, затем проговорила:
– А знаете, ведь это… хорошо.
– А вы меня любите?
– Не знаю…
– А будете вы ждать меня?
– О, непременно!
– Вы дали мне слово. Когда я закончу училище, мы поженимся.
– Прошу соблюдать приличия! – отчитала его Эленка.
Вот и все объяснения, а через три года они поженились.
Владислав был инженером-механиком, что, впрочем, не слишком занимало его жену, и слыл человеком одаренным и благородным, что, пожалуй, было ей не совсем безразлично; ко всему он обладал прекрасным сложением, черной бородой и шевелюрой, зеленоватыми глазами и великолепным цветом лица, и вот это занимало ее более всего. Наконец, он любил ее, а она в нем души не чаяла.
Здоровье, красота и взаимная привязанность произвели в сумме много радости, которая царила в трех комнатках на втором этаже пять долгих месяцев без малого. Но вот уже несколько недель, как на супружеском горизонте показалась черная тучка: у Владислава не было работы!
Банкир Вельт, при содействии которого Вильский заработал в этом году полторы тысячи рублей, со дня свадьбы почему-то остыл к молодому инженеру, а под конец и совсем от него отвернулся. Остались сбережения, надежды на будущее и случайная работа – всего этого не хватало на содержание дома. Пришлось урезать расходы, но вот уже разменяли последнюю двадцатипятирублевку и… истратили предпоследний рубль!
Неприятный был это день для наших молодоженов. Стараясь не смотреть жене в глаза, Владислав заперся в своей комнате – для того, чтобы беспрепятственно терзать себя за неспособность осчастливить любящую женщину. В свою очередь, Эленка, видя, как муж опечален, приписывала вину себе и твердила:
– Боже мой, ну что бы ему жениться на богатой! Мне тогда оставалось бы только умереть от горя, но кому я нужна на этом свете? Три месяца назад я заплатила целых десять рублей за платье… Ах!.. если б кто-нибудь купил его у меня!..
Так думала она, прохаживаясь по комнате на цыпочках и поглядывая на свои цветы. Время от времени она подходила к запертой двери и прислушивалась. Но там было тихо. Зато из кухни доносился грохот передвигаемых кастрюль, а от окна – щебетанье канарейки.
– Чего там эта канарейка так трещит? – отозвался вдруг Владислав с ноткой раздражения в голосе.
– Сейчас, сейчас она перестанет, – ответила Эленка и, приблизившись к клетке, проговорила полушепотом: – Тише, моя пташечка, тише!.. Хозяин сердится на нас, тише!..
Канарейка глянула на нее сперва одним глазком, потом другим, двинула хвостиком влево-вправо и защебетала еще громче.
Перепуганная Эленка накрыла клетку черной шалью, и птица унялась.
– Ну, теперь она заснет, – сказала Эленка и шагнула к дверям мужниной комнаты.
Уже взявшись за дверную ручку, она, словно испуганная собственной смелостью, отступила на середину комнаты и, затаив дыхание, постояла так минуту или две.
– Нельзя ему мешать! – сказала она себе и, приводя свое решение в исполнение, отворила дверь.
– Ты меня звал, Владик? – спросила она.
– Нет.
Тихонько подошла она к сидевшему за столом мужу и поцеловала его.
– Мне показалось, что звал.
– Эта канарейка бесит меня, – буркнул Владислав.
– Я ее накрыла, она уже спит.
Она поцеловала его еще раз.
– А если тебе что-нибудь понадобится, – продолжала Эленка, – так ты позови… я все время здесь, в той комнате…
И снова поцеловала его.
Потом еще минутку смотрела на хмурое лицо мужа и тихо вышла, притворив за собой дверь.
«И сказал господь бог: нехорошо быть человеку одному…
И образовал из земли всех животных полевых…
И навел господь бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его… и создал господь бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку…»
О, господи, господи!
II. Немного тениКомната Владислава была просторной и светлой, как и полагается мастерской инженера. Помимо неизбежного письменного стола, кресла-качалки и стульев, здесь помещались еще: чертежный стол, небольшой слесарный и столярный станки для изготовления моделей, книги, чертежи, модели и разнообразный инструментарий, предназначенный для того, чтобы возбуждать любопытство у непосвященных. Однако на всех предметах замечались следы запустения. На станках не было видно ни стружек, ни опилок. Мисочки с черной и красной тушью стояли сухие, чертежи пожелтели, а на чертежных досках с начатыми набросками лежал слой пыли.
Владислав перечитывал в «Гидравлике» раздел о турбинах. Когда к нему вошла жена, он как раз с горечью вспоминал о том, что всего неделю тому назад ему предлагали разработать проект турбинной мельницы, а вчера сообщили, что мельницу будет строить другой.
– Стоило трудиться годами, отказывать себе в последнем, – шептал он, зная, что этот получивший предпочтение «другой» – просто набивший на мельницах руку плотник, который составляет свои «чертежи» из щепочек.
С этим неутешительным заключением, он отшвырнул «Гидравлику» и взялся за интегральные вычисления. Взгляд его упал на формулу: Т(1) = Т(2) = 1, и сейчас же ему вспомнилось, что остался у него всего один рубль!
– Я-то прожил бы день-другой и на сухом хлебе, мне не привыкать, но она?..
«Обо мне не думай, мой Владик… Я буду сыта и сухим хлебом, приходилось уж не раз…»
Он оглянулся, но в комнате никого не было. Тут только он вспомнил, что Элюня говорила ему эти слова несколько дней тому назад.
«А уж я с господами заодно; как господа, так и я!» – откликнулось в памяти эхо голосом Матеушовой.
«Великий боже! Какой же я эгоист!» – подумал он, и кровь бросилась ему в лицо.
Но как бы там ни было, а в доме – один рубль на троих!
Он перелистал несколько страниц и остановился на теории вероятности.
– Если у меня сорок дней подряд не было работы, какова доля вероятности, что я получу ее завтра?
– Одна сорок первая, – отвечали формулы.
– Интересно, какова, в таком случае, вероятность, что я стану вором или самоубийцей?
Формулы молчали.
В окно виднелись крыши, покрытые тающим снегом, два-три взъерошенных воробья и полоска неба. Владислав поднял глаза к небу и подумал, что сейчас еще только половина марта, а работу – место чертежника на фабрике с месячным окладом в тридцать рублей за десятичасовой труд – он получит не раньше чем в мае.
Он бросил вычисления и взялся за «Максимы» Эпиктета. Философу-невольнику не раз случалось врачевать наболевшую душу. Владислав раскрыл книжку и стал листать страницу за страницей.
«Отгони от себя желания и опасения, – говорил мудрец, – и ты освободишься от тирана».
«О слепец, о несправедливец! Ты мог бы зависеть от себя одного, а желаешь зависеть от тысячи вещей, чуждых тебе и отдаляющих тебя от истинного добра».
Вдруг Владислав перестал читать и прислушался. В соседней комнате раздавался шепот.
– Пани! – говорила Матеушова, – тут женщина принесла масло.
– Сегодня я не возьму, – отвечала Элюня.
– Ой, и масло же, хозяин как раз такое любит…
– Пусть придет в другой раз.
– Чего там в другой раз, она так скоро не придет! Вот что… Куплю-ка я на свои, а вы мне отдадите. У меня есть тринадцать рублей.
Минутная пауза. У Владислава опустились руки.
– Я вам уже сказала, Матеушова, не надо! – отрезала Элюня.
Служанка удалилась, бормоча что-то про себя.
– У меня есть рубль! – прошептал Владислав.
Но тотчас он вспомнил, что сегодня среда и, значит, завтра к ним придет обедать один бедный студент, брат покойного товарища.
«Не пожелай, чтобы все на свете шло по твоей воле, а пожелай, чтобы все шло, как идет, и будешь неизменно доволен».
Владислав пожал плечами и опустился в качалку. Подобная философия хороша для людей, отдыхающих после вкусного обеда с черным кофе на десерт, или же для тех, в ком всякая способность чувствовать уничтожена страданием.
Растянувшись в качалке и закрыв глаза, как подобает человеку, вознамерившемуся заглянуть в пучину своего духа, он размышлял над тем, сколь мизерны причины, способные породить великую скорбь.
– Завтра, – твердил он, – в доме не будет ни гроша. Будь я один, посмеяться бы над этим, и только, но жена… Ах, ее самоотвержение убьет меня! Сорок дней подряд я просил, я вымаливал работу, как нищий, и мне ее не дали… Инженеров нынче больше, чем сапожников. Уехать – некуда и ни к чему. Умереть?.. О, господи, но кто же останется с ней? Разве что продавать вещи… Но ведь уже послезавтра не будет денег на обед!..
– Владик! Владик! Смотри!.. – крикнула вдруг Эленка, вбегая в комнату.
– Что это?
– Я нашла в твоем жилете пять рублей… Взяла, чтоб починить, и в наружном кармане… Смотри!
Владислав сел в качалке; жена бросилась ему на грудь.
– Видишь, как господь бог милостив?.. Был у нас всего-навсего рубль, ты так огорчался, думаешь, я не видела, и вот – есть деньги! На несколько дней хватит, а потом ты получишь работу.
– Откуда? – спросил муж.
– Ну, откуда я знаю?.. – отвечала жена, ласкаясь. – Просто ты должен получить, и все, ведь эти деньги – последние.
– Дитя!
– Интересно, как они там оказались?
– Вспомнил… Получил сдачу и сунул пятерку в жилетный карман. А потом забыл, решил, что потерялись. С год уже они там лежат.
– Видишь, никогда не надо отчаиваться. Ну, улыбнись же! Вот мило… Даже не скажешь жене спасибо за то, что она чинит ему старые жилеты… Ах ты бука… Мне уже третий день плакать хочется! С любимой женой не разговаривает, на канарейку сердится, сидит себе в углу повесив нос. Ну, проси у жены прощения! Живо! Еще раз!
Владислав чувствовал, как под действием этого щебета, а может быть, и нежданной пятирублевки к нему возвращается спокойствие. Он улыбнулся, припоминая недавнее отчаяние; даже не верилось, чтобы такой пустяк, как мелкая денежная находка, мог укрепить пошатнувшееся равновесие и унять разразившуюся душевную бурю.
– Я сию минуту велю подавать, – говорила Эленка. – На обед у нас окрошка, со сметаной, с гренками и сыром, и еще жареный картофель.
– Я вижу, суп у тебя считается по крайней мере за четыре блюда.
– Нет, нет, для тебя я велела сварить еще яиц.
– А для себя?
– Я не люблю яиц. Впрочем… сейчас мне почему-то захотелось. Пойду скажу Матеушовой, пускай добавит парочку, для меня и для себя.
Ворчунья Матеушова, не долго мешкая, стала подавать на стол, а Владислав снял шаль с клетки. Увидев свет, канарейка затрепыхалась и принялась щебетать. Дружным хором отвечали ей воробьи на улице, частые звуки капели, падавшей с крыш, и веселый смех Эленки.
В этот час, трудно понять отчего, Владиславу пришла на память одна весна. Ему вспомнилось, как давно, в детстве, после сильного дождя он выбежал в сад. Трава, вчера еще блеклая, сегодня сверкала, как смарагд; деревья, вчера покрытые почками, сплошь зеленели молоденькими листьями. На земле стояли лужи, на небе сияла радуга, и в душе ребенка пробудилось чувство, которое он еще не умел назвать.
Все это представилось ему в мельчайших подробностях, и, воодушевленный воспоминанием, он тут же обнял и расцеловал жену, а она, бросив беглый взгляд на занавеску, сквозь нее заметила в окне напротив остроконечный колпак с кисточкой и желтое лицо лукавого старикашки.
Тощий старик смеялся, как бывало, только еще сильнее щурил глаза, но на этот раз Эленка не гневалась на него. Так уж милостью божьей устроен наш мир: молодые мужья радуются пятирублевкам, молодые жены – мужьям, а старички – радости молодых!








