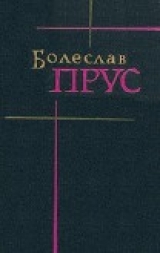
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
Возле сторожевой будки он замялся.
– Ну, что ты? – спросил мастеровой.
– Да я не знаю, пустят ли меня туда, – ответил Михалко.
– Дурень ты! – накинулся на него мастеровой. – Если кто тебя спросит, скажи, что идешь со мной!
«Правда ведь», – подумал парень и удивился, что такой ответ ему самому не пришел в голову.
Потом он дивился купальням и баржам, не тонувшим на воде, несмотря на свою тяжесть, а потом никак не мог поверить, что весь мост был из чистого железа.
«Уж, наверно, тут не без обмана, – рассуждал он про себя. – Столько железа на всем свете не сыщешь!..»
Так они шли, мастеровой и Михалко, один за другим, сперва мостом, потом Новым Зъяздом, потом улицей. Проходя мимо замка, парень снял шапку и перекрестился, приняв его за костел. Возле монастыря бернардинов его едва не задавил омнибус. Перед статуей божьей матери возле богадельни он хотел стать на колени и прочитать молитву. Мастеровой насилу его увел.
На улицах было шумно – мчались вереницы экипажей, люди шли толпами. Одним Михалко уступал дорогу, на других натыкался и бледнел от страха, что его побьют. В конце концов у него так закружилась голова, что он потерял мастерового.
– Где вы?! Где вы?.. – закричал он в отчаянии и пустился бежать по улице.
Кто-то остановил его, прикрикнув:
– Тише ты, собака!.. Здесь орать не дозволено!
– Так ведь мой пан пропал!
– Какой еще пан?
– Мастеровой наш, каменщик.
– Вот так пан!.. Куда же тебе надо?
– Туда, где дом строят.
– Какой дом?
– Да такой… из кирпичей, – ответил парень.
– Вот глупый!.. Так ведь и здесь дом строят… и там, и тут!
– Да я не вижу где…
Его взяли под руку и начали показывать.
– Смотри! Там один дом строят… здесь второй…
– Ага! Ага! – сказал Михалко и пошел ко второму, так как для этого не надо было переходить улицу.
Добравшись до места, он спросил про мастерового. Однако не нашел его тут, и ему указали другой дом. Но и там о мастеровом Настазии никто не слышал – пришлось парню идти дальше.
Таким образом обошел он несколько улиц и осмотрел больше десятка строящихся домов, удивляясь в душе, где же живут те люди, для которых дома строят только теперь?
Постепенно он удалялся от центра города. Тут на улицах было тише, прохожих стало меньше, экипажи почти не появлялись. Зато лесов, сваленного грудами кирпича и красных стен было еще больше.
Михалко уже потерял надежду найти мастерового и начал подумывать о том, не подыскать ли ему самому работу.
Он подошел к первой же стройке, смешался с рабочими и стал смотреть. Время от времени он вставлял в разговор словечко или кому-нибудь помогал. Одному он пособил укладывать кирпичи, другому подал лопатку, а тем, кто замешивал известь, растолковал, как это лучше делать. И тут же стал показывать, причем обрызгал мастера с головы до ног.
– Ты что тут вертишься, собачий сын? – спросил его писарь.
– Работу ищу.
– Нет тут для тебя работы.
– Сейчас нет, так, может, потом найдется. Вам-то ведь не в убыток, если я помогу кому…
Писарь, хитрая бестия, сразу смекнул, что у парня не густо в кармане. Он вынул свою книжицу, карандаш, стал что-то черкать, подсчитывать и в конце концов принял Михалка.
Люди говорили после, что зарабатывал он на парне больше, чем на ком бы то ни было, – по двадцати грошей в день.
На стройке парень пробыл до осени. С голоду не умер, но за ночлег не заплатил и даже сапог себе не купил. Только напился раза два, как свинья, по случаю святого воскресенья. Хотел он однажды побуянить в кабаке, да не успел: выбросили его за дверь.
Дом рос, как на дрожжах. Еще каменщики не кончили флигелей, а фасад уже был подведен под крышу, оштукатурен, остеклен, и даже туда начали вселяться первые жильцы.
В конце сентября пошли дожди. Работу приостановили, и всех чернорабочих уволили. Среди них был и Михалко.
Писарь с неделю на неделю недодавал ему кой-что из заработка, обещая уплатить все сразу. Когда же наступил окончательный расчет, парень, хоть и неграмотный, сообразил все же, что писарь его одурачил. Дал он парню три рубля, а причиталось Михалку рублей пять, а то и шесть.
Михалко взял три рубля и снял шапку, почесывая затылок и переминаясь с ноги на ногу. Но писарь так был занят своей книжицей, что по крайней мере раз десять можно было прочитать молитву господню, прежде чем он заметил парня и строго спросил:
– Ну, чего тебе еще?
– Да вроде причитается мне больше, – смиренно сказал Михалко.
Писарь покраснел. Он двинулся на парня и, навалившись на него грудью, спросил:
– А паспорт у тебя есть?.. Ты что за птица такая?..
У Михалка дух перехватило. Писарь продолжал:
– Ты что же думаешь, хамское отродье, надул я тебя, что ли?..
– Да вот же…
– Тогда пойдем со мною в полицию, я тебе там по всей достоверности докажу, что ты вор и бродяга…
Паспорт и полиция встревожили Михалка. Он только сказал:
– Пускай же вам моя обида пойдет на здоровье!
И пошел со стройки.
Но, видно, и писаря не очень тянуло в полицию, хотя его там и знали. Так все и кончилось одними угрозами…
Очутился парень теперь словно в чистом поле. Прошел он свою улицу, повернул на другую и третью, заходя всюду, где видел красные стены и несколько вбитых в землю столбов. Но работы везде уже кончились или подходили к концу, и, когда он спрашивал, не примут ли его здесь, – никто ему даже не отвечал.
Так он прошатался день и другой, старательно обходя городовых, чтобы не спросили у него паспорт. Кухмистерской с горячей пищей он не нашел и питался только кровяной колбасой, хлебом да селедкой, а запивал все это водкой.
Он истратил уже рубль, так ничего хорошего и не попробовав. Ночевал Михалко под заборами и тосковал по людям: хотелось перемолвиться с кем-нибудь хоть словечком!
Тут пришла ему в голову мысль, что лучше, пожалуй, вернуться домой. Начал парень расспрашивать у прохожих, как пройти к железной дороге. Следуя их указаниям, он наконец добрался до дороги, но не до своей.
Увидел Михалко громадную, многолюдную станцию, вокруг нее со всех сторон высокие дома, а рельсов – ни следа.
Струхнул парень, растерялся, не понимая, что же такое случилось. Наконец какая-то добрая душа растолковала ему, что есть еще три дороги, но – за Вислой.
Теперь он вспомнил, что шел сюда по мосту. Переночевал он в какой-то канаве, а на другой день начал расспрашивать о дороге к мосту. Рассказали ему подробно, где надо идти прямо, где свернуть налево, а где направо. Михалко все запомнил, но как пошел да как стал сворачивать, так и уткнулся прямо в Вислу, а моста через реку не отыскал.
Вернулся парень обратно в город. На беду пошел дождь. Люди прятались под зонтами, а у кого зонта не было – бежали сломя голову. Не посмел Михалко в такую непогоду останавливать прохожих и спрашивать, как ему пройти.
Когда ливень усилился, Михалко встал у стены, зябко ежась в своей мокрой сермяге, и утешался лишь тем, что хоть обмоет дождем его босые ноги.
Так он стоял, посинев от холода, а с длинных волос его за ворот рубахи стекала вода, как вдруг перед ним остановился какой-то господин.
– Что это, нищий? – спросил он у Михалка.
– Нет.
Пройдя несколько шагов, господин снова вернулся с вопросом:
– Но есть тебе хочется?
– Нет.
– И не холодно тебе?
– Нет.
– Ну и осел! – проворчал господин, а потом добавил: – Но гривенник ты бы взял?
– Да уж если бы дали, я бы взял.
Господин дал ему пятиалтынный и отошел, что-то про себя бормоча.
Потом снова остановился, посмотрел на мужика, словно что-то обдумывая, и, наконец, ушел совсем.
Михалко сжимал в кулаке пятиалтынный и с удивлением думал: «Вот ведь какие тут добрые господа, дай боже!..»
Вдруг пришло ему на ум, что такой добрый господин, наверно, показал бы ему дорогу к мосту… Но – было уже поздно.
Наступила ночь, зажгли фонари, а дождь все усиливался. Парень стал искать улицу потемнее. Пошел, повернул раз и другой. Увидел новые каменные дома и вдруг узнал улицу, на которой работал несколько дней назад.
Вот тут кончается мостовая. Тут забор. Там угольный склад, а дальше – его дом. В нескольких окнах горит свет, а в открытые ворота видны неоконченные флигеля.
Михалко вошел во двор. Где-где, но уж здесь ему по праву полагается ночлег. Ведь он этот дом строил.
– Эй, эй! Ты куда? – крикнул вслед ему с лестницы человек, одетый в добротный тулуп: на улице было уже холодно.
Михалко оглянулся.
– Это я, – сказал он. – Иду спать в подвал.
Человек в тулупе разбушевался:
– Что тут, гостиница для нищих, чтобы вы в подвале на ночлег устраивались?
– Так я же тут работал все лето, – смущенно ответил парень.
В сенях показалась обеспокоенная шумом дворничиха.
– Что тут такое?.. Кто это?.. Уж не вор ли?.. – спрашивала она.
– Да нет! Только вот завел, будто строил наш дом, так ему, дескать, тут ночлег полагается… Дурачок, что ли!..
У Михалка заблестели глаза. Он рассмеялся и подбежал к дворнику.
– Так вы из нашей деревни! – закричал он радостно.
– А что? – спросил дворник.
– Да ведь вы зовете меня, как у нас в деревне. Ведь я глупый Михалко!
Дворничиха захохотала, а муж ее только пожал плечами.
– Что глупый ты, это видно, – сказал он. – Но я не из деревни, а из города… Лапы называется! – добавил он таким тоном, что опечаленный парень даже вздохнул.
– Ой-ой! Большой это, верно, город, как Варшава?
– Ну, большой не большой, – ответил дворник, – но все же город порядочный.
Помолчав минутку, он сказал:
– А ты все-таки убирайся: тут спать не дозволено.
У парня опустились руки. Он жалобно посмотрел на дворника и спросил:
– Куда же я пойду в такой ливень?
Меткость этого замечания поразила дворника. И правда, куда же ему идти в такой ливень?
– Эх! – сказал он. – Ну, уж оставайся, раз такой ливень. Только не вздумай ночью воровать. А завтра чуть свет улепетывай, чтобы тебя хозяин не увидел. Он у нас глазастый!
Михалко поблагодарил, пошел во флигель и ощупью залез в знакомый подвал.
Растерев окоченевшие руки, он выжал намокшую сермягу и улегся на груде кирпичной пыли и стружек, которые когда-то сам же сюда натаскал.
Жарко ему не было, напротив – даже скорее холодно и сыро. Но он с детства привык к лишениям и на теперешние неудобства попросту не обращал внимания. Больше его донимала мысль: «Что делать? Искать ли работу в Варшаве или вернуться домой? Если искать работу, то где и какую? А если вернуться домой, то как и зачем?»
Голода он не боялся – у него осталось еще два рубля; и потом – разве голод был ему внове?..
– Ну, воля господня! – прошептал Михалко.
Он перестал тревожиться о завтрашнем дне и наслаждался нынешним. На улице дождь лил как из ведра. Ох, как плохо было бы нынче спать в канаве и как славно тут, в подвале.
И он крепко уснул, как обычно засыпает утомленный крестьянин, которому если что приснится, так он считает, что его посетили души усопших.
А завтра… завтра что бог даст!
С утра прояснилось, проглянуло солнце. Михалко еще раз поблагодарил дворника за ночлег и ушел. Был он вполне бодр, хотя после вчерашнего дождя у него слиплись волосы, а сермяга задубела, как кора.
С минуту Михалко постоял у ворот, соображая, куда б ему пойти: налево или направо? Заметив на углу открытый кабак, он зашел туда позавтракать. Выпил большую стопку водки и, повеселев, побрел в ту сторону, где были видны строительные леса.
«Искать работу? Вернуться домой?..» – раздумывал он.
Вдруг где-то неподалеку раздался гул, похожий на короткий удар грома; потом второй – посильнее.
Парень вгляделся.
Шагах в двухстах, направо от него, высились строительные леса, а над ними поднимался словно красный дым…
Произошло что-то необыкновенное. Любопытство охватило парня. Он побежал туда, спотыкаясь и шлепая по лужам.
По немощеной улице, где стояло лишь несколько домов, метались встревоженные люди. Они кричали и показывали пальцами на недостроенный дом, возле которого лежали доски, исковерканные столбы и только-только свалившиеся обломки. Надо всем этим поднималась туча красной кирпичной пыли.
Михалко подбежал ближе. Отсюда он уже увидел, что случилось: новый, еще не достроенный дом рухнул!
Одна стена рассыпалась сверху донизу, а другая – больше чем наполовину. В проломах торчали оконные рамы, а длинные потолочные балки перекосились, погнулись и треснули вдоль и поперек.
В окнах соседних домов показались лица перепуганных женщин. Но на улице, кроме каменщиков, было всего несколько человек. Весть о происшествии еще не долетела до центра города.
Первым опомнился старший мастер.
– Никто не погиб? – спросил он, весь дрожа.
– Как будто нет. Все завтракали.
Мастер начал считать рабочих, но поминутно ошибался.
– Мастеровые здесь?..
– Здесь!..
– А подсобные?..
– Здесь мы!..
– Енджея нету!.. – отозвался вдруг чей-то голос.
Все на миг онемели.
– Верно, он был внутри!..
– Надо его искать… – хриплым голосом сказал мастер.
И направился к развалившемуся дому, а вслед за ним двинулось несколько смельчаков.
Михалко машинально пошел тоже.
– Енджей!.. Енджей! – звал мастер.
– Отойдите в сторону, – предостерегали его, – стена тут еле держится.
– Енджей!.. Енджей!..
Изнутри дома ответил ему стон.
В одном месте стена раскололась, и в ней зияла широкая, как дверь, щель. Мастер забежал с другой стороны, заглянул – и схватился за голову. Потом, не помня себя, со всех ног помчался в город.
За стеной в муках извивался человек. Балка придавила и раздробила ему обе ноги. Над ним навис обломок стены, которая трещала и с минуты на минуту грозила рухнуть.
Один из плотников начал осматривать опасное место, а оцепеневшие от ужаса каменщики заглядывали ему в глаза, готовые пойти на помощь, если она еще возможна.
Раненый судорожно вывернулся и оперся на обе руки. Это был крестьянин. Губы его почернели от боли, лицо посерело, глаза глубоко запали. Он смотрел на людей, стоявших в нескольких шагах от него, стонал, но не смел звать на помощь и только шептал:
– Боже мой!.. Боже милосердный!..
– Никак не подойти туда, – глухо сказал плотник.
Толпа отхлынула назад.
Между толпой и домом стоял Михалко, перепуганный чуть ли не больше всех.
Непонятное творилось с ним. Он словно чувствовал всю боль раненого, его страх и отчаяние, но одновременно ощущал в себе какую-то силу, толкавшую его вперед…
Казалось ему, что из всей толпы именно он обязан спасти этого человека, который пришел сюда из деревни на заработки. И, когда другие говорили себе: «Сейчас пойду», – Михалко думал: «Не пойду! Не хочу!»
Он робко оглянулся. Он стоял один впереди толпы, ближе всех к стене.
– Не пойду!.. – прошептал он и поднял длинную жердь, лежавшую у его ног.
В толпе зашумели:
– Что это?.. Что он делает?..
– Тише!
– Боже милосердный, смилуйся! – стонал раненый, рыдая от боли.
– Иду! Иду! – крикнул Михалко и подошел к развалинам.
– Оба пропадете! – ужаснулся плотник.
Михалко был уже возле несчастного. Он увидел раздробленные ноги, лужу крови – и у него потемнело в глазах.
– Братец ты мой! Братец! – прошептал раненый и обнял его колени.
Парень поддел жердью балки и отчаянным усилием приподнял ее. Раздался треск, и с высоты второго этажа упало несколько кирпичей.
– Валится! – вскрикнули каменщики, разбегаясь.
Но Михалко не слышал, не думал, не чувствовал ничего. Сильным плечом он снова нажал на жердь – и сдвинул балку с раздавленных ног Енджея. Сверху посыпались куски кирпичей. Красная пыль заклубилась, сгустилась и наполнила все здание. Среди развалин слышалась какая-то возня. Раненый громче застонал и внезапно затих.
Из пролома в стене показался Михалко: он шел согнувшись, с трудом неся раненого. Потихоньку переступив опасную черту, он остановился перед толпой и с наивной радостью закричал:
– Едет!.. Едет!.. Только один сапог у него там остался!..
Каменщики подхватили потерявшего сознание раненого и осторожно понесли в ближайшие ворота.
– Воды!.. – кричали они.
– Уксусу!..
– Доктора!..
Михалко поплелся за ними, думая: «Вот ведь какой хороший народ в Варшаве, дай боже!»
Заметив, что руки у него испачканы кровью, он обмыл их в луже и остановился у ворот, куда внесли раненого. Внутрь Михалко не пробовал протолкаться. Доктор он, что ли? Разве может он ему помочь?
Тем временем на улице становилось все людней. Бежали любопытные, мчались пролетки, а вдали уже звенели колокольчики пожарной команды, которую кто-то успел вызвать.
Новая толпа, толпа зевак, жадных до впечатлений, собралась у ворот, и кто погорячее – кулаками прокладывали себе дорогу, чтобы увидеть кровавое происшествие.
Одному из них загораживал путь стоявший у ворот Михалко.
– Отойди ты, разиня! – крикнул господин, пытаясь оттолкнуть этою босого мужика.
– А что? – спросил удивленный его яростью Михалко.
– А ты кто такой, нахал этакий! – заорал любопытный. – Да что же это, где полиция? Даже разогнать некому этих бездельников!..
«Полиция? Ох, не к добру это!» – решил Михалко, испугавшись, как бы его за такой проступок не засадили в каталажку.
И, чтоб не накликать беды, Михалко протискался сквозь толпу…
Несколько минут спустя из ворот позвали того, кто вынес погибавшею из-под развалин.
Никто не откликнулся.
– Какой он с виду? – спрашивали в толпе.
– Мужик. В белой сермяге, в круглой шапке и босой…
– Эй, нет там такого на улице?
Начали разыскивать.
– Был тут такой, – крикнул кто-то, – да уже ушел!
Бросилась на поиски полиция, рассыпались по улицам каменщики, но так и не нашли Михалка.
― ВОЗВРАТНАЯ ВОЛНА ―{11}
IЕсли бы благородство пастора Бёме имело три обычных геометрических измерения и соответствующий им вес, сему преподобному мужу пришлось бы свои пастырские и приватные путешествия совершать товарным поездом. Но благородство, являясь свойством духовной субстанции, имеет лишь одно измерение – четвертое, над ним ломают головы математики, а в реальной жизни оно веса не имеет, поэтому пастор Бёме мог спокойно путешествовать в маленькой бричке, запряженной одной лошадью.
Сытая, холеная лошадь бежала мелкой рысцой по гладкому фабричному шоссе; казалось, ее больше интересовали мухи, от которых она отмахивалась, чем добродетели, заключавшиеся в тощем теле духовного пастыря. Толстый хомут, оглобли, летний зной и дорожная пыль, очевидно, сильней занимали воображение животного, чем преподобный Бёме, его маленькие бачки, шляпа-панама, белый в розовую полоску перкалевый плащ и даже полированный кнут, заткнутый с правой стороны сидения. Кнут этот пастор не оставил дома только из опасения показаться смешным, но в пути им не пользовался. Правда, он и не мог им пользоваться, так как в одной руке, чтобы лошадь не спотыкалась, держал вожжи, а другой посылал идущие от души, но слабо действующие благословения всем проезжим и прохожим, которые, без различия вероисповедания, снимали шапки, кланяясь «честному швабу».
Сейчас (в июньский день, в пять часов пополудни) его преподобию предстояло выполнить не слишком христианскую миссию, а именно: сперва огорчить ближнего, а потом утешить его. Он ехал сообщить своему другу Готлибу Адлеру, что единственный его сын Фердинанд Адлер, пребывающий за границей, наделал долгов. Известив его об этом, он собирался затем успокоить его и вымолить прощение легкомысленному юноше.
Готлиб Адлер – владелец фабрики хлопчатобумажных тканей. Фабрику его соединяет с железнодорожной станцией шоссе; оно, правда, не обсажено деревьями, но содержится в чистоте. То, что виднеется слева от шоссе, за небольшой рощей, это еще не фабрика, а местечко. Фабрика находится справа. Среди кленов, лип и тополей мелькают черные и красные крыши нескольких десятков рабочих домиков, а за ними высится пятиэтажное здание, расположенное покоем и окруженное другими постройками. Это и есть фабрика. В длинные ряды окон смотрится солнце, заливая их золотом. Высокая темно-красная труба извергает черные клубы густого дыма. Если б ветер подул с той стороны, пастор услышал бы гул паровых машин и шум ткацких станков. Но ветер дует с другой стороны, поэтому слышится только свист далекого паровоза, тарахтенье брички Бёме, фырканье его лошади и пение птички – должно быть, перепелки, утопающей в зеленых хлебах.
Возле самой фабрики много деревьев, больше чем где-либо в другом месте. Это сад Адлера; сквозь зелень кое-где проглядывают белыми лоскутами стены красивого особняка и хозяйственных построек.
Пастору в конце концов надоело все время следить за тем, чтобы разжиревшая лошадь не споткнулась. Уповая на милосердие того, кто извлек Даниила из львиного рва и Иону из чрева кита, его преподобие привязал вожжи к козлам и сложил руки, как для молитвы. Бёме любил помечтать, но предавался этому занятию лишь тогда, когда мог вращать большими пальцами обеих рук, наподобие мельничных крыльев, что он и сделал сейчас. Это коловращение открывало перед ним волшебные врата в страну воспоминаний.
И вот вспомнилось ему (должно быть, в сороковой раз в этом году и на том же месте), что фабрика Адлера и все, что ее окружает, очень напоминает другую фабрику – в далекой бранденбургской равнине, где он, пастор Мартин Бёме, и друг его, Готлиб Адлер, провели свои детские годы. Оба они были сыновьями ткацких мастеров среднего достатка, родились в одном и том же году и посещали одну и ту же начальную школу. Затем они расстались на целую четверть века; за это время Бёме окончил богословский факультет в Тюбингене, а Адлер скопил несколько тысяч талеров.
Потом они снова встретились далеко от родины, на польской земле, где Бёме был пастором протестантского прихода, а Адлер основал небольшую ткацкую фабрику.
С тех пор, вторую четверть века, они уже не разлучались и навещали друг друга по два-три раза в неделю. Небольшая фабрика Адлера стала за это время огромной, сейчас на ней работало шестьсот рабочих, и она ежегодно приносила владельцу десятки тысяч рублей чистой прибыли. А Бёме так и остался тем, кем был: небогатым пастором. Однако сокровища человеческой души тоже приносят проценты, поэтому и у пастора были доходы, исчислявшиеся десятками тысяч… благословений.
Были между друзьями и еще кое-какие различия.
Сын пастора недавно окончил рижский политехникум и мечтал обеспечить себе, родителям и сестре кусок хлеба в будущем, а единственный сын Адлера гимназии не окончил, путешествовал за границей и мечтал о том, как бы вытянуть побольше денег из отцовской кассы. Пастор беспокоился о том, удачно ли выйдет замуж его восемнадцатилетняя Аннета. Адлера беспокоило, что в конце концов выйдет из его сына. Пастору, в общем, хватало его скромного достатка и нескольких десятков тысяч благословений в год; Адлеру же было мало нескольких десятков тысяч годового дохода, а капитал, помещенный в банк, слишком медленно приближался к желанной цифре – миллиону рублей.
Но сейчас Бёме не думал об этом. Он был рад, что видит вокруг зеленые хлеба, а вверху небо с разбросанными по нему белыми и серыми облаками и что общий вид фабрики Адлера напоминает ему местность, где он провел детство. Такие же одноэтажные дома тянулись двумя рядами, так же расположено покоем здание фабрики, такой же дом ее владельца и пруд в саду…
Жаль, что нет здесь приюта для маленьких детей, школы для подростков, богадельни для стариков, больницы… Жаль, что Адлер не подумал об этом, хотя фабрику свою он строил по образцу бранденбургской. Следовало основать хотя бы школу. А ведь не будь школы там… ни он бы не стал пастором, ни Адлер – миллионером!
Бричка подъехала так близко, что шум фабрики вывел пастора из задумчивости. Ватага грязных, полуоборванных детей играла у дороги за оградой; в фабричном дворе стояло несколько подвод, на которые укладывали тюки тканей. Налево открылся взору во всей своей красе особняк Адлера, построенный в итальянском стиле. Еще несколько шагов, и вот из-за дерева показалась стоящая у пруда беседка; здесь фабрикант и его друг обычно пили рейнское вино, беседуя о старых временах и о своих делах.
Кое-где из открытых окон рабочих домов свешиваются лохмотья выстиранного белья. Почти все обитатели этих жилищ стоят сейчас у станков, и только несколько бледных женщин с впалой грудью приветствуют пастора:
– Слава Иисусу Христу!
– Во веки веков!.. – отвечает тщедушный старичок, приподнимая свою много лет прослужившую панаму.
Но тут бричка свернула влево, лошадь весело замотала головой и рысью влетела во двор. Тотчас явился конюх, вытер нос рукавом и помог его преподобию сойти.
– Дома хозяин? – спросил Бёме.
– На фабрике. Сейчас доложу, что ваша милость пожаловали.
Пастор поднялся на крыльцо, где уже ждал лакей, чтобы снять с него дорожный плащ. Теперь все могли увидеть длинный сюртук духовной особы и короткие ноги, по сравнению с которыми нос, украшавший увядшее доброе лицо, казался великоватым. Его преподобие снова сложил руки на животе и завертел двумя пальцами. Он вспомнил, что приехал сюда, чтобы сперва нанести рану отцовскому сердцу, а потом исцелить его по заранее обдуманному плану, делившемуся согласно правилам риторики на три части. Первая, подготовительная, должна была коснуться в общих чертах неисповедимых путей господних, ведущих человека по терниям житейским к вечному счастью. Во второй надлежало сказать, что юный Фердинанд Адлер не может вернуться из-за границы в лоно семьи до тех пор, пока не будут удовлетворены его кредиторы на такую-то сумму. (Здесь должен произойти взрыв отцовского гнева и перечисление Адлером всех проступков, совершенных его сыном.) Но в ту минуту, когда разгневанный фабрикант хлопчатобумажных тканей захочет отречься от недостойного сына, лишить его наследства и проклясть, последует третья часть пасторской миссии – примирительная. Бёме хотел напомнить историю блудного сына, намекнуть, что друг его плохо воспитал своего наследника и что грех этот он должен безропотно искупить перед господом богом, вручив кредиторам Фердинанда требуемую ими сумму.
В то время как Бёме восстанавливал в памяти план своих действий, на дороге, ведущей к особняку, показался старик Адлер. Это был человек гигантского роста, сутуловатый, неуклюжий, с огромными ногами, одетый в длинный серый сюртук старомодного покроя и такие же брюки. На его красном лице выделялся большой круглый нос и толстые губы, выпяченные, как у негра. Усы он брил, оставляя только жидкие светлые бакенбарды. Когда он снял шляпу, чтобы отереть пот, стали видны его выпуклые светло-голубые глаза, лишенные бровей, и коротко остриженные льняные волосы.
Миллионер приближался тяжелым, размеренным шагом, раскачиваясь на мощных ногах, словно кавалерист. Когда он не утирал потного лица или красной шеи, его опущенные большие руки с короткими пальцами оттопыривались, образуя две дуги, похожие на ребра допотопного животного. Широкая грудь его заметно поднималась и опускалась, дыша, как кузнечный мех. Еще издали он приветствовал пастора флегматичным кивком головы, широко разевая при этом рот и крича хриплым басом: «Ха-ха-ха!» – но не улыбаясь. Да и трудно было представить себе, как бы выглядела улыбка на этом мясистом и апатичном лице, на котором, казалось, безраздельно господствовали суровость и тупость.
И вместе с тем эта грубо вытесанная природой личность была скорее странной, чем отвратительной. Не страх он возбуждал, а чувство беспомощности против его силы. Казалось, в его неуклюжих руках полосы железа должны гнуться с таким же жалобным скрипом, с каким гнется пол фабричных зал под его ногами. С первого же взгляда было видно, что смягчить сердце этого тарана в человеческом образе невозможно, но если бы кто-нибудь ранил его сердце, вся эта махина рухнула бы, как здание, вдруг лишившееся фундамента.
– Как поживаешь, Мартин? – крикнул Адлер с первой ступеньки лестницы и, схватив руку пастора, тряхнул ее сильно и неловко. – Постой-ка! Ты ведь был вчера в Варшаве, – продолжал он, – не слыхал ли чего-нибудь о моем мальчике? Этот полоумный пишет так редко, что только банк знает, где его носит!..
Рядом с Адлером поднявшийся на крыльцо тщедушный Бёме выглядел, говоря словами библии, как саранча рядом с верблюдом.
– Ну, да рассказывай же, – повторил Адлер, усаживаясь на затрещавшую под ним железную скамейку. Зычный голос его удивительно гармонировал с мерным гулом фабрики, напоминавшим отдаленные раскаты грома.
– Разве Фердинанд ничего не писал в банк?
Бёме невольно сразу же был вовлечен в разговор, по поводу которого приехал. Он сел на скамейку против Адлера и с удивительным самообладанием стал припоминать начало первой части своей речи: о неисповедимых путях…
У пастора был один недостаток: он не умел плавно говорить без очков, которые всегда засовывал в самые неподходящие места. Бёме чувствовал, что пора приступить к предисловию, но как начать без очков?.. Он откашлялся, поднялся со скамейки, повертелся туда-сюда – очков нет!
Он полез в левый карман брюк, потом в правый… очков нет!.. Не оставил ли он их дома?.. Какое! Он ведь держал их в руках, усаживаясь в бричку… Бёме сунул руку в задний карман сюртука – нет… в другой – тоже нет! Бедный пастор совершенно забыл первые фразы вступительной части.
Адлер, знавший своего друга, как собственные пять пальцев, забеспокоился:
– Чего ты так суетишься? – спросил он.
– Да вот беда… Очки куда-то засунул…
– Зачем тебе очки? Ты ведь не собираешься читать мне проповедь.
– Да, видишь ли…
– Я спрашиваю тебя о Фердинанде, нет ли от него вестей?..
– Сейчас я отвечу тебе!.. – проговорил Бёме, поморщившись.
Он ощупал боковой карман, но и там очков не нашел. Расстегнул сюртук и из внутреннего кармана вытащил какой-то листок бумаги и большой бумажник, потом вывернул карман, но и там не оказалось очков.
«Неужели я оставил их в бричке?» – подумал он и хотел было сойти с крыльца.
Но Адлер, знавший, что Бёме прячет во внутренние карманы только важные документы, вырвал у него из рук бумагу.
– Готлиб, милый, – смущенно сказал пастор, – отдай мне это, я сам прочитаю тебе, только… я должен раньше найти очки… Куда они могли деваться?
Он побежал вниз, направляясь к конюшне.
– Пожалуйста, подожди, пока я вернусь; прежде всего нужно выяснить, где очки. – И он ушел, потирая обеими руками седую голову.
Несколько минут спустя Бёме вернулся из конюшни совершенно удрученный.
– Должно быть, они потерялись, – бормотал он. – Но я помню, что, садясь в бричку, я в одной руке держал платок, а в другой – кнут и очки…
Раздосадованный пастор опустился на скамейку и мельком взглянул на Адлера.
У старого фабриканта вздулись жилы на лбу, а глаза выкатились еще больше, чем обычно. Он с напряженным вниманием читал записку, а когда кончил наконец, плюнул в гневе на крыльцо.
– Ох, и шельма же этот Фердинанд! – проворчал он. – За два года он сделал долгов на пятьдесят восемь тысяч тридцать один рубль, хотя я посылал ему по десять тысяч в год.
– Знаю!.. Знаю!.. – вскрикнул вдруг пастор и побежал в переднюю.








