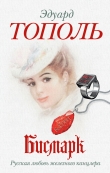Текст книги "История Германии. Том 2. От создания Германской империи до начала XXI века"
Автор книги: Бернд Бонвеч
Соавторы: Юрий Галактионов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 56 страниц)
2. ГДР в 1970-1980-е гг.: «эра Хонеккера»
Социально-экономическая политикаОтставка Ульбрихта и избрание первым секретарем ЦК СЕПГ Эриха Хонеккера означали не только кадровую перестановку в руководстве, но и определенное изменение курса социально-экономической политики. На VIII съезде СЕПГ в июне 1971 г. важнейшей задачей было названо «повышение материального и культурного уровня жизни народа», при этом необходимость коренной модернизации экономики оставалась на втором плане. Хонеккер в большей степени, чем Ульбрихт, ориентировался на советскую модель экономического развития. Кроме того, усиление внимания к повседневной жизни – повышение зарплат, пенсий и других выплат, улучшение снабжения населения товарами и услугами, строительство жилья, расширение возможностей для досуга – было средством укрепления позиций СЕПГ и личного авторитета нового лидера.
Одновременно правящая партия стремилась с помощью социально-экономических, а также идеологических инструментов укрепить и расширить политику «отмежевания» от ФРГ. Актуальность этой задачи существенно возросла в связи с заключением договоров между ГДР и ФРГ, которые породили в обществе определенные надежды на сближение двух государств. В то время как ФРГ с помощью этих договоров рассчитывала на некоторую либерализацию режима в ГДР, в частности на облегчение контактов граждан в разделенной Германии, СЕПГ использовала эти договоры для стабилизации системы, неизменно подчеркивая, что ГДР является «социалистической альтернативой ФРГ».
Новый курс преподносился как обновление политики, при этом проявилось определенное дистанцирование от линии прежнего руководства, считавшего приоритетом экономические реформы. Ульбрихт был постепенно лишен всех постов и отправлен в политическое небытие. В глазах общества, прежде всего интеллигенции, а также молодого поколения, Хонеккер выглядел менее догматичным, с новым лидером связывались надежды на благоприятные перемены.
Социальная политика была существенно активизирована. Повышение пенсий и других выплат охватило около 3,5 млн человек; специальные программы предусматривали помощь молодым семьям, многодетным, а также работающим женщинам с детьми. Программа жилищного строительства предполагала полное решение проблемы с жильем к 1990 г. за счет государственного строительства и предоставления беспроцентных кредитов. Были увеличены ассигнования на медицинское обслуживание, а также развитие физкультуры и спорта.
Необходимые для этих программ финансовые средства предполагалось изыскать за счет внутренних ресурсов и внешних кредитов. В целях расширения контроля государства над хозяйственной деятельностью в 1972 г. была проведена последняя крупная национализация: около 11,5 тыс. средних и мелких предприятии частной и смешанной собственности были переведены в полную собственность государства. Включение этих предприятий в народные комбинаты обернулось ухудшением снабжения населения необходимыми товарами.
С середины 1970-х гг. экономическая ситуация в ГДР начала существенно ухудшаться. Увеличение расходов на социальную сферу, в частности дорогостоящую жилищную программу, снизило объем инвестиций в развитие производства и обновление устаревшего оборудования, износ которого составлял 50 % в промышленности и 65 % в сельском хозяйстве. Концепция руководства ГДР предусматривала повышение экономического роста за счет интенсификации производства, увеличения доходов от экспорта, а также западных кредитов. На практике предлагаемые меры не давали ожидаемых результатов. Все более заметным становилось технологическое отставание; уровень производительности труда составлял от одной трети до половины западногерманского. Получаемые на Западе кредиты использовались большей частью не на инвестиции или покупку новых технологий, а на импорт сырья, продовольствия и ширпотреба для населения. В условиях углубления НТР заметным стало качественное отставание, экономика по-прежнему развивалась по экстенсивному пути. Это было характерно для всех стран советского блока и стало одной из причин краха планового социалистического хозяйства.
Растущие экономические проблемы и снижение темпов экономического развития в странах СЭВ сузили их импортные возможности, в том числе для товаров ГДР, для которой они были основным рынком сбыта. Внешний долг стал быстро расти и составил в 1981 г. более 10 млрд долларов; для погашения задолженности нужны были новые кредиты. В 1983-1984 гг. под гарантии правительства ФРГ было получено в общей сложности 1,95 млрд марок. Этот кредит на время смягчил, но принципиально не изменил ситуацию. ГДР остро нуждалась в валюте, однако надежды на увеличение экспорта в капиталистические страны не оправдались из-за низкой конкурентоспособности ее товаров.
Руководство ГДР использовало различные пути получения валюты: доходы от транзитных перевозок товаров ФРГ, выделенные правительством Федеративной республики средства на ремонт и модернизацию путей сообщения между ФРГ и Западным Берлином, обязательный обмен валюты при посещении ГДР западными немцами. Кроме легальных возможностей, использовались продажа за границу антиквариата и произведений искусства, создание подставных фирм за рубежом, продажа оружия. За 1966-1988 гг. таким образом удалось заработать около 25 млрд марок. Еще одним источником валюты стала «продажа» в ФРГ политзаключенных, их «цена» была дифференцирована в зависимости от уровня образования и квалификации. В период 1970-1989 гг. около 30 тыс. человек таким образом смогли получить свободу и выехать из ГДР, за них было получено 3,2 млрд западногерманских марок, частично в форме поставок товаров из ФРГ.
Несмотря на все принимаемые меры, задолженность ГДР продолжала расти, сумма внешнего долга в 1980-е гг. колебалась в пределах 15-25 млрд западногерманских марок. Ухудшение финансово-экономической ситуации затормозило рост уровня жизни, в частности, поставило под вопрос реализацию жилищной программы, которую СЕПГ называла «ядром социальной политики». Осложнилась экологическая обстановка: во многих районах уровень загрязнения воздуха намного превышал допустимые нормы, треть рек была экологически мертва.
Однако ГДР оставалась «витриной социализма». Важнейшими факторами при этом служили, во-первых, помощь СССР и других стран советского блока форпосту ОВД на стыке двух систем. Во-вторых, важным стимулом было экономическое соревнование с ФРГ. По уровню жизни ГДР выгодно отличалась от других стран советского блока. Однако это благополучие становилось все более относительным, особенно в сравнении с ФРГ. Надо иметь в виду, что фактор сравнения с ФРГ был существенным и во многом влиял на политику СЕПГ. Социальные гарантии становились главным мерилом идентификации граждан ГДР с режимом. Одновременно социальная защищенность играла важную роль в повседневной жизни, способствовала распространению в обществе конформистских настроений.
Общественно-политическая ситуация: от стабильности к кризису«Режим СЕПГ» в первой половине 1970-х гг. Под руководством Хонеккера СЕПГ существенно укрепила свои ряды путем усиления идейно-политического воспитания кадров и повышения требований к партийной дисциплине, учитывая уроки «Пражской весны» 1968 г. и распространение идей «еврокоммунизма» в ряде западноевропейских компартий. При этом в кадровой политике усилилось недоверие к интеллигенции, ее представителям вступление в СЕПГ было затруднено. Существенно укрепилась и расширилась служба госбезопасности – «щит и меч» режима СЕПГ. Для усиления «превентивной» деятельности была увеличена численность неофициальных сотрудников штази: с середины 1970-х на каждые 100 человек населения ГДР приходился 1 неофициальный сотрудник министерства госбезопасности. Всего в 1989 г. на службе в МГБ состояли 91 тыс. официальных и 173 тыс. неофициальных сотрудников. О повышении роли штази свидетельствовало избрание главы министерства госбезопасности Эриха Мильке членом политбюро.
Важным инструментом режима СЕПГ было «социалистическое воспитание», в первую очередь это касалось подрастающего поколения. В детском саду, затем в рядах пионерской организации и Союза свободной немецкой молодежи насаждалась официальная идеология. Общественно-политические взгляды, наряду с социальным происхождением, стали главными критериями при переходе на расширенную ступень обучения в школе, которая открывала доступ в вуз. В то же время политика по отношению к молодежи была достаточно гибкой с целью обеспечить доверие и поддержку новых поколений существующему режиму. СЕПГ в 1970-1980-е гг. отказалась от запретов джаз– и рок-музыки как «идеологической диверсии». Большое внимание уделялось проведению массовых развлекательных мероприятий для молодежи, а также развитию спорта, действовали многочисленные кружки и клубы по интересам. Была создана сеть магазинов с молодежной одеждой.
Заключение договоров с ФРГ обусловило усиление идейно-пропагандистской деятельности СЕПГ в целях укрепления «идентичности ГДР» на основе теории о «двух нациях», призванной стать противовесом позиции правительства СДПГ – СвДП о «двух государствах, одной нации». В новой редакции конституции 1974 г. говорилось не о «немецкой», а о «социалистической нации». Из названий органов, институтов, организаций было изъято слово «германский», и даже гимн ГДР, текст которого содержал строки «Германия, единое отечество», исполнялся без слов. Политическое образование и воспитание в разных формах – от регулярных политинформаций в трудовых коллективах до массовых мероприятий по случаю государственных праздников – охватывали широкие слои населения.
Благодаря использованию различных инструментов, от социальной политики до пропаганды и контроля, Хонеккер в середине 1970-х гг. достиг вершины своей власти. Подписанием от имени ГДР Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки в 1975 г. он приобрел международный авторитет. IX съезд СЕПГ в 1976 г. провозгласил Хонеккера генеральным секретарем партии, вскоре он стал также председателем Государственного совета ГДР и председателем Национального совета обороны. Партийно-государственная и хозяйственная номенклатура переживала расцвет своих привилегий.
Влияние разрядки международной напряженности на ситуацию в ГДР
С середины 1970-х гг. настроения в обществе начинают меняться, поскольку повседневная жизнь заметно отличалась от заявлений официальной пропаганды. Это касалось и реального повышения уровня жизни, но в большей степени было связано с состоянием прав человека в ГДР. Толчком к этому стало подписание в Хельсинки Заключительного акта, и его публикация в центральном органе СЕПГ газете «Нойес Дойчланд». Особое внимание общественности было привлечено к так называемой «третьей корзине» – разделу, посвященному правам человека. Было очевидно, что ряд основных свобод (слова, вероисповедания, выезда из страны) нарушаются. Подписанием одного из основополагающих международно-правовых документов (а также в духе договоров с ФРГ) власти ГДР были вынуждены «приоткрыть» возможность выезда. В 1975 г. было выдано 13 тыс. разрешений, в 1976 г. – уже 20 тыс., однако число подавших заявление о переселении в ФРГ было намного больше.
Разрешение на посещение родственников или переселение получали в основном пенсионеры, власть пыталась препятствовать выезду лиц трудоспособного возраста и не создавать угрозу для экономики, как это было в 1950-е гг. Переселение и даже временное посещение ФРГ стали серьезными дестабилизирующими факторами для режима СЕПГ. В 1972 г. более 1 млн восточных немцев посетили ФРГ и Западный Берлин, в 1987 г. – более 5 млн. Впечатления от поездок, сравнение условий жизни в ФРГ и ГДР подрывали доверие к официальной пропаганде, порождали скептические настроения.
Выдача разрешений на выезд сопровождалась мерами по укреплению границ ГДР с ФРГ и Западным Берлином. В 1982 г. был принят новый закон, ужесточивший наказание за незаконное пересечение границы. Общее число погибших со стороны ГДР жителей при попытке пересечения германо-германской границы составило около 900 человек.
Непростыми оставались отношения СЕПГ с церковью. Свобода вероисповедания в ГДР была ограничена не только господством официальной идеологии, но и тем, что верующие сталкивались с различными ограничениями, например в профессиональной карьере.
В условиях обострения международной ситуации в конце 1970-х – начале 1980-х гг. ГДР, находившаяся на стыке НАТО и Варшавского договора, оказалась в особенно уязвимом положении. Церковные круги с тревогой реагировали на возросшую угрозу миру и обращали на нее внимание общественности. Руководство церкви разработало программу мероприятий «Воспитание для мира», в которых приняли участие десятки тысяч человек, прежде всего молодых людей.
Церковь была в ГДР единственным несоциалистическим общественным институтом, свободным от идеологического контроля СЕПГ. Церковь предоставляла помещения для собраний, печатную технику для издания воззваний о мире, листовок экологического содержания. Она играла, по существу, роль «оппозиционной партии» в условиях идеологической монополии СЕПГ.
Оппозиционные группы были малочисленны и разрознены; организованного оппозиционного движения, подобного «Хартии-77» в Чехословакии или «Солидарности» в Польше, в ГДР до осени 1989 г. не существовало. Диссиденты не выступали с радикальных позиций; многие из них оставались в рамках коммунистической идеологии и говорили о демократических реформах социализма, а СЕПГ предпочитала выпускать диссидентов на Запад, не прибегая к массовым репрессиям.
Основной формой оппозиции оставался выезд из ГДР на Запад. Число подавших заявление на выезд в ФРГ за 1980-1989 гг. увеличилось в шесть раз, в 1984-1988 гг. ежегодно подавали заявления около 40 тыс. человек. Главными мотивами при этом были отсутствие личной свободы и права выбора, а также неудовлетворенность материальными условиями жизни. В то же время основная часть населения была настроена конформистки и приспособилась к существующей системе. ГДР была в определенном смысле «обществом ниш», в котором граждане искали возможность в повседневной жизни избегать прямого контроля и регламентации со стороны режима, оставаясь при этом пассивно лояльными. СЕПГ всеми средствами пыталась поддерживать общественный консенсус, пусть даже формальный.
Последнее десятилетие ГДР
Несмотря на рост внутренних проблем, руководство СЕПГ не сомневалось в прочности системы. Численность партии достигла 2,3 млн человек, из них около полумиллиона составляла кадровая номенклатура. Членство в СЕПГ обеспечивало возможность карьерного роста в любой профессии. Содержание и формы идейно-пропагандистской деятельности СЕПГ в 1980-е гг., по существу, не изменились, несмотря на появление новых общественных тенденций внутри страны и за ее пределами. На съездах СЕПГ, заседаниях политбюро, в официальных выступлениях руководителей неизменно подчеркивалось продолжение линии на укрепление социализма и курса на строительство коммунизма, руководствуясь примером СССР. Состав политбюро оставался практически неизменным, при этом большинство его членов были старше 60 лет. «Блоковые» партии, объединенные в Национальный фронт ГДР под руководством СЕПГ, выражали поддержку официальной линии. С помощью СМИ создавался культ личности Хонеккера. Официальная пропаганда преподносила радужные картины стабильности и благополучия в обществе.
В то же время в идеологической тактике СЕПГ появились новые нюансы. К этому подталкивали, прежде всего, ухудшение экономической ситуации и рост задолженности, которые увеличивали потребность в новых западных кредитах. К политике «отчуждения» по отношению к ФРГ добавились элементы некоторого сближения, примером этого стал официальный визит Хонеккера в ФРГ в 1987 г. Новые подходы проявились в отношении к истории Германии. Вместо прежнего постулата о «радикальном разрыве с реакционным прошлым» стал использоваться более гибкий подход, при котором на основе селективного метода отбирались «прогрессивные», с точки зрения СЕПГ, события и деятели немецкой истории: Лютер, Бисмарк, Фридрих II. В то же время, оценка периода национал-социализма, его истоков и последствий, по-прежнему основывалась на классовом подходе и тезисе об «априорном антифашизме» ГДР. Признавая общие исторические корни, официальная идеология продолжала называть ГДР альтернативой ФРГ.
Избрание в 1985 г. новым советским лидером М. С. Горбачева и им структурных реформ социализма – «гласности» и «перестройки» – серьезно повлияли на ситуацию в ГДР. Отказ от «доктрины Брежнева», ограничивавшей суверенитет социалистических стран, давал тем возможность самим определять путь дальнейшего развития. Это означало, что внешних гарантий существования ГДР в лице СССР больше не существовало, и что ответственность за ситуацию в стране полностью ложилась на руководство СЕПГ. Хонеккер весьма негативно оценивал «перестройку» и был уверен в том, что политику Горбачева ждет скорый конец.
На заседаниях ЦК СЕПГ Хонеккер впервые заговорил о «специфике социализма в ГДР», который не нуждается в реформах. В качестве аргумента он использовал утверждение, что экономика ГДР работает лучше, чем советская, а уровень жизни выше, чем в других социалистических странах. Позиция Хонеккера и руководства СЕПГ в целом была воспринята в обществе как отказ от реформ, что резко контрастировало с политикой перемен и общественных изменений в соседних Польше, Венгрии, а также в СССР. По сравнению с реформатором Горбачевым, к которому в ГДР было восторженное отношение, Хонеккер представал как ретроград. В самой СЕПГ была определенная растерянность, поскольку Хонеккер не желал признавать очевидное. Среди населения нарастали скептические, и даже оппозиционные настроения.
Лавинообразно росло число желающих выехать из ГДР. К лету 1989 г. около 125 тыс. человек ожидали разрешения на выезд, большинством из них были молодые, хорошо образованные люди. Официальная пропаганда оценивала массовое стремление к выезду как «провокацию со стороны Запада, направленную против социализма». В январе 1989 г. Хонеккер заявил о том, что «Берлинская стена останется еще в течение 50 или даже 100 лет, до тех пор, пока не будут устранены причины ее появления», имея в виду несовместимость политических систем Востока и Запада. Осознание того, что от руководства ГДР бесполезно ожидать реформ, привело народ к радикальным способам действий. Тысячи восточных немцев летом 1989 г. осаждали посольства ФРГ в соседних Чехословакии и Венгрии, где компартии уже были отстранены от власти, пытаясь получить политическое убежище и выехать на Запад. Массовое бегство из страны, остановить которое СЕПГ не могла, дискредитировало ГДР в международном масштабе, стало наглядным доказательством застоя системы и одной из причин ее краха.
К внутренним предпосылкам крушения режима СЕПГ относилось также кризисное состояние финансово-экономической системы, которая не выдерживала бремени внешнего долга. Под вопросом оказалась платежеспособность ГДР. Этим ставились под угрозу реальные социальные гарантии – поЛная занятость, бесплатные образование и медицинское обслуживание, обеспечение жильем, пенсии, которые играли существенную роль в повседневной жизни и были важным аргументом в «историческом соревновании» с ФРГ.
Режим СЕПГ оказался не в состоянии реагировать на изменения общественных условий, показал неспособность к модернизации, которая стала объективной мировой тенденцией. По сравнению с другими странами Восточной Европы, захваченными процессом либерализации, ГДР оставалась оплотом доказавшего свою несостоятельность «реального социализма». Важную роль сыграли и другие внешнеполитические факторы, в частности влияние интернациональной культуры, новых идей и форм в развитии цивилизации, от которых было невозможно отгородиться в условиях современных СМИ и информационных технологий.
Демократическая революция в ГДР: от протеста к свободным выборамКризис «режима СЕПГ». Массовый выезд из ГДР летом 1989 г. стал катализатором движения протеста. В Лейпциге каждый понедельник стали проходить массовые демонстрации с участием нескольких тысяч, а затем десятков тысяч человек. Эти «демонстрации по понедельникам» стали продолжением традиции коллективных молитв о мире, проводимых с начала 1980-х в церкви св. Николая группой участников пацифистского движения. Антивоенные лозунги все больше дополнялись политическими, прежде всего требованиями свободы выезда. Органы госбезопасности, оказавшись не в состоянии предотвратить проведение демонстраций, пытались разгонять их с помощью силы, проводили массовые аресты, но это только еще больше накаляло обстановку.
В сентябре 1989 г. представители около 30 различных оппозиционных групп объявили о создании «Нового форума» – общественной организации для «демократического диалога». Министерство госбезопасности отказало ему в регистрации, усмотрев опасность «антигосударственной деятельности». Призыв «Нового форума» к дискуссиям о жизненно важных общественных проблемах за короткое время подписали более 200 тыс. человек. В течение нескольких недель образовались и другие общественно-политические движения и партии: «Демократия сейчас», «Демократический прорыв», Социал-демократическая партия, «Зеленая партия», Независимый союз женщин и др. Их создание символизировало начало общественных перемен и одновременно нарушило политическую монополию СЕПГ.
Внутриполитическая ситуация обострилась в связи с празднованием 40-летия ГДР, которое по решению СЕПГ проводилось с большим размахом. К нему велась тщательная подготовка, органы госбезопасности, народная полиция и части Национальной народной армии должны были обеспечить порядок и не допустить «провокаций» во время торжеств. Речь Хонеккера 6 октября была выдержана в традициях официальной пропаганды СЕПГ: он представил радужную картину «успехов и достижений социализма» и ни слова не сказал о массовом выезде и акциях протеста. Почетным гостем юбилейных мероприятий был М. С. Горбачев, который дал понять руководству ГДР, что рассчитывать на поддержку СССР оно может только при условии проведения реформ.
Это было воспринято рядом членов политбюро, которые понимали необходимость изменений в политике СЕПГ, как сигнал к смещению Хонеккера для спасения режима. 17 октября было объявлено об отставке Хонеккера «по состоянию здоровья» и избрании новым генеральным секретарем СЕПГ 42-летнего Эгона Кренца (род. 1937), секретаря ЦК по безопасности, одного из самых молодых членов политбюро, представителя «реформаторов».
На следующий день новый лидер выступил с заявлением, в котором объявил о «повороте» в политике СЕПГ и ее «готовности к диалогу» с другими общественно-политическими движениями. В то же время Кренц повторил тезис о ведущей роли СЕПГ и приверженности социализму. Очевидным было стремление СЕПГ с помощью «косметических» мер сохранить позиции партии и даже попытаться встать во главе общественного движения за обновление.
Однако политические маневры нового руководства не имели успеха, поскольку в способность СЕПГ к проведению демократических реформ уже мало кто верил. Кроме того, набиравшее силу движение протеста обрело собственную логику развития. После десятилетий политического безмолвия пришло осознание значимости и силы общественного движения «Мы – народ!». В Лейпциге, Дрездене и других городах проходили массовые демонстрации с требованием демократизации. 4 ноября в Берлине состоялась демонстрация с участием от 500 тыс. до 1 млн человек, в ходе которой звучали требования демократии, свободы и даже отказа от «социализма ГДР». Попытки руководства СЕПГ вступить в диалог с участниками демонстрации закончились провалом. Политбюро СЕПГ разработало и представило общественности обширную программу действий. В нее входило принятие новых законов о выезде, о СМИ, а также проведение реформы управления, повышение роли местных органов власти, начало широкой экономической реформы, модернизация системы образования и др. Однако, эта программа не убедила участников оппозиционного движения, которые выдвигали радикальные требования – в первую очередь, отказа СЕПГ от монополии на власть, что означало бы крушение политической системы ГДР.
Подтверждением мнения большинства граждан о том, что СЕПГ не способна на глубокие реформы, стала публикация 6 ноября проекта нового закона о выезде. Неясные формулировки и бюрократические правила вызвали широкое возмущение, перед которым СЕПГ была вынуждена капитулировать. 9 ноября на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, член политбюро ЦК СЕПГ Понтер Шабовски (род. 1929) объявил об упрощении правил выезда и заверил, что «разрешения будут выдаваться незамедлительно». При этом руководство СЕПГ вовсе не собиралось отменять контроль на границе с ФРГ и Западным Берлином. Однако выступление Шабовски было интерпретировано населением как разрешение свободного выезда, и десятки тысяч восточных берлинцев вечером 9 ноября стали стекаться к контрольно-пропускным пунктам. Растерянные пограничники, не имея никакого приказа о действиях в этой ситуации, под напором огромной толпы людей, открыли шлагбаумы. Со стороны Западного и Восточного Берлина началось стихийное крушение ненавистной стены. В ту ночь, получившую название «ночи встреч», на улицах и площадях Западного Берлина праздновали сотни тысяч человек из обеих частей города.
Руководство СЕПГ не предполагало, какие последствия будет иметь либерализация правил выезда. В течение двух недель Западный Берлин посетили более 13 млн восточных немцев, сравнение условий жизни стало для них настоящим шоком. Эти события стали поворотным пунктом в развитии общественно-политической ситуации в ГДР. Большинство участников оппозиционного движения от лозунга «Мы – народ!» переходит к другому – «Мы – один народ!», что отразило стремление к объединению с ФРГ. Часть оппозиции по-прежнему выступала за демократизацию в рамках социализма и сохранения ГДР. Эта позиция нашла отражение в воззвании «За нашу страну», подписанном рядом известных представителей творческой интеллигенции – писателями Кристой Вольф (род. 1929), Стефаном Хеймом (1913-2001) и др., но большинство населения не поддержало этот призыв. Экономические и политические условия жизни в ФРГ были притягательным образцом и стали решающим аргументом в пользу объединения. Кроме того, были сильны опасения реставрации всевластия СЕПГ.
Руководство СЕПГ пыталось удержать ситуацию под контролем. 13 ноября новым главой правительства стал Ханс Модров (род. 1928), бывший первым секретарем окружного комитета партии в Дрездене, один из тех, кто понимал необходимость проведения реформ. Его назначение должно было подать знак оппозиции о готовности начать необходимые преобразования. Кроме членов СЕПГ, сохранивших ключевые посты, в правительство Модрова были включены представители «блоковых» партий. В заявлении правительства 17 ноября содержалась обширная программа намеченных действий: предполагалось ослабить централизованное управление и планирование экономики, дать предприятиям больше самостоятельности, осуществить реформу правовой системы, усилить внимание к проблемам экологии, образования, а также провести свободные парламентские выборы в 1990 г.
«10 пунктов» X. Коля
Драматичные события осени 1989 г., обусловившие серьезную общественно-политическую дестабилизацию в ГДР, а также продолжавшийся массовый выезд в ФРГ, побудили правительство Коля определить свою позицию. 28 ноября федеральный канцлер выступил в бундестаге с речью, получившей название «Программа 10 пунктов». В ней было обещано оказать ГДР финансовую и экономическую поддержку при условии проведения демократических реформ. Конкретно речь шла лишь о ликвидации политической монополии СЕПГ и проведении свободных выборов, создании демократически-правовых основ государственного и общественного порядка, отказе от планово-бюрократической модели экономики и ее переходе на рыночные механизмы. 10-й пункт программы предусматривал возможность создания конфедерации двух государств. Восстановление государственного единства Германии предполагалось в рамках процесса европейской интеграции.
О том, сколько времени займет этот процесс, в программе Коля не говорилось. В целом, несмотря на осторожные оценки и прогнозы о перспективах объединения Германии, был очевиден переход ФРГ от роли заинтересованного наблюдателя на позиции активного участника событий в ГДР.
Крах «режима СЕПГ»
Народная палата ГДР, бывшая послушным исполнителем воли СЕПГ, под давлением общественных настроений 1 декабря 1989 г. вынесла решение об отмене 1-й статьи конституции ГДР, в которой говорилось о руководящей роли СЕПГ. После этого «блоковые» партии – ХДС, ЛДПГ, НДПГ и ДКПГ – вышли из «Национального фронта». Это означало крушение основы политической системы ГДР. Для СЕПГ насущной задачей стало самосохранение в новых условиях. Политбюро заявило о намерении созвать съезд партии для обсуждения сложившейся в стране ситуации и принятия соответствующих решений. 3 декабря члены политбюро и ЦК подали в отставку, Хонеккер и еще ряд высокопоставленных деятелей были исключены из рядов СЕПГ.
7-9 декабря состоялся чрезвычайный съезд СЕПГ, на котором решался вопрос о будущем партии. К этому времени число ее членов сократилось с 2,3 млн до 1,8 млн. Это отражало смятение и разочарование многих рядовых членов партии, стало известно о фактах коррупции и злоупотреблений властью со стороны партийных функционеров разного уровня. На съезде определились две точки зрения: часть делегатов выступила за радикальное обновление, вплоть до роспуска СЕПГ и создания новой социалистической партии; другая позиция сводилась к предложению о частичном пересмотре позиций СЕПГ и ее переименовании. После острых дискуссий делегаты приняли решение о новом названии СЕПГ – Партия демократического социализма (ПДС), ее председателем был избран берлинский адвокат Грегор Гизи (род. 1948). Это была попытка путем тактических изменений сохранить позиции партии, в том числе удержать в руках ее огромное имущество: недвижимость, научные институты, издательства и т. д. С новым реформаторским руководством СЕПГ – ПДС хотела сохранить влияние на политические процессы в стране.