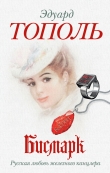Текст книги "История Германии. Том 2. От создания Германской империи до начала XXI века"
Автор книги: Бернд Бонвеч
Соавторы: Юрий Галактионов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 56 страниц)
Гитлер уделял большое внимание завоеванию на свою сторону руководства армейского корпуса и, как нигде, был осторожен во взаимоотношениях с рейхсвером. Без сильной армии были невозможны ни консолидация режима, ни выполнение экспансионистских планов. Во многих своих выступлениях Гитлер не раз подчеркивал, что рейхсвер, наряду с нацистской партией, является «второй несущей колонной» государства.
Усилия правительства и самого Гитлера в 1930-е г. были направлены на сохранение традиций рейхсвера. Свое влияние на него они распространяли осторожно. Первичное недоверие армейской элиты к новому нацистскому режиму было преодолено в ходе событий 1933-1934 гг., когда армейская верхушка убедилась в стремлении Гитлера установить с ней хорошие отношения.
Военный министр Вернер фон Бломберг активно поддерживал и продвигал в военную среду гитлеровские планы по восстановлению и развитию военной мощи Германии. Армейское руководство с удовлетворением восприняло первые шаги нацистского правительства по ревизии Версальской системы. Оно одобрило переименование рейхсвера в вермахт. Закон 1935 г. восстановил всеобщую воинскую повинность. Весной того же года была принята новая структура вооруженных сил Германии, согласно которой вермахт подразделялся на три рода войск: сухопутную армию, флот и военно-воздушные силы. В сухопутных частях воссоздавался Генеральный штаб.
Это создавало блестящие возможности для быстрой карьеры, когда майоры рейхсвера за пару лет становились генералами вермахта. Офицерский корпус практически не препятствовал «аризации» армии. Он, не колеблясь, присягнул на верность лично Гитлеру как главе государства и главнокомандующему вооруженных сил. Впоследствии это обстоятельство серьезно мешало образованию широкой военной оппозиции Гитлеру.
Правда, осенью 1937 г. появилась первая трещина в отношениях руководства вермахта и нацистского правительства. На одном из совещаний с Гитлером часть армейской верхушки во главе с военным министром Бломбергом и начальником генштаба Вернером фон Фричем (1880-1939), а также генералы Людвиг Бек (1880-1944) и Эреин фон Вицлебен (1881-1944) выразили сомнение в успехе планируемой Гитлером военной кампании против Чехословакии. Они опасались военных трудностей и жесткой реакции со стороны западных держав на оккупацию этой страны. Гитлер расценил их позицию как недоверие к его внешнеполитическим планам, что дало ему повод отправить сначала Бломберга, а затем и Фрича в отставку. Нацисты прибегли при этом к грязным методам их компрометации.
Генералитет практически никак не отреагировал на это (за исключением Бека), что дополнительно укрепило позиции нацистов в вермахте. В командовании армии была проведена реорганизация. Отдел вермахта при военном министерстве указом от 4 февраля 1938 г. был преобразован в Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ). Начальником его штаба стал генерал Вильгельм Кейтель (1882-1946). Сухопутные силы возглавил генерал Вальтер фон Браухич (1881-1948). Они были известны как офицеры, беспрекословно послушные Гитлеру. Сам Гитлер становится Верховным главнокомандующим. Нацистскому руководству, таким образом, удалось действительно превратить вермахт в одну из главных «несущих колонн» Третьего рейха.
«Кризис Бломберга-Фрича», как он именуется в историографии нацизма, стал отправной точкой, с одной стороны, вовлечения вермахта в последующие военные и бесчеловечные преступления нацистского режима; с другой стороны, он положил начало формированию в части военных и бюрократических кругов Германии оппозиции нацистскому режиму и разработке ею планов отстранения Гитлера от власти.
Национал-социализм и церковьВ 1933 г. около 63 % населения Германии принадлежали к евангелической церкви, а 32,5 % – к католической, и нацисты вынуждены были считаться с этим фактом. В 24 пункте программы НСДАП было записано, что партия стоит на почве «положительного христианства» и борется только против «еврейско-материалистического духа внутри нас и вне нас».
Церковь обеих конфессий исторически принадлежала к большим общественным группам, которые номинально противостояли в Германии авторитарным или тоталитарным амбициям, будь то при Бисмарке или при Гитлере. Но некоторые идеи нацистов были созвучны идеям церковных иерархов: приверженность делу «национального возрождения» и сильного государства, «народного сообщества» и др.
Среди руководителей нацистской партии были и обыкновенные христиане, и религиозные мистики, и сторонники эзотеризма, и атеисты. Но независимо от степени религиозности, существовала несомненная неприязнь к католическому клиру с его пышными обрядами и строгой иерархией, с его влиянием на общественную и политическую жизнь. Не последнюю роль в этой неприязни сыграл и тот факт, что нацисты сами во многом хотели быть похожими на католическую церковь и безраздельно владеть душами людей.
Как и все другие политические силы, конфессии недооценили силу гитлеровского движения, а в 1933 г. поддались иллюзии найти приемлемую форму сосуществования с режимом. Наивысшими пунктами сближения между ними были: капитуляция евангелистов перед нацистами на конференции епископов в Фульде 28 марта 1933 г., а также заключение Конкордата между Берлином и Ватиканом 20 июля 1933 г.
Нацистское «Движение штурмовиков Иисуса Христа», возникшее еще в 1932 г., провозгласило образование собственной церкви под названием «Немецкие христиане» и стремилось приспособить церковь к задачам режима. Церковь «Немецких христиан» возглавил войсковой пастор Людвиг Мюллер (1883-1945) – доверенное лицо Гитлера. Он пытался навязать политику «Немецких христиан» обеим традиционным конфессиям, переманить к себе их паству. Они же стремились сохранить свою автономию и противодействовали этому.
«Гражданский мир» между церковью и режимом длился недолго. Уже летом 1933 г. появились разногласия в связи с некоторыми требования «немецких христиан», например, установить в алтаре портрет Гитлера, по-новому толковать Священное Писание и т. п. При этом обе церкви избегали принципиальной оппозиции власти, а лишь выступали, по их утверждению, против радикального атеизма.
Серьезный конфликт разразился внутри евангелических церквей, когда на выборах синода 27 сентября 1933 г. имперским епископом был избран глава «Немецких христиан» Мюллер. Кроме того, евангелический молодежный союз был присоединен к «Гитлерюгенд». Эти действия натолкнулись на жесткое сопротивление только со стороны «Союза евангелических пасторов» во главе с Мартином Нинёллерон (1892-1984). Под руководством «союза» повсюду образовывались общества «Исповедания», которые подтверждали свою приверженность Священному Писанию и документам Реформации, открыто осуждали радикализм нацистской церкви «Немецких христиан».
Особенно острой была борьба в 1937 г., когда последовал арест Нимёллера и штрафные санкции для его сторонников. Обыкновенные прихожане в массовом порядке стали покидать «Немецких христиан». Им не понравилось перенесение в церковь нацистского стиля борьбы и жаргона. Массовый выход верующих из нацистской церкви предопределил спад этого движения. Все попытки оживить его в 1942-1943 гг. успеха не имели.
Постепенно, часто невольно, в борьбу была втянута и католическая церковь. Конкордат не спас ее от тоталитарных притязаний нацистов. Церковь выразила осторожное недовольство некоторыми действиями нацистов. В ответ на это католические организации и союзы притеснялись, пресса была запрещена, юношеские и рабочие организации с 1935 г. постепенно распускались, были закрыты католические факультеты и т. п.
В ответ на это последовала беспрецедентная реакция Ватикана. 14 марта 1937 г. Папа Пий XI выпустил Энциклику «Со жгучим беспокойством» – первую и единственную на немецком языке. Папа обвинил нацистский режим в нарушении Конкордата, подверг острой критике и осудил нацистское «новое язычество» за его «идолопоклонство» расе, народу и государству.
Исходя из политического расчета и в связи с подготовкой к войне, в 1939 г. Гитлер прекращает «борьбу с церковью». Однако его «высказывания за столом» периода войны не оставляют сомнения, что после своей «конечной победы» он планировал полностью устранить в обществе влияние церкви и христианства.
Все же обе конфессии, за редким исключением, открыто не заступались перед общественностью за жертв нацистского террора, не осуждали преследования и массового убийства евреев. Лишь отдельные епископы вмешивались в некоторых случаях – когда, например, речь шла об акциях эвтаназии душевнобольных «арийцев». Но бесспорно, руководству обеих конфессий не хватило гражданского мужества для подобных действий. Официальные учреждения церкви если и не поддерживали режим, то в целом были ему лояльны.
Политика нацистов в области культурыКультура Германии в период нацизма потерпела значительный урон. На нее отрицательно повлиял массовый отъезд из страны широко известных писателей, публицистов, музыкантов, художников. Снижение уровня развития культуры было также связано с насаждением нацистами своего понимания искусства. Все области культуры должны были отвечать мировоззрению национал-социализма. Критические или иронические оценки отвергались. Чуждые в расовом или политическом отношении художники, интеллектуалы и ученые преследовались или ограничивались в своей работе.
В сфере непосредственного руководства культурой всеобъемлющими правами обладала «Имперская палата культуры». Она была создана декретом от 22 сентября 1933 г. Палата стала инструментом надзора за деятельностью творческих работников и издателей, а также управления культурными процессами. Все, занимавшиеся культурной деятельностью, должны были приписаться к одному из отделов «Палаты»: пресса, художественная литература, радио и кино, музыка, изобразительное искусство и театр. Председателем палаты стал Геббельс.
Министерство пропаганды установило стандарты художественного творчества, и это касалось всех его форм. Специальные инструкции предписывали творческим работникам развивать следующие направления в искусстве: «фронтовое» товарищество и романтизм; «патриотическое», связанное с особенностями немецкого менталитета (национальный колорит, немецкий фольклор, германский дух, мистицизм немецкой души и т. п.). Можно было также творить в сфере расовой этнологии, прославляющей нордическую расу и защиту ее чистоты. Кроме того, существовало и прямое «партийное» направление в искусстве, которое возвеличивало нацистское мировоззрение, деятельность Гитлера и партии.
4 октября 1933 г. был принят закон о прессе, согласно которому местная, конфессиональная и другая независимая пресса, не ориентировавшаяся на НСДАП, была запрещена. Из газет и журналов изгонялись расовые и политические противники. Ряд изданий был вытеснен экономическими методами. В течение только одного 1933 г. число ежедневных газет в Германии сократилось с 2703 до 1128.
В наибольшей степени от нацистской политики пострадала немецкая литература. Германию покинуло более 250 немецких писателей и драматургов, поэтов и литературных критиков, среди которых были всемирно известные: Г. Манн, Т. Манн, Б. Брехт, Э.-М. Ремарк, Лион Фейхтвангер (1884-1958), Стефан Цвейг (1881-1942) и др. Несмотря на тяжелые условия эмиграции, большинство из них плодотворно трудилось. Многие принимали участие в антифашистской работе, создали блестящие образцы антифашистского романа и публицистики. Эти люди, вместе с другими представителями немецкой эмиграции и деятелями Сопротивления, спасали честь нации от позора террористического режима.
В самой Германии в области литературы восторжествовали поэмы, повести и романы второразрядного свойства, написанные в духе, рекомендованном министерством пропаганды. В то же время некоторые талантливые писатели, оставшиеся в Германии, ушли во «внутреннюю эмиграцию». Они старались держаться «вне политики», открыто не демонстрируя недовольство властью. К ним относились известный драматург Герхард Гауптман (1862-1946), писатель и эссеист Эрнст Юнгер (1895-1998), поэт-лирик и философ Готфрид Бенн (1886-1956), писатель Эрнст Глезер (1902-1963).
Для молодых авторов были некоторые ниши в писательских объединениях типа «Современная классика» – Йоханнес Бобровски (1917-1965), Вольфганг Борхерт (1921-1947), Гюнтер Айх (1907-1972) и др., – где они могли скрытно выразить свою оппозиционность власти. Однако стоило писателям разойтись в чем-то с нацистами или покритиковать их, как они становились неугодными и подвергались преследованиям.
Область театральной жизни также подверглась «расовой чистке» и унификации. Из страны уехали знаменитые режиссеры и драматурги, в том числе Фридрих Вольф (1888-1953). Нацисты пытались возродить в духе «народности» театральные зрелища и представления. К 1937 г. существовало 40 специальных театральных площадок в исторических местах Германии, но затем это движение пошло на убыль и к началу войны практически исчезло.
На сферу музыки и изобразительного искусства особое влияние оказали культурные пристрастия Гитлера. Его любовь к музыке Р. Вагнера носила оттенок культа и мистики. Ежегодные вагнеровские музыкальные фестивали были превращены в демонстрацию связи «новой Германии» с традициями исторических музыкальных драм этого композитора. Легкая музыка признавалась, но «негритянский джаз» осуждался как «дегенеративная» музыка.
Служению национал-социализму напрямую было поставлено песенное творчество немецких композиторов. Песня о Хорсте Весселе (1907-1930) – «герое-мученике» нацистского движения была приравнена к национальному гимну. Нацистский режим поощрял написание и исполнение песен героико-патриотического плана, с ритмичной музыкой. Их легко было петь хором и в строю. В песнях также сквозили любовь к природе, народу, матери.
Гитлер был сторонником классических направлений в искусстве и решительно боролся с модернизмом и декадансом («упадничеством»). В 1936 г. он уполномочил руководителя Имперского управления изобразительного искусства профессора А. Циглера провести чистку 100 музеев от «декадентских» экспонатов. Комиссия собрала 12 890 картин, 700 из которых было продано в Люцерне на аукционе, принеся солидную валютную выручку. Среди них были и полотна таких известных немецких художников-авангардистов, как Э. Нольде, МаксБекман (1884-1950), О. Кокошка, Г. Гросс.
В 1937 г. состоялось открытие первой выставки немецкой живописи и скульптуры в только что отстроенном «Доме искусства» в 1Мюнхене. Выставка четко отобразила пристрастие нацистов к определенным направлениям изобразительного искусства. Здесь были представлены в основном жанровая живопись, ландшафты, портреты в стиле реализма XIX в. Выделялись также работы, напоминавшие «салонную» живопись, с их ничего не значащей красотой обнаженного тела (А. Циглер). В пластическом искусстве были видны политико-воспитательные элементы «арийских» идеалов красоты, культа силы и власти (А. Брекер).
Скульптур и полотен в духе агитационной направленности было немного – около 5 %, в основном портреты и скульптуры нацистских деятелей. Гитлер изображался в различных ролях: то как «партийный фюрер» или оратор; то как командующий среди «своих» солдат; то как одинокий, «харизматический возвышенный «воин». Художники и далее развивали искусство, впрямую поставленное на службу нацистской идеологии. В то же время выразительное пластическое искусство известной немецкой художницы К. Кольвиц находилось фактически, под запретом. Параллельно с официальной выставкой была развернута и выставка «упаднического» искусства, которая, несмотря на язвительную критику, пользовалась успехом. Ее посетило свыше 2 млн человек.
Наибольший след в искусстве нацизм оставил в области архитектуры. Архитекторы Третьего рейха упорно трудились над задачей совмещения политических целей нацистов и эстетических задач искусства: Альберт Шпеер (1905-1981), Герман Гиспер (1889-1948), Вильгельм Крайз (1873-1955) и др. При этом главным было подчеркнуть значение зданий не только как памятников «немецкого» искусства и культуры, но и как центров новой власти, соединяющих прошлое, настоящее и будущее Германии. Своей грандиозностью поражало место для проведения съездов и парадов в Нюрнберге. В партийных постройках этого старинного немецкого города было воплощено требование Гитлера о сочетании дорических и тевтонских форм сооружений.
Для архитектуры Третьего рейха был характерен сплав монументализма и любимых Гитлером стилей – неоклассицизма и необарокко. Монументализм как символ «величия» Третьего рейха стал отличительной чертой партийных и государственных, мемориальных и культурных комплексов в Мюнхене и Берлине, в Линце и в других городах (многое было разрушено в ходе войны).
В культурной политике нацисты стремились повлиять прежде всего на массового слушателя и зрителя. Вот почему так широко они использовали радио и кино, а упор делали на развлекательные программы и фильмы. Радиоречи фюрера были, конечно, большим событием, но и шлягеры популярных певцов, легкая музыка являлись обычной принадлежностью радиопрограмм. Образцы немецкой массовой культуры того времени мало чем отличались от соответствующих образцов других стран.
Подобным образом обстояло дело и в кино. Быстро росло число посетителей кинотеатров. Оно увеличилось с 1933 по 1939 г. с 250 до 600 млн человек ежегодно, а в 1943 г. г. кинотеатры посетило более 1 млрд зрителей. Были созданы пропагандистские фильмы, например, «Триумф воли» Л. Рифеншталь, «Еврей Зюсс» Фейта Харлана (1899-1964). С 1938 г. в кино перед художественным фильмом стал обязательным показ еженедельного политического обозрения. Но все же на экране господствовали аполитичные, главным образом веселые и занимательные фильмы. Нацистам было важно создать у людей хорошее настроение, убедить, что все в Германии идет нормально, и подавить критические голоса.
В этом же направлении работала и специфическая эстетика нацистского режима, родившаяся из сплава пропагандистской и культурной политики. Ее отличительными чертами стали праздничные и ритуальные действия с участием большой массы людей (парады, марши, факельные шествия), целенаправленное использование иллюминации, обилие флагов и штандартов. Все это должно было создавать у людей нужное нацистам настроение сопричастности власти.
И хотя режиму не удалось создать специфическое «нацистское искусство» (за исключением отдельных образцов живописи и области эстетики), но в значительной мере произошло превращение культуры в прямой инструмент идеологии и политики.
Антисемитизм и преследование евреевКонсолидация режима и формирование «народного сообщества» шли рука об руку с вытеснением из общественной, политической и экономической жизни евреев – самой крупной негерманской этнической группы населения. К 1933 г. их проживало в Германии около 500 тыс. Однако их представительство в отдельных областях хозяйства, медицины, юриспруденции и культуры доходило до 25-30 %. Это создавало почву для антисемитизма, хотя большинство евреев издавна проживало в Германии, были ее гражданами.
Часть из них исповедовала христианство, считала немецкий язык своим, а Германию – Родиной. Более 120 тыс. евреев воевали в германской армии в период Первой мировой войны. Исторически так сложилось, что не очень богатое еврейское население проживало на востоке Германии, на границе с Польшей, а состоятельное – главным образом в Берлине и других крупных городах.
Гитлер и его окружение были патологическими антисемитами: кто-то больше по политическим мотивам, кто-то – по религиозным. Многие рядовые члены партии были обыкновенными «бытовыми» антисемитами, недовольными конкуренцией в сфере торговли и ремесла. Именно на это недовольство опиралось руководство партии и СА при проведении бойкотов и еврейских погромов после прихода нацистов к власти. Но в недрах партийной канцелярии, юридической службы государства и СС шла постоянная работа по «разрешению еврейского вопроса» – в смысле изгнания евреев из Германии.
Сразу после 30 января 1933 г. был взят неуклонный курс на вытеснение евреев из общественной и культурной жизни, государственных органов. Началась «аризация» собственности (ее передача «арийцам» – немцам) и эмиграция евреев, которую власти Германии в первое время поощряли и поддерживали. За период 1933-1939 гг. только в Палестину выехало 60 тыс. евреев.
Весной 1935 г. на востоке Германии прокатилась очередная волна погромов, в результате которой имелись убитые и раненые. Еврейской собственности был нанесен большой материальный ущерб. Это вызвало негативную реакцию за границей, причем настолько сильную, что режим, и прежде всего «буржуазный» министр экономики Я. Шахт, решили этот «народный протест» ввести в правовые рамки. Результатом их усилий стало «законодательное» преследование по расовым мотивам. 15 сентября 1935 г. на съезде НСДАП были приняты так называемые «Нюрнбергские законы», которые регулировали положение евреев в Третьем рейхе, их отношения с немецким населением. «Закон о гражданстве» лишал евреев политических прав, они становились гражданами второго сорта.
«Закон о защите немецкой крови и немецкой семьи» запрещал браки евреев с арийцами и вводил понятие «нанесение ущерба расе». Нарушение закона каралось штрафом или заключением в тюрьму. Законом определялось также, кто такой еврей, исходя из понятия «чистоты крови». Появился такой термин как «мишлинге», то есть человек смешанной крови. От бредовой идеи о степени смешения крови зависели права и обязанности человека. Наиболее бесправными были так называемые «полные евреи». Принятие Нюрнбергских законов свидетельствовало о приобретении нацистским государством черт расовой дискриминации и сегрегации.
После принятия «Нюрнбергских законов» усилился процесс отчуждения евреев от общественной жизни в Германии. Последовали запреты смешанного обучения, ускорилась «аризация» экономики. Всего до 1938 г. был полностью «аризован» Немецкий банк; из 60 текстильных фабрик аризации подверглось 54; из 59 предприятий по производству одежды – 36; из 32 кожевенных и обувных – 21; из 20 предприятий черной металлургии – 16; из 7 предприятий табачной промышленности – 7.
После принятия «Нюрнбергских законов» наступил короткий спад в антисемитских акциях, так как 1936 г. был годом Олимпийских игр в Германии. Нацистский режим хотел создать у иностранцев хорошее впечатление о стране и облегчить проведение внешней политики. В связи с этим были запрещены все антисемитские выступления и демонстрации. Но через полтора года в стране поднялась новая волна антисемитизма, вылившаяся в такой погром, которого Германия не знала со времен средневековья. Поводом к нему послужил террористический акт в Париже против немецкого дипломата, совершенный молодым евреем Г. Грюншпаном, который мстил за депортацию семьи. Это событие послужило сигналом к погрому. Нацисты заявили о необходимости «расчета» с евреями.
Вечером 9 ноября 1938 г. отряды СС и СА совершили нападения на еврейские магазины, учреждения и синагоги, которые продолжались всю ночь. Из-за огромных куч разбитого стекла эта ночь была названа «хрустальной ночью». Было разрушено и сожжено 267 священных для евреев мест, разгромлено 7500 еврейских магазинов и других заведений, был убит 91 человек. Сотни евреев покончили жизнь самоубийством или умерли позже от нанесенных увечий. Чтобы принудить оставшихся евреев к массовому бегству из страны, 10 тысяч евреев были арестованы и отправлены в концлагеря.
Эта чудовищная акция совершалась преимущественно самими нацистами, а остальное население было, в основном, зрителями. Открыто выражала сочувствие пострадавшим совсем небольшая группа людей. 10 ноября Геббельс дал распоряжение о прекращении «акции». Еврейское население должно было выплатить «искупительный штраф» в размере 1 млрд рейхсмарок, а все разгромленное восстановить за свой счет. До 1 января 1939 г. евреи были обязаны продать все свои предприятия, акции, магазины, мастерские, закрыть конторы и не имели права самостоятельно производить какую-либо продукцию. «Аризация» хозяйства превратилась, по существу, в экспроприацию.
После «хрустальной ночи» стала с особой силой проявляться изощренность нацистской политики по отношению к евреям. Появились распоряжения, которые запрещали евреям посещать кино и театры, парки и рестораны; владеть домом, машиной и телефоном; держать домашних животных; учиться в школах и университетах; пользоваться библиотеками и сферой обслуживания; носить дорогие вещи – золото и меха. Ходить по улицам и делать покупки евреям разрешалось только в определенное время; жить – только в определенных кварталах или домах. В отличие от немцев, в отношении которых сохранялись многие прежние законы «нормального» (буржуазного) государства, против евреев усиливалась мощь государства «чрезвычайных мероприятий», а попросту творилось беззаконие. В любое время дня и ночи эсэсовцы могли ворваться в квартиру, произвести обыск, избить и арестовать людей без какого-либо вразумительного объяснения. Еврейское население намеренно сталкивалось на обочину жизни и погружалось в страх, отчаяние, нищету и изоляцию.
Насильственная «геттоизация» поневоле заставила евреев самоорганизовываться в общины, помогать друг другу, но было немало и тех, кто не выдерживал преследований или мысли о предстоящей депортации и кончал жизнь самоубийством. Если в феврале 1939 г. на территории Германии проживало 214 тыс. евреев, то к сентябрю того же года численность упала до 30 тыс. человек. Оставшимся становилось все труднее покинуть страну. В 1941 г. эмиграция вообще была запрещена.
Судьба немецких (и европейских евреев в целом) была предрешена в речи Гитлера 30 января 1939 г. в рейхстаге: «Если мировой еврейский финансовый капитал еще раз столкнет народы Европы в мировой войне, то результатом будет не большевизация мира и тем самым победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе». На самом деле не война, сама по себе, привела к массовым убийствам евреев (она их, конечно, чрезвычайно обострила, ускорила и придала чудовищные формы) – в основе всех действий против евреев лежало мировоззрение нацистов, вся их довоенная, «мирная» политика относительно данной группы населения.