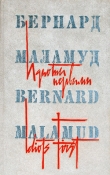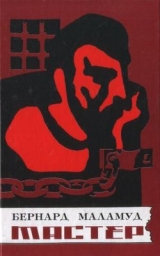
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– Ой-ёй! – Фальшивомонетчик дал Якову две папиросы и кусок яблочного струделя из своей последней посылки, и мастер с удовольствием съел струдель и выкурил папиросу.
Во время следующего их разговора Гронфейн расспрашивал о родителях Якова, о его семье, о местечке. Поинтересовался, чем он был занят в Киеве. Яков на все вопросы отвечал, но не слишком подробно. Правда, сказал про Рейзл, и Гронфейн поморщился.
– Не очень-то, вы меня, конечно, извините, похоже на еврейку. Моя жена и помыслить о таком не могла бы, особенно с гоем, не говоря о том, чтобы сделать.
Мастер пожал плечами:
– Одни делают, другие нет. И те, кто делает, иногда, случайно, еврейки.
Гронфейн собрался задать какой-то вопрос, осторожно огляделся и потом шепнул, что хотел бы узнать, что именно произошло с тем мальчиком.
– Как он умер?
– Кто – как умер? – переспросил удивленный мастер.
– Тот русский мальчик, которого убили?
– Откуда же я знаю? – Он отпрянул от толстяка. – Того, что они про меня говорят, я не делал. Не был бы я евреем, не был бы и преступником.
– Это точно? Почему вы не хотите мне рассказать? Мы же с вами товарищи по несчастью.
– Мне нечего вам рассказывать, – сказал Яков сухо. – Не будь птицы, не было бы и перьев.
– Да, не повезло вам, – сказал фальшивомонетчик сердечно, – но я для вас сделаю все что могу. Как только меня выпустят, я сразу же переговорю со своим адвокатом.
– Очень вам буду признателен.
Но тут Гронфейн погрустнел, глаза его затуманились, и больше он ничего не сказал.
На другой день он подошел к Якову и шепнул озабоченно:
– В городе поговаривают, если правительство вас будет судить, они сразу же затеют погром. Черносотенцы орут кошмарные угрозы. Сотни евреев бегут из Киева, как от чумы. Мой тесть подумывает, не продать ли ему свое дело и бежать в Варшаву.
Мастер слушал и молчал.
– Вас никто не винит, вы же понимаете, – сказал Гронфейн.
– Если ваш тесть хочет бежать, он, в конце концов, может бежать.
Во время разговора фальшивомонетчик то и дело нервно оглядывался на дверь, будто высматривал дежурного.
– Вы посылки ждете? – спросил Яков.
– Нет, нет. Но если меня не выпустят, я вот-вот сойду с ума. Здесь так отвратно, и еще я беспокоюсь за семью.
Он отошел было, но через двадцать минут вернулся с остатками посылки.
– Держите то, что осталось, – сказал он Якову. – Может быть, в конце концов я что-нибудь и придумаю.
Дежурный стражник открыл дверь, и Гронфейн исчез на полчаса. Вернувшись, он сообщил мастеру, что сегодня вечером его отпускают. Кажется, он был доволен, но у него горели уши, и опять он долго сидел и бубнил себе под нос. Только через час успокоился.
Вот что такое деньги, думал Яков. Когда они у тебя есть, у тебя есть крылья.
– Не могу ли я до ухода что-нибудь для вас сделать? – шепнул Гронфейн, сунув мастеру десятирублевую купюру. – Не беспокойтесь, эти деньги абсолютно настоящие.
– Спасибо. Деньги мне пригодятся. Моих они не хотят отдавать. Может, я другую обувь себе куплю у кого-то из арестантов. Я все ноги себе растер. И если ваш адвокат мне сумеет помочь, я буду весьма признателен.
– Я вот подумал, может быть, вы письмо хотите со мной передать? – сказал Гронфейн. – Напишите этим карандашом, а я отправлю. У меня и бумага с собой, и конверты. А марки я сам наклею.
– Премного вам благодарен, – сказал Яков. – Но кому я буду писать?
– Если вам некому писать, – сказал Гронфейн, – так адресата я вам создать не могу, но вы же, кажется, говорили мне насчет своего тестя?
– Он от самого своего рожденья бедняк. Что он может для меня сделать?
– Но рот же есть у него, да? Так пусть он начинает кричать.
– И рот есть, и желудок есть, только мало что туда попадает.
– Как говорится, если в Пинске закричит еврейский петух, будет слышно в Палестине.
– Что ли написать? – сказал Яков.
Чем больше он думал, тем больше хотелось ему написать. Хотелось, чтобы кто-то узнал про его судьбу. Там, на воле, Гронфейн говорил, знали, что кого-то бросили в тюрьму, но кого – не знали. И хотелось ему, чтобы все узнали, что это он, Яков Бок. И пусть узнают, что он невиновен. Пусть хоть кто-то узнает, иначе ему никогда отсюда не выбраться. Может быть, какой-то комитет организуют в его поддержку? Может быть – надо же знать их законы, – удастся устроить встречу с адвокатом еще до обвинения; если нет, то хотя бы на них повлиять, пусть составят соответственный документ, и тогда можно будет начать защиту. На той неделе будет месяц уже, как он сидит в этом временном вонючем застенке, а ни о ком ни слуху ни духу. Он подумал, не написать ли следователю, да не посмел. Вдруг он передаст письмо прокурору, тогда будет совсем кошмар. Нет, он-то, положим, не передаст, но его помощник, этот Иван Семенович, кто его знает? Так и так дело слишком рискованное.
В конце концов мастер медленно начал писать и написал два письма – одно Шмуэлу, другое Аарону Латке, печатнику, у которого он снимал комнату.
«Дорогой Шмуэл, – писал Яков, – как вы и предсказывали, я попал в ужасную передрягу и теперь нахожусь в Киевском остроге возле Дорогошинской улицы. Сам знаю, это невозможно, но вы уж попробуйте мне помочь. На кого же еще я могу рассчитывать?
P.S. Если она вернулась, лучше мне не знать».
Аарону Латке он написал:
«Дорогой друг Аарон, ваш недавний жилец Яков Бок сейчас в Киевском остроге, в камере временного содержания, где держат заключенных по месяцу. Одному Б-гу известно, что случится после этого месяца. То, что уже случилось, – так хуже некуда. Меня обвинили, что якобы я убил русского мальчика, Женю Голова, которого, клянусь, я пальцем не тронул. Окажите мне услугу, передайте это письмо какому-нибудь еврейскому журналисту или искреннему благотворителю, если случайно такого знаете. Скажите им, если вызволят меня отсюда, я до конца своих дней буду работать, не разгибая спины, чтобы им отплатить. Только поторопитесь, положение мое ужасное и будет еще хуже. Яков Бок».
– Вот и ладненько, – сказал Гронфейн, принимая запечатанные письма, – вот и отлично. Ну, всего хорошего, а о десяти рублях можете не беспокоиться. Вернете, когда освободитесь. Пусть будут вам на разводку.
Стражник отворил дверь, и фальшивомонетчик заторопился по коридору, а следом за ним надзиратель.
Четверть часа спустя Якова вызвали в контору. Остатки посылки он отдал на хранение Фетюкову, пообещав с ним потом поделиться.
Яков быстро шел по коридору, перед уставленным ему в спину ружьем. Вдруг это вынесли обвинение, думал он, шел и волновался.
Смотритель Грижитской был в кабинете вместе со старшим надзирателем и еще со строгим приставом в мундире вроде генеральского. В углу сидел Гронфейн – в шляпе, глаза прикрыты.
Смотритель махал вынутыми из конвертов двумя письмами, которые только что написал Яков.
– Ваши? Отвечать честно, сучье семя.
У Якова оборвалось сердце.
– Да, ваше благородие.
Грижитской ткнул пальцем в еврейский текст.
– Переведите этот птичий помет, – велел он Гронфейну.
Фальшивомонетчик открыл глаза, прочел письма по-русски, быстро и монотонно, и снова закрыл глаза.
– Ах ты жид, кровопийца! – заорал смотритель. – Да как ты смеешь нарушать тюремный распорядок? Я лично тебя предупреждал! Чтобы никакой связи с волей без особого моего на то указания!
Яков ничего не говорил, он смотрел на Гронфейна, и его мутило.
– Он передал их нам, – сказал мастеру смотритель. – Как законопослушный гражданин.
– Не всем же быть порядочными, – сказал Гронфейн, ни к кому, собственно, не обращаясь и не разлепляя век. – Я простой фальшивомонетчик.
– Сволочь ты и шпион! – крикнул Яков. – Зачем надо было морочить невинного человека?
– А ну придержать язык! – цыкнул на Якова смотритель. – Душа твоя грязная, и выражения такие же.
– Своя рубашка ближе к телу, – промямлил Гронфейн, – а у меня пятеро детишек и нервная жена
– Мало того, – сказал смотритель, – у нас записано, что вы пытались вот его подкупить, чтобы отравил того сторожа, который видел, как вы пытались схватить мальчишку, и заплатил Марфе Головой, чтобы не свидетельствовала против вас. Так это или нет? – спросил он у Гронфейна.
Фальшивомонетчик только кивнул, и пот стекал из-под шляпы на его темные веки.
– Откуда же у меня такие деньги, чтобы их подкупать?
– Еврейская нация помогла бы, – за всех нашелся инспектор.
– Увести его, – сказал старик Грижитской. – Прокурор вас вызовет, когда понадобитесь! – кинул он Гронфейну.
– Шпион! – кричал Яков. – Гнусный предатель! Все это грязная ложь!
Надзиратель, как слепого, выводил Гронфейна из комнаты.
– Вот такой помощи и ждите от своих соплеменников, – сказал Якову пристав. – И лучше бы вам признаться.
– Мы не позволим таким, как ты, издеваться над нашими правилами! – рыкнул смотритель. – Теперь в одиночку пойдешь, а письма приспичит сочинять – кровью напишешь.
5
Он варился заживо в раскаленной жаре крошечной одиночки, куда его бросили, весь плавал в поту, и пот хлестал из подмышек; но на третью ночь отодвинули болт, скрипнул ключ в замке и открылась дверь.
Стражник толкал его вниз, к смотрителю.
– Возись тут с тобой, твою мать, на кой ты мне сдался.
Там оказался следователь, сидел в кресле, обмахивался жухло-желтой соломенной шляпой. В чесучовом костюме, при белом шелковом галстуке, четко чернея бородкой на очень бледном лице, он серьезно в чем-то убеждал старшего надзирателя в воняющих гуталином штиблетах, а тот краснел, пыжился, кипятился. Когда Яков, мертвенно-серый, едва держась на ногах, переступил порог, оба сразу смолкли. Погодя старший надзиратель, кусая губы, заметил:
– Однако так оно не положено, если вам угодно знать мое суждение.
На что Бибиков возразил терпеливо:
– Я здесь во исполнение своих служебных обязанностей, господин старший надзиратель, и, следственно, вам нечего опасаться.
– Так-то оно так, но почему среди ночи, когда смотритель в отсутствии и все остальные спят? Странное время для исполнения служебных обязанностей, если желаете знать.
– Да, ужасная ночь, после нестерпимо знойного дня, – сказал Бибиков хрипло и кашлянул в кулак. – Но сейчас все же чуть-чуть попрохладней. С Днепра даже веет свежестью, как выйдешь на улицу. Честно говоря, я лег было в постель, но жара в доме несносная, простыни хоть выжимай. Я уж ворочался, мучился, но понял, что мне не уснуть, и встал. А уж когда я встал и оделся, мне пришло в голову, что лучше заняться делом, чем бесцельно слоняться по дому, пить холодный нарзан, который мне заведомо навредит, и клясть жару. Счастье еще, что жена и дети на даче, на Черном море, в августе и я к ним подамся. Днем ведь жара поднималась, знаете ли, до сорока, а теперь около тридцати трех. Уверяю вас, сегодня работать у меня в кабинете не было решительно никакой возможности. Мой Иван Семенович так жаловался на тошноту, что пришлось домой его отослать.
– Что же, как вам будет угодно, – сказал старший надзиратель. – Но уж как вам будет угодно, а я останусь при вашем допросе. Мы отвечаем за арестованного, это, надеюсь, понятно.
– Могу ли я вам напомнить, что ваша обязанность – его здесь содержать, моя же – расследовать дело? Подозреваемого пока не судили, приговор ему никакой не вынесен. Ему даже не представлено обвинение. В тюрьму он препровожден тоже без законного обоснования. Он здесь просто в качестве вещественного доказательства. И я, если позволите, вправе допросить его с глазу на глаз. Время, быть может, и не самое удобное, ну так ведь это всего лишь условность; а потому я просил бы вас отлучиться ненадолго, ну, скажем, не более чем на полчаса.
– Но я по крайней мере должен знать, о чем у вас будет разговор, а то ведь смотритель, как вернется, будет интересоваться. Если об условиях содержания в тюрьме, то должен вас прямо предупредить: смотритель будет весьма недоволен. Никакого исключения для еврея не делается. Если он следует правилам, с ним обращаются наравне со всеми заключенными. А уж если не следует, пусть на себя и пеняет.
– Мои вопросы не будут касаться условий его содержания в тюрьме, ибо я, безусловно, рассчитываю на то, что они гуманны. Смотрителю, господину Грижитскому, вы можете сообщить, что меня интересовали некоторые допросы подозреваемого, произведенные ранее, до меня. Если же господину смотрителю понадобятся сведения более точные, благоволите ему передать, что он может снестись со мною по телефону.
Бросив кислый взгляд на Якова, старший надзиратель удалился.
Бибиков минуту сидел, приложив палец к губам, потом быстро подошел к двери, прислушался, потом подвинул два стула в дальний бессветный угол комнаты, сел сам и предложил ему сесть.
– Друг мой, – сказал он быстро, понизив голос, – по вашему виду я заключаю, что вам несладко пришлось, и, прошу вас, не сочтите меня нерадивым или бесчувственным, если я не буду об этом распространяться. Я обещал смотрителю держаться других предметов, да и времени у нас маловато, а мне так много нужно сказать вам.
– Да все со мной хорошо, ваше благородие, – пробормотал Яков, перебарывая волнение, – только вот не знаю, может быть, вы могли бы добиться для меня другой обуви? Я ноги стер до крови, а они никто мне не верят. Или пару другую, или, может быть, молоток хотя бы и клещи, я бы эти приладил.
Он передохнул и утер глаза рукавом.
– Вы уж извините меня, я немного не в себе, ваше благородие.
– На нас с вами одинаковые льняные костюмы, как я погляжу, – пошутил Бибиков, обмахиваясь своей легкой шляпой. И, понизив голос, прибавил: – Скажите, какой у вас размер, я пошлю вам пару штиблет.
– Лучше не надо, наверно, – шепнул Яков, – а то смотритель догадается, что я вам нажаловался.
– Вы ведь поняли, что это не я, а прокурор приказал вас сюда упечь?
Мастер кивнул.
– Папироску не желаете ли? У меня, да вы же знаете, турецкие, прелесть.
Он подал Якову зажженную папиросу, тот пыхнул несколько раз и ее отложил.
– Извините, только зря добро перевел, – и он закашлялся. – Жарко, трудно дышать.
Следователь убрал портсигар. Вынул из нагрудного кармана пенсне и, подышав на него, посадил на потный нос.
– Я хочу, чтобы вы это знали, Яков Шепсович, ваш случай представляет для меня исключительный интерес, и не далее как на той неделе я в набитом, варварски-душном вагоне вернулся из Санкт-Петербурга, где имел разговор с министром юстиции князем Одоевским.
Он подался вперед и тихо сказал:
– Я туда ездил представить свидетельства, которые мне уже удалось собрать, и ходатайствовать, чтобы обвинение против вас, как я предлагал уже и господину прокурору, было сведено к вашему незаконному проживанию в Лукьяновском, либо вовсе с вас снято, при условии, что вы оставите Киев и отправитесь в свои родные края. Но вместо этого мне было настоятельно велено без малейшей тени сомнения продолжать начатое расследование. Больше всего смутило меня, Яков Шепсович, под строжайшим секретом вам доложу, что, хотя министр юстиции выслушал меня вежливо и с очевидным вниманием, я безусловно ощутил, что он ждет свидетельств, подтверждающих вашу виновность.
– Вейз мир.
– Прямо ничего такого сказано не было, уверяю вас, это всего лишь мое впечатление, а я мог ведь и ошибиться, но, впрочем, едва ли. Честно сказать, это дело, кажется, вообще порождает бездну умолчаний, околичностей, смутных намеков, туманных экивоков, странных вопросов, которых я не понимаю, ну и так далее. Ничего – и до сих пор – мне не было сказано прямо, однако я ощущаю на себе давление, я чувствую, что от меня ждут, чтобы я, так сказать, обнаружил свидетельства, соответствующие расхожему предрассудку. Министр внутренних дел тоже мне исправно телефонирует. Не скрою, этот нажим вконец мне расстроил нервы. Жена говорит, со мной стало еще труднее жить, чем всегда, и вдобавок кишки у меня расшалились. Вот и сегодня жена в письме настоятельно мне советует показаться доктору. А давеча, – он понизил голос до почти неразличимого шгпота, – у меня было впечатление, что за моей пролеткой следует другой экипаж, хотя, разумеется, при таком состоянии нервов делаешься мнительным.
Он приблизил лицо к Якову и продолжал шептать:
– Ну да что там. Вернемся к фактам: князь Одоевский даже предложил было мне снять с себя «непосильное бремя» этого дела, если я ощущаю «нажим», или работа мне стала противна, или вошла в противоречие, как он выразился, «с вашими убеждениями». И кажется мне, я уловил явственный намек на то, что интересам правосудия более отвечало бы обвинение в убийстве с ритуальными целями, да, такая вот дичь.
– Насчет убийства, – сказал Яков, – так если я приложил к нему руку, жить мне вечно калекой в аду.
Следователь устало обмахивался шляпой. Снова оглянулся на дверь, сказал:
– Когда я объявил министру юстиции – совершенно открыто объявил, никакие околичности и туманные намеки в правосудии неуместны, – что собранные мною свидетельства ведут совершенно даже в другую сторону, к полному оправданию главного обвиняемого, он только плечами пожал – князь импозантен, хорош собой, владеет словом, слегка прыскается духами, – как бы давая понять, что от меня ускользает высшая истина. На том мы и расстались, на этом пожатии плеч, которое может означать ведь и много и мало, но в любом случае означает сомнение. В пользу князя замечу, он джентльмен. Но, скажу вам откровенно, у прокурора, моего коллеги Грубешова, сомнений нет ни малейших. Он, как бы это лучше выразиться, убедил себя еще прежде самого факта. Поверьте, я говорю это не с кандачка. Грубешов не однажды требовал от меня – он настаивал – крайне сурового обвинения для вас, прямо в упор, в убийстве Жени Голова, и я отказывался наотрез. Ну, от всего такого тоже ведь нервы сдадут. Однако – вы должны знать, это важно – так долго продолжаться не может. Если я не вынесу этого обвинения, другой кто-то да вынесет. Они от меня избавятся при первой возможности, и тогда я для вас буду решительно бесполезен. И потому я прикинусь, будто с ними сотрудничаю, а сам тем временем буду продолжать свое расследование, пока не получу полных и неопровержимых доказательств. И тогда я вновь представлю свои свидетельства министру юстиции, а если и это не возымеет действия, я посвящу в свои разыскания прессу и будет скандал. Хочу надеяться. Собственно, и теперь уже я намереваюсь тайно оповестить одного-другого влиятельного журналиста об истинном положении дел, о том, что обвинение против вас – совершенный пшик, зиждется исключительно на анонимных доносах да на нескольких провокационных пасквилях в реакционных газетах. Я это бесповоротно решил, когда сегодня не мог уснуть. И тотчас решил пойти к вам, сообщить о моих планах, чтобы вы не думали, что нет у вас в мире друга. Я знаю, вас обвинили ложно. Я непременно буду продолжать свое расследование, сколько позволят мои способности и силы, откопаю всю правду и, если понадобится, доведу до сведения широкой публики. Я делаю это для России, как и для вас, и для самого себя. И потому я прошу, Яков Шепсович, хоть и понимаю, как тяжелы ваши испытания, вашего доверия и терпения.
– Спасибо вам, ваше благородие, – сказал Яков, и голос у него задрожал. – Когда ты привык выходить за порог своей хатки, чтоб дохнуть свежего воздуха, глянуть на небо, погадать, будет дождь или нет – хотя какая тебе разница? – трудно жить в тесной, темной одиночке; зато я теперь знаю, что есть кто-то, кто знает, что я сделал, а чего я не делал, кому я верю, хотя мне бы хотелось услышать, что вы имели в виду, ваше благородие, под «истинным положением дел» раньше еще, когда говорили насчет журналистов.
Бибиков опять подошел к двери, тихонько ее приотворил, выглянул, тихонько закрыл дверь, вернулся, опять сел на стул и приблизил лицо к Якову.
– По моей теории, убийство было совершено бандой Марфы Головой, головорезами и взломщиками, в частности неким Степаном Булкиным, любовником, который по ее милости ослеп и, возможно, таким образом он отомстил за потерю зрения. Мальчик был совершенно лишен материнского пригляда. Марфа – женщина дурная, тупая и хитрая, с ухватками завзятой проститутки. Очевидно, Женя грозился, и, возможно, не раз, донести об их преступных проделках в окружную полицию, и, возможно, любовник этот ее же и убедил, что с ребенком надо покончить. Возможно, все это случилось во время общей попойки. Женю убили, я просто убежден, в материнском доме. И ведущую роль в страшном жертвоприношении исполнял Булкин. Они, очевидно, его мучили, всего искололи ножом, подтирая брызгавшую кровь, чтобы на полу не осталось уличающих пятен, – так и вижу, как они сжигают кровавые тряпки, – и наконец всадили ему нож прямо в сердце. Только вот я не в состоянии решить: сама Марфа присутствовала при этом или валялась пьяная?
Мастера передернуло.
– И как же вы догадались, ваше благородие?
– Сам не могу вам объяснить, я только определенно знаю одно: воры обычно ссорятся, а Марфа, я же говорю, тупа, хотя и хитра. Истина непременно всплывет, от нас требуется только терпеливо работать. У нас есть основания полагать, что она неделю держала сыновнее тело в ванной, прежде чем его отнесли в пещеру. Мы разыскиваем одну соседку, которая, кажется, что-то такое видела и потом перебралась подальше, как легко можно себе представить, до потери рассудка запуганная угрозами Марфы. Воры, естественно, настаивают на версии ритуального убийства, чтобы спасти свою шкуру. А вот с чего первоначально пошло это обвинение против вас, мы пока не дознались. Можно подозревать, что Марфа сама написала анонимное письмо, намекая, что грязное дело совершили евреи. Первое письмо в полицию было подписано «Христианин». Я это знаю доподлинно, хотя пока не держал документа в руках, не удалось заполучить. Воры, конечно, пойдут на все, чтобы поддержать обвинение против вас, да и что им стоит выдать себя под клятвой за «живых свидетелей» вашего «преступления». Им есть чего боятся, и они опасны. А мой Иван Семенович, кстати, убежден, что Прошко и Рихтер сами спалили конюшни Николая Максимовича и никакое содействие еврейских демонов вовсе им не понадобилось.
– Такие дела, – вздохнул Яков. – Под этим вот миром таится совсем другой. Вы меня, конечно, извините, ваше благородие, но прокурор, он тоже знает про то, что вы мне сейчас рассказали?
Бибиков устало обмахивался шляпой.
– Откровенно говоря, я не могу вам сказать, что он знает и чего он не знает. Я не принадлежу к числу его доверенных лиц – но, подозреваю, он знает больше, чем делает вид. Еще я знаю, что он честолюбец и ретроград и неугомонный карьерист. В юности он был отчаянным украинским патриотом, но, войдя в эту должность, стал более русским, чем сам государь император. Когда-нибудь, если только Господь попустит, он будет заседать в Верховном Суде – это, бесспорно, самое его сокровенное желание. Если такое случится, у нас будет «правосудие» без правосудия. – Бибиков вдруг осекся и, помолчав, прибавил: – Я весьма вам буду признателен, Яков Шепсович, если вы никому не станете передавать того, что я вам доверил. Я часто болтаю лишнее, как многие русские люди; да и очень уж хотелось чуть-чуть облегчить вам душу. Это я в общих наших интересах оговариваюсь.
– Кому же я буду такое передавать, если бы даже меня не окружали сплошные враги? Но я вот что хочу спросить: неужели господин прокурор и вправду верит, что я убил этого мальчика, и действительно верит тому, что говорил священник тогда в пещере?
– Насчет того, во что он истинно верит, снова я должен признаться в своем неведении, хоть часто вижу его по служебной надобности. Мне кажется, он предпочитает верить тому, чему верят вокруг. Не стану утверждать, будто знаю, какие именно предрассудки и мусор свалены в его голове, ни какой они служат цели. Но он отнюдь не дурак, уверяю вас. Он знает нашу историю и сведущ в законе, хотя дух закона от него ускользает. Он, разумеется, знает, что Александр Первый в 1817 году и Николай Первый в 1835-м особыми указами запретили преследования «по кровавому навету» евреев, живущих на российской земле, хотя, нельзя отрицать, на наших глазах преследования эти возобновились и погромы служат сейчас политическим целям. Не мне вам напоминать, что в последнее время мы видим, увы, досадное отступление прогресса, и тем более оно досадно, что ведь было же кое-что достигнуто после освобождения крестьян. Какое-то проклятие, кажется мне, тяготеет над страной, где человек владел человеком, как вещью. Смрад этой порчи не дает покоя душе, и это запах грядущих бед. И все же тех царских указов никто же не отменял, и, значит, они сохраняют законную силу. Если бы Грубешов дал себе труд вообще покопаться в предмете, как я покопался недавно, он тоже бы знал, что кое-кто из католических пап, в том числе какой-то Иннокентий, какой-то Павел, Климент и Григорий, вот только я не в силах усвоить их номера, выпускали специальные энциклики против «кровавых наветов». Один папа, кажется, даже назвал их «беспочвенной, вредной выдумкой». Но вот что, интересно, я обнаружил: те самые обвинения, какие выдвигаются против евреев, были в ходу у язычников первого века, во оправдание гонений и казней ранних христиан. Их, христиан, тоже называли ведь «кровопийцами», и можно отчасти даже понять почему, если знать католическую мессу. Кровавая мистика соответствует и примитивным верованиям о чудодейственной силе крови. Что говорить, и по цвету, и по составу – поистине особенная субстанция.
– Так почему же, раз сам папа говорит – нет, священник говорит – да?
– Этот отец Анастасий обыкновеннейший шарлатан. Он состряпал идиотскую антисемитскую брошюрку на латыни, привлек к себе внимание высших кругов, ну и те ему поручили свидетельствовать против вас. Вокруг него собраны главные погромные силы. Интересно, между прочим, что убийство Жени Голова произошло вскоре после появления этой его брошюрки. Он был ксендзом, лишен сана за какие-то темные делишки, за растрату церковной кассы скорее всего, а недавно вот явился сюда из Польши и перешел в Православную церковь, чей Синод, между прочим, не поддерживает обвинения против вас, хотя и не отрицает. Киевский митрополит, кстати, мне сообщил, что он умывает руки.
– Что это меняет? – пробормотал мастер.
– Боюсь, ничего. Вы французский немного знаете, Яков Шепсович? – спросил Бибиков.
– Нет, не скажу, ваше благородие.
– У французов есть поговорка: «Чем больше все изменяется, тем больше все остается по-прежнему». Согласитесь, отчасти это справедливо, и особенно в отношении так назаваемого «общества». В сущности, оно не изменилось с баснословных времен, как бы ни пытались мы представлять себе цивилизацию синонимом прогресса. Я, честно сказать, уже в этом разуверился. Я уважаю человека за испытания, какие приходится ему претерпевать в жизни, а порой и за то, как он их претерпевает, но изменился он мало с тех пор, как стал себя считать цивилизованным, ну, и то же относится к обществу. Да, так я чувствую, однако должен оговориться, хоть вы, верно, и сами уж догадались, что я в некотором роде стремлюсь совершенствовать мир. Так сказать, я действую как оптимист, потому что в качестве пессимиста я и вовсе уж был бы ни на что не пригоден. Как посмотришь, что творится вокруг, видишь эту разнузданность, неразбериху, часто опускаются руки, вот и пытаешься нащупать какие-то нити и по мере возможности ввести этот хаос хоть в какие-то рамки; и должность эту не бросишь, без нее я ноль, пользы от меня никакой – ну и остаешься, исполняешь ее, рискуя потерять терпение и отчасти человеческий облик.
Эх, ну да что! – продолжал он. – Но кстати, если бы господин прокурор дал себе труд слегка покопаться в Ветхом Завете, он, я уверен, знал бы запреты евреям в Левите: никакой крови не употреблять в пищу. Точно цитировать не берусь, выписки у меня дома, в столе, но, в общем, Господь предупредил, что всякий, кто будет есть кровь, израильтянин или иноземец, Он того отлучит от народа его. [16]16
См. Левит, 7: 26–27: «и никакой крови не ешьте в жилищах ваших ни из птиц, ни из скота; а кто будет есть кровь, истребится душа та из народа своего».
[Закрыть]И царю Давиду потом Он не попустил воздвигнуть Ему храм, ибо тот вел многие войны и пролил в них много крови. Да, Он последовательный Б-г, пусть и не кроткий. И еще я почерпнул из разных русских трудов о Ветхом Завете и других священных еврейских текстах, что там нигде никаких нет законов или установлений, какие разрешали бы евреям употреблять кровь, в частности христианскую кровь, в религиозных целях. Те, у кого я наводил справки – тайно, сами понимаете, – мне объяснили, что запрещение употреблять кровь для любых целей никогда не отменялось и не видоизменялось в позднейших еврейских писаниях и законах, в литературных и медицинских источниках. Что касается медицины – кровь никогда не прописывается, ни для внутреннего, ни для внешнего применения. И так далее и так далее. Есть бездна фактов, с которыми Грубешову не мешало бы ознакомиться, – и уверяю вас, я очень и очень подумываю, не представить ли ему для размышлений мои выписки. Признаться, Яков Шепсович, мне самому неловко так унижать перед вами своего коллегу, но я пришел к печальному выводу: что бы он сам ни знал, что бы ни узнал благодаря моему вмешательству – если это способствует доказательству вашей невиновности, пусть даже и не вовсе бесполезно, но полностью противоречит его задачам и целям. Он хочет, чтобы вы были осуждены.
Яков тискал себе руки.
– Так что же мне делать, ваше благородие? Значит, так и бросили меня погибать в этой тюрьме?
– Ну кто же вас бросил? – Следователь ласково глянул на Якова.
– Конечно, не вы, и я премного вам благодарен. Но раз господину Грубешову не нужны ваши свидетельства, я и буду здесь гнить годами. А в конце концов, сколько длится у человека жизнь? И может быть, вы бы вынесли против меня какое-то несерьезное обвинение, так я бы по крайней мере мог увидеть адвоката?
– Нет, это решительно ни к чему. Убийство – вот в чем я буду вынужден вас обвинить. Боюсь, придется начать с этого. Адвокат ваш явится в должном порядке. А сейчас никакой адвокат не сделает для вас того, что могу сделать я, Яков Шепсович. А когда придет время, я уж пригляжу за тем, чтобы был у вас хороший адвокат. У меня уже есть один такой на примете – человек сильный, смелый, с прекраснейшей репутацией. Очень скоро я с ним снесусь, и, я уверен, он не откажется представлять ваши интересы.
Мастер благодарил.
Бибиков, глянув на часы, вдруг поднялся.
– Что же еще вам сказать, Яков Шепсович? Доверьтесь истине и претерпите свои испытания. Пусть ваша невиновность вас укрепит.
– Не так-то это легко, ваше благородие. Мне не очень подходит такая жизнь. Трудно изображать из себя пса. Нет, я не то хочу сказать, но все немного перевернулось вверх дном, это да. Что я хочу сказать, так я устал от тюрьмы, и я человек не храбрый. Честно признаться, меня день и ночь мучат страхи, ни на минуту они меня не отпускают.