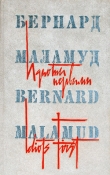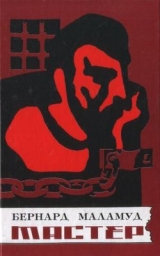
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
Дни идут, и русские официальные лица ждут с нетерпением, когда начнутся у него менструации. Грубешов и армейский генерал то и дело сверяются с календарем. Если скоро не начнется, они грозятся качать кровь у него из пениса, у них есть такая машинка. Машинка эта представляет собой насос из железа с красным указателем, чтобы знать, сколько выкачано крови. Однако у насоса есть недостаток – он не всегда работает правильно и, бывает, выкачивает из тела всю кровь без остатка. Применяется он исключительно к евреям – только у них для этого подходящий пенис.
Утром в камеру пришли надзиратели и грубо его растолкали. Тщательно обыскав, приказали одеться. В наручах и ножных кандалах его протащили наверх на два марша, он-то надеялся, что в кабинет к Бибикову, но оказалось, к прокурору, через площадку. В прихожей, на скамье у стены, двое в потрепанном платье украдкой глянули на арестанта и опустили глаза. Шпионы, подумал Яков. Кабинет у Грубешова был просторный, с высоким потолком; большая икона – распятый Христос с синим нимбом – висела на стене над письменным столом, за которым, листая бумаги и сверяясь с раскрытыми книгами, сидел сам генеральный прокурор. Мастеру приказали сесть напротив Грубешова, а позади него встали конвойные.
День был знойный, окна закрыли из-за жары. Прокурор был в светло-зеленом костюме, на той же грязно-желтой манишке торчала черная бабочка. Баки прокурора были аккуратно расчесаны, потное лицо, толстый загривок и ладони он утирал большим носовым платком. Яков, угнетенный своим ночным кошмаром, не мог себя заставить смотреть на прокурора после действа в пещере и чувствовал, что вот-вот задохнется.
– Я решил в ожидании суда поместить вас в камеру предварительного заключения Киевского острога, – сказал Грубешов, высморкавшись и тщательно вытирая нос. – Трудно, разумеется, сказать, когда состоится суд, а потому я счел за благо сначала поинтересоваться, не стали ли вы сговорчивей? У вас было время поразмыслить, и, возможно, вы теперь не станете запираться. Ну-с, что скажете? Дальнейшее упрямство ничего вам не даст, кроме головной боли. Сговорчивость, может статься, облегчит вашу участь.
– Что же я еще могу сказать, ваше благородие? – Мастер тяжело вздохнул. – Я заглянул в небольшую кладовую, где лежат все мои слова, и ничего больше не могу сказать, кроме того, что я невиновен. И никаких свидетельств против меня нет, потому что я не делал того, что вы про меня говорите.
– Очень, очень жаль. Ваша роль в этом убийстве была нам ясна еще до того, как мы вас арестовали. Вы – единственный еврей, живший в Лукьяновском, исключая Мандельбаума и Литвинова, купцов первой гильдии, которые были вне пределов России во время совершения убийства, возможно, и неспроста. Мы сразу заподозрили еврея, ибо русский подобного преступления совершить, конечно, не мог. Русский человек способен в драке перерезать кому-то горло, способен вдруг отдубасить кого-то до смерти, но никогда он не станет изуверски мучить невинного ребенка и наносить на его тело сорок семь смертельных ран.
– Так же, как и я, – сказал мастер. – Что-что, а это не в моем характере.
– Тяжесть улик говорит против вас.
– Так может быть, это неверные улики, ваше благородие?
– Улики есть улики, они не могут быть неверными.
Голос у Грубешова стал чуть не заискивающим:
– Скажите правду, Яков Бок, не заставила ли вас еврейская нация совершить это преступление? Вы кажетесь человеком положительным, возможно, вы не хотели, но вам приказали, вас склонили посулами и угрозами, и вы против собственной воли совершили для них это убийство? Иными словами, возможно, это не вы задумали, а они? Если вы это признаете, скажу вам откровенно, ваша жизнь станет легче – выразимся так. Мы приостановим расследование. Возможно, через какое-то время вы будете отпущены под честное слово, приговор будет отсрочен. Иными словами, откроются кой-какие возможности. Единственное, что мы просим у вас, – вашу подпись, заметьте, не так уж много.
Лицо у Грубешова блестело от пота, он, кажется, делал больше усилий, чем хотел показать.
– Как же я могу сделать такую вещь, ваше благородие? Не могу я сделать такую вещь. Зачем я буду валить вину на невинных людей?
– История доказывает, что не так уж они невинны. К тому же я не понимаю ваших ложных угрызений. В конце концов, вы сами говорили, что вы свободомыслящий, вы при мне говорили. Евреи очень мало для вас значат. Я так понимаю, что вы сами по себе, и я вас за это не осуждаю. Смотрите же, у вас есть возможность освободиться от пут, в которых вы застряли.
– Если евреи для меня ничего не значат, так почему же я здесь?
– Вы по неосторожности стали орудием их гнусных целей. Что они для вас сделали?
– В конце концов, ваше благородие, они хотя бы оставили меня в покое. Нет, я такое не могу подписать.
– Тогда примите во внимание, что последствия из этого могут для вас проистекать весьма и весьма тяжелые. Приговор суда будет наименьшей из ваших бед.
– Прошу прощения, – сказал мастер, задыхаясь, – неужели вы верите во все эти сказки про колдунов, которые крадут кровь убитых христианских младенцев и подмешивают в мацу? Вы же образованный человек, конечно, вы не верите таким суевериям.
Грубешов, слегка усмехнувшись, откинулся на стуле.
– Я верю, что вы убили Женю Голова для ритуальных целей. Когда им станут известны эти истинные факты, все русские им поверят. Вот вы – верите? – спросил он у конвойных.
Те рьяно подтвердили, что верят.
– Ну конечно, мы верим, – сказал Грубешов. – Еврей есть еврей, тут ничего не попишешь. Их историю и характер ничто не изменит. Уж такая у них природа. Это доказано научными исследованиями Гобино, Чемберлена [15]15
Гобино, Жозеф Артюр де (1816–1882), французский социолог, один из основоположников расизма. Чемберлен, Хьюстон Стюарт (1855–1927), последователь Гобино; внес свою лепту в развитие национал-социализма.
[Закрыть]и других. Мы тут в России, кстати, тоже готовим свое исследование о типичной еврейской внешности. У нас поговорка есть, что на воре шапка горит. Что касается еврея – так на нем нос горит, изобличая преступника.
Он раскрыл блокнот на рисунках чернилами и карандашом и так повернул, чтобы Яков мог прочесть наверху страницы надпись: «Еврейские носы».
– Вот, например, ваш. – И Грубешов ткнул в тонкий горбатый нос с тонкими ноздрями.
– А это ваш, – сипло сказал Яков и показал на короткий, мясистый нос с широкими крыльями.
Прокурор, хоть в лицо ему кинулась краска, тонко усмехнулся.
– А вы, однако, остряк, – сказал он, – но это вам не пойдет на пользу. Судьба ваша предрешена. У нас гуманное общество, но мы умеем карать злостных преступников. Быть может, я должен вам напомнить – чтобы вы не забывались, – каким способом казнили вашего брата еврея в не столь уж отдаленном прошлом. Евреев вешали в шапках, полных горячей смолы, а рядом с каждым, чтобы показать людям все ваше ничтожество, вешали собаку.
– И палач стоил висельника, ваше благородие.
– Укусить не можешь, так зубы не показывай! – Шея у Грубешова побагровела, и он огрел мастера линейкой по челюсти. Линейка треснула, одним краем щелкнула по стене, Яков взвыл. Конвойные взялись колотить его по голове кулаками, но прокурор сделал им знак, чтобы перестали.
– Можешь звать теперь Бибикова до скончания века, – орал он на мастера, – я тебя в застенке буду держать, пока все кости у тебя не сгниют! На коленках будешь передо мной ползать, чтобы только позволил назвать, кто велел тебе убить невинного мальчика!
2
Боялся он, что плохо ему будет в тюрьме, так с самого начала и вышло. Такое уж мое счастье, думал он с тоской. Как это говорится? «Если бы я торговал свечами, никогда не садилось бы солнце». Но я, наоборот, Яков Бок, и оно садится, каждый час оно садится. Такому человеку, как я, жить опасно. Одно я могу сказать: надо меньше говорить, гораздо меньше, или я погублю себя. Да уже я погиб.
Здание Киевского острога, тоже в Лукьяновском, было высокое, мрачное, похожее на старинную крепость, и на большом грязном внутреннем дворе была со стороны железных ворот настоящая свалка – поломанные телеги, почернелые доски, гниющие тюфяки и еще груды песка и камней, подле которых заключенные иногда возились с цементом. Расчищенный же участок между большим тюремным корпусом и конторами служил для прогулок. Якова вместе с конвоем везли сюда на конке несколько верст от окружного суда, где он до тех пор содержался. В тюрьме кривой надзиратель приветствовал мастера: «А-а, кровосос, вот тебе и земля обетованная!» Старший надзиратель, тощий, узколицый господин с провалившимися глазами и четырехпалой правой рукой объявил: «Мы тебя накормим мукой и кровью, пока мацой не начнешь срать». Служащие и писаря высыпали из контор поглазеть на еврея, но смотритель Грижитской, старик на седьмом десятке, с жидкой изжелта-седой бороденкой, в мундире с эполетами и фуражке, толкнул какую-то дверь, ввел мастера к себе в кабинет и уселся за стол.
– Мне таких здесь не надо бы, – сказал он, – но делать нечего. Я слуга царю, должен исполнять его указы. Ты мерзейший из гадов еврейских – я читал о твоих подвигах, – но при всем при том подданный Государя Императора Николая Второго. И стало быть, вы останетесь у меня до дальнейших распоряжений. Ведите себя прилично. Будете подчинятся правилам, делать все, что вам скажут. Не то вам же хуже будет. Ни под каким видом не пытайтесь снестись с кем бы то ни было за пределами тюрьмы без моего ведома и разрешения. Нарушишь правила, пристрелят на месте. Ясно?
– И сколько я здесь пробуду? – через силу выговорил Яков. – То есть, я имею в виду, меня ведь пока не судили.
– Столько, сколько сочтут нужным вышестоящие власти. А теперь попридержите язык и ступайте вот за сержантом. Он вам расскажет, что надо делать.
Сержант с вислыми усами повел мастера по коридору, мимо тусклых помещений, где чиновники глазели на него из дверей, в длинную комнату с конторкой и несколькими скамьями и там приказал ему раздеться. Яков переоделся в светлый мешковатый, пропахший потом халат и обвислые дерюжные штаны. Еще ему дали рубаху без пуговиц и сношенное пальто, когда-то коричневое, наверно, а теперь серое, – чтобы укрываться или на нем спать. Когда Яков стягивал с себя сапоги, перед тем как влезть в арестантские коты, тяжелая тьма застлала ему глаза. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, но нет, он им не доставил этого удовольствия.
– Сядь на стул, постригут, – приказал сержант.
Он сел на стул с прямой спинкой, но когда тюремный цирюльник уже нацелился большими ножницами на гриву Якова, сержант справился с какой-то бумагой и его остановил.
– Не велено. При волосах его оставишь.
– Вот, вечное дело, – огрызнулся цирюльник. – Отроду этим сволочам поблажки.
– Состригите! – крикнул Яков. – Состригите мне волосы!
– Молчать! – заорал сержант. – Приказания чтобы соблюдать беспрекословно. Марш!
Он отпер большим ключом железную дверь и по сырому тусклому коридору провел мастера в большую, набитую арестантами камеру, с одной стороны отгороженную решеткой, а напротив этой решетки была стена, и через два узких грязных оконца под самым потолком тек слабый свет. Вонючая параша была в глубине камеры.
– Это предварительного заключения камера, – сказал сержант. – Пробудешь тут месяц, а там или в суд, или еще куда направят.
– Куда?
– Это сам увидишь.
И какая мне разница куда? – мрачно подумал мастер.
Шум в камере стих, когда со скрежетом открылась железная дверь, и будто ватное одеяло набросили на арестантов, когда они увидели Якова. Когда дверь за ним закрылась, снова они заговорили и зашевелились. Человек двадцать пять сунули в одну комнату, и от их острой вони было не продохнуть. Одни сидели на полу, играли в карты, двое танцевали, тесно прижимаясь друг к другу, кто-то дрался, пока не свалит противника, и того, кто падал, пинали ногами. Старый сумасшедший без конца вскакивал с поломанного стула и снова садился. Кто-то с больным, изможденным лицом не переставая колотил себя по ноге другой пяткой. В камере были столы и скамьи, но ни подстилок, ни коек не было. Общей постелью служил деревянный помост вдоль стены, на сантиметр поднимавшийся над вонючим сырым полом. Яков забился в дальний угол, сидел и думал про горькую свою судьбу. Он бы клочьями рвал на себе волосы, да боялся, что заметят.
3
Стражник с ружьем по ту сторону решетки крикнул: «Ужинать!», двое других отперли дверь и внесли три дымящихся ведра с похлебкой. Арестанты, гомоня и толкаясь, налетели на эти ведра. У Якова маковой росинки во рту не было со вчерашнего, и он медленно поднялся. На каждое ведро полагалось по одной деревянной ложке. Арестант, сидя перед ведром на полу, выхлебывал десять ложек жидких, чуть подгущенных ячменем щей и передавал ложку тому, кто сидел рядом. Если кто норовил зачерпнуть больше положенного, сотрапезники его колотили. Ложка переходила по кругу, потом все начиналось сначала.
Яков протиснулся к тому ведру, что поближе, но тут колченогий, в шрамах по всей голове, перестал есть и с ликующим криком выудил дохлую мышь с повылезшими кишками. Он держал за хвост эту мышь, а другой рукой жадно выхлебывал щи. Товарищи, вырвав из рук ложку, оттолкнули его от ведра. Колченогий проковылял к другому ведру, он размахивал мышью перед лицами едоков, и они матерились, но никто не отходил от щей. Тогда он стал плясать со своей дохлой мышью. Яков заглянул в другое ведро, но оно было пустое, только плавали на дне несколько дохлых тараканов. В третье заглядывать он не стал. Не соблазнил его и бесцветный неслащеный чай, который разливали по жестяным кружкам. Он надеялся на кусок хлеба, но хлеба ему не дали, сержант его не поставил на довольствие. Ночью, когда остальные храпели на помосте, Яков, кутаясь в пальто, хоть было не холодно, ходил взад-вперед по камере, до крови растирая котами ноги. Когда он обессилел и лег, защищая лицо от мух обрывком подобранной с пола газеты, почти сразу его разбудил дребезг колокольца.
За завтраком он заглотал жидкий чай, вонявший сырым деревом, но к жидкой серой каше в ведре так и не притронулся. Деревянные эти бадьи, он слышал, используют в бане, когда в них нет похлебки и каши. Попросил хлеба, но надзиратель сказал, что его все еще не поставили на довольствие.
– Так когда же меня поставят?
– Пошел ты куда подальше, – сказал надзиратель, – не лезь.
Мастер заметил, что отношение к нему арестантов, сперва равнодушное, теперь изменилось. Они как-то притихли. Все утро, сходясь у параши, они шептались, поглядывали на Якова. Колченогий то и дело мерил его хитрым, колючим взглядом.
У Якова ползли по спине мурашки. Что-то случилось, думал он. Может, кто-то им про меня рассказал. Если они думают, что я убил христианского мальчика, конечно, они хотят убить меня.
В таком случае, может быть, надо позвать надзирателя, попросить, чтобы перевел его в другую камеру, пока его здесь не убили? Но предположим, он позовет надзирателя, и что с ним тогда будет? Что, если сокамерники на него набросятся, а надзиратель и пальцем не двинет?
Во время утренней десятиминутной «прогулки», когда их водили по двору, построив парами – двенадцать пар, перерыв в два шага, и снова двенадцать пар, – и вооруженные часовые, иные с кнутами в руках, подпирали высокие крепостные стены, колченогий, пристроившийся в паре за мастером, шепнул ему:
– А чего у тебя голова-то не выбрита?
– Я не знаю, – шепнул Яков. – Я сказал цирюльнику, чтобы меня постриг, а он не стал.
– Ты, случаем, не шпион, не подсадная утка?
– Нет, нет и нет, уж вы им скажите.
– Так чего ж ты нас сторонишься? Больно много о себе понимаешь?
– Сказать по правде, у меня ноги болят в этой обуви. И я впервые в тюрьме. Стараюсь привыкнуть, но не так-то это легко.
– Посылки не ожидаешь? – спросил колченогий.
– Кто будет мне посылать посылки? Никого у меня нет такого. Жена меня бросила. Все мои знакомые – бедные люди.
– Ладно, если получишь, делись и чтобы всем поровну, такое мое правило. Здесь так заведено.
– Да, да.
Дальше колченогий ковылял уже молча.
Они не знают, кто я, подумал Яков. И надо быть с ними поразговорчивей. Знали бы, так били бы, а не спрашивали.
Но когда воротились в камеру, арестанты стали возбужденно шептаться. Яков вспомнил, как его били в камере окружного суда, и его прошиб пот.
Скоро высокий арестант со слезящимися глазами отделился от остальных и двинулся к Якову. Был он сильный, широкий в кости, с бледным, жестким лицом и почти черной шеей, но почему-то на тонких кривых ногах. Шел он медленно, странно, так, будто придерживал сползающие штаны. Мастер, сидевший привалясь к стене, тут же вскочил.
– Слышь-ка, браток, – начал высокий. – Фетюков мое фамилие. Мужики вот меня отрядили с тобой переговорить.
– Вы беспокоитесь, что я шпион, – заторопился Яков, – но это вы напрасно беспокоитесь. Я здесь как все остальные, я жду суда. Я не просил никаких поблажек, и не то чтобы я их имел. Мне даже хлеба не дают. А если вы насчет волос, так я говорил цирюльнику, чтобы он меня постриг, но сержант – почему-то, я знаю? – сказал, что не надо.
– А в чем обвиняют тебя?
Мастер провел по губам сухим языком.
– В чем бы ни обвиняли, я ничего такого не делал. Даю вам слово. И это так сложно, это долго рассказывать, и получится скучная, утомительная история, которую я и сам толком не понимаю.
– А я вот убивец, – сказал Фетюков. – Чужого человека убил, в селе у нас, в кабаке. Поддел он, что ль, меня, а я возьми да его пырни, один раз в грудь, а когда уж падал он, в спину еще. Тут и конец ему. Выпил я малость, а как сказали мне, чего я учинил, уж так я удивился. Я человек мирный, меня не тронь, и никогда я никакой беды не наделаю. Думал ли гадал, что человека я убью? Скажи мне кто такое, я бы в глаза тому посмеялся.
Глядя на убийцу, мастер осторожно отполз от него по стене. И увидел, как двое других с обеих сторон надвигаются на него. Он закричал, Фетюков сзади взмахнул короткой тяжелой дубинкой, вытащив ее откуда-то из штанов, и тяжело огрел Якова по голове. Мастер упал на одно колено, обеими руками обхватил раскалывающуюся от боли, окровавленную голову и рухнул.
Очнулся он, лежа на склизком деревянном помосте. Мучительно ныла вся голова, с левой стороны пульсировала рвущая боль. Он нащупал пальцами мокрую рану. Из нее текла кровь. Тоска его охватила. Неужто каждый раз, когда его будут переводить в новую камеру, арестанты станут его избивать? Ничего не видя, он сел, и кровь потекла по лицу.
– Ты б утерся, – посоветовал смотревший на него старик в разбитых очках. Это был парашечник, он выносил парашу, вносил ведро с водой для питья, изредка подтирал мокрый пол. – Вон у двери ведро-то стоит.
– Зачем надо бить человека, который ничего тебе не сделал? Ну что я вам сделал?
– Слышь, парень, – зашептал старик, – кровь ты смой поскорей, покудова стражник не заявился, не то убьют они тебя.
– Пусть убьют! – крикнул Яков.
– Говорил я вам, он шпион вонючий! – крикнул колченогий с дальнего конца камеры. – Кончай его, Фетюков!
Камера возбужденно загудела.
Двое стражников вбежали из коридора, один с ружьем. Они подглядывали из-за решетки.
– Что тут у вас? А ну прекратить шум, не то на неделю паек урежут!
Еще один вглядывался через решетку в тускло освещенную камеру.
– Где тут еврей? – крикнул он.
Повисла мертвая тишина. Арестанты переглядывались; кое-кто украдкой скашивал глаз на Якова.
Погодя мастер отозвался. По камере прошел гул. Стражник наставил на арестантов ружье, гул пресекся.
– Где? – сказал стражник. – Не видать тебя.
– Здесь я, – сказал Яков. – И видать особенно нечего.
– Сержант тебя записал на хлеб. Вечером получишь свой фунт.
– А пока про мацу помечтай, – сказал тот, что с ружьем, – и еще про кровь христианских мучеников, ясно тебе?
Стражники ушли, и затараторила камера. Снова Якову стало страшно.
Фетюков, убийца, снова к нему подошел. Мастер неловко поднялся, когтя пятернею стену.
– Ты и есть тот еврей, который, говорят, христианского мальчонку убил?
– Врут они, – хрипло сказал Яков. – Я невиновен.
Снова гул прокатился по камере. Кто-то крикнул: «Жид поганый!»
– Я не потому тебя стукнул, – сказал Фетюков. – Голова у тебя не выбрита, мы и подумали – шпион. Постановили тебя испытать, донесешь стражнику, нет ли. Донес бы – тут бы тебя и порешили. Колченогий бы прирезал. Всем на суд идти, и не надо нам, чтобы проведали, о чем промеж себя мы тут толкуем. Я не знал, что ты еврей. Знал бы, не стукнул. Я сызмальства в подмастерьях служил у еврея-кузнеца. Так он нипочем бы не сделал такого, чего на тебя наговаривают. Коли бы он крови выпил, сразу бы и сблевал. И христианского малого пальцем бы он не тронул. Прости, что ударил тебя, ошибка вышла.
– Ошибка вышла, – сказал колченогий.
Яков шатко прошел к бадье с водой. От бадьи воняло, но он встал на колени и плеснул водой себе на голову.
Арестанты уже потеряли к нему интерес, занялись своими делами. Кто улегся спать на склизком помосте, кто сел играть в карты.
В ту ночь Фетюков разбудил мастера и дал ему ошметок колбасы, которую сберег из сестриной посылки. Яков жадно набросился на колбасу. Еще убийца дал ему мокрую тряпку – приложить к вспухшей ране.
– Правду скажи, – шептал он, – убил ты парнишку этого? Может, по каким особенным причинам? Может, пьяный был?
– Ни по каким причинам, – сказал Яков, – и я не был пьян. Не было этого ничего, я невиновен.
– Ох, кабы я был невиновен, – вздохнул Фетюков. – Такую я беду учинил. И человек, главное, мне совсем чужой. Чужих любить положено, даже Святое писание обязывает. Выпил, понимаешь ты, и ну ничего не помню, и вдруг я за нож хватаюсь, и вот уж он мертвый передо мной на полу лежит. Господь жисть нам дает, а она вон на ниточке держится. Стукнул – и нет ее. И не знаю, почему такое, разве если только дьявол, может, силу оказывает. Будь на то моя воля – снова бы он ожил. Я бы ему сказал: живи, мол, а ко мне, значит, не приближайся. Сам не знаю, и почему я такое дело сделал, я убивцем быть не хотел. И то не сладко, зачем еще-то хуже делать? А теперь мне в каторгу идти, в Сибирь, а прокукую если весь каторжный срок, то мне вечное поселение выйдет. Браток, – сказал он Якову и его перекрестил, – ты надежды-то не теряй. Мост каменный искрошится, а правда – она все наружу выйдет.
– Да, но до тех пор, – вздохнул мастер, – что будет с моей погибшей молодостью?
4
Молодость утекала напрасно.
Он уже три месяца был в остроге, втрое больше, чем предсказывал Бибиков, и только Б-гу было известно, когда это кончится. За что нищего, безвинного мастерового сажают в острог? Что он сделал, чем заслужил это ужасное заточение, которому конца не видно? Разве мало несчастий выпало на его бедную голову и без всякой тюрьмы? Тщетно старался он найти ту связь событий, которая после отъезда из штетла неизбежно его вела в эту самую камеру в Киеве; но думать, что все неожиданности и случайности объяснялись каким-то предначертанием, было и вовсе невмоготу. Да, мир такой, какой он есть. Дождь гасит костры и выводит из берегов реки. Но так много вещей случается совсем непонятных, нелепых. Да, он наделал в своей жизни много ошибок, но разве такая кара по ним? Темной ночью он угодил в черную паутину потому только, что случайно был рядом, и теперь, как ни дергайся, ему не высвободиться из липких ячеек. Где же этот паук, что-то его не видно? Иногда он думал, что это Б-г его наказывает за неверие. Он же ревнивый, наш Б-г. «Мне единому поклонись», а другим нельзя, и вовсе не верить нельзя. Еще он винил гоев за вечную ненависть к евреям. Плохо складываются дела в какой-то момент истории, и – Б-г, не Б-г – так уже будет вечно. Но неужели не могло быть иначе? И снова и снова он проклинал себя. Ну, предположим, случилось бы такое с правоверным евреем, так нет же, случилось с тем, кто только что заделался свободномыслящим, а все потому, что он – Яков Бок. Он винил свои обычные ошибки – и не мог отличить совсем давних от тех, что прямо вели его к аресту в кирпичном заводе. Да, но конечно, что-то было не в нем, извне, какая-то злая судьба гнала, травила его всю жизнь и грозила, если не поостережется, ранней погибелью.
Он жаждал понять, кто он такой – Яков, мастеровой из местечка в черте оседлости, сирота, который женился на Рейзл Шмуэл, а она его бросила, проклятие на ее душу; который был беден всю свою жизнь, потел, зарабатывая на прожитье, был вообще во всех отношениях беден, – так что же он делает в этом застенке? Кого они наказывают, если вся жизнь его – сплошное наказание? Зачем невинного человека надо бросать в острог с толстыми каменными стенами? Может быть, умолить их его отпустить потому хотя бы, что ведь он не преступник – это известный факт, пусть порасспросят в штетле. Если бы кто-то из этих господ – Грубешов, Бибиков, смотритель – знал его раньше, никогда бы они не поверили, что он мог совершить такое страшное злодеяние. Только не он. Предположим, его невиновность была бы написана на листе бумаги, тогда он бы вытащил эту бумагу, сказал: «Читайте, тут все написано»; но раз она спрятана в нем, ее надо еще поискать, но они ведь не ищут. Как можно, внимательно глянув на Марфу Голову, увидев ее чудные повадки и эти ее сумасшедшие вишни на шляпе, не заподозрить, что она знает об этом убийстве больше, чем хочет признаться? И куда подевался следователь, он уже больше месяца не появлялся? Все еще он верен закону или он присоединился к другим в их злобной охоте на невиновного еврея? Или он просто забыл несчастного человека?
В первые дни пребывания в камере окружного суда обвинение казалось Якову нелепостью, чем-то совершенно несообразным с его жизнью и поступками. Но после того как его водили в пещеру, он не думал уже ни о какой сообразности, о правде, о доказательствах даже. Нет тут никаких «оснований», есть только заговор против еврея, какого еврея – не важно; случайно выбор пал на него, и жертвой стал он. Обвинение вынесено, и его будут мучить, а никаких больше нет «оснований». Если ты родился евреем, значит, ты отвечаешь перед историей, даже за самые ее роковые ошибки. История и случай впутали Якова Бока в такое, что ему в страшном сне не снилось. Выбор истории, случая был, можно сказать, безличный, но то, что претерпевал Яков, безличным не было. То, что претерпевал он, было лично, было больно, и этому не видно было конца.
Он угодил в западню, он чувствовал, что всеми покинут и помощи нет ниоткуда. Он исчез из мира, и никто, кого он мог бы назвать другом, не знал этого. Ах, и зачем он не послушался Шмуэла, не остался там, где ему место! В такую страшную кашу он влип, и ради чего? Ради каких-то возможностей? Ради возможности себя загубить. Ловил карасика, а попался акуле. Теперь догадаться нетрудно, кто хорошо покушает. И хотя он в конце концов кое-как понял, что происходит, или так ему казалось, что понял, он никак не мог с этим примириться. В иной философский миг он клял историю, антисемитизм, судьбу, а то, бывало, даже самих евреев. «Кто мне может помочь?» – кричал он во сне, но у других узников были свои мучения, свои ночные кошмары.
Однажды ночью ввели в камеру нового гостя, пухлого молодого человека с сонным лицом, светлой бородкой, маленькими руками-ногами, в своей, не казенной одежде. Сперва он был угрюм, каждый направленный на него взгляд отражал мрачным косым взглядом. Яков наблюдал его издали. Молодой человек был единственный толстый среди живых теней в камере. У него были деньги, он подкупал часовых, и те ему услужали, он получал по две больших посылки в неделю и не жалел еды и папирос. «Ешьте, ребята, на здоровье», – так он угощал сокамерников, нисколько не утесняя себя. Даже зеленые бутылки минеральной воды жертвовал на общую пользу. Он, кажется, ловко ладил с арестантами, некоторые играли с ним в карты. Колченогий даже набивался в слуги к нему, да он от него отмахнулся. И все-таки он нервничал, бубнил себе под нос, тряс головой, а то рвал грязными ногтями пухлые запястья. Одну за другой он отодрал все пуговицы с рубашки. Яков был не прочь с ним заговорить, но держался от него подальше – потому, наверное, что не умел говорить с богачами, отчасти же потому, что молодой человек явно не хотел, чтобы его беспокоили, а отчасти он и сам не мог объяснить почему. Молодой человек раздавал свои милости с притворным радушием, хоть глаза его выдавали, что человек он недобрый, а потом уходил в себя. И сидел один, и бубнил. Яков чувствовал, что тот его замечает. Каждый знал свое и поглядывал на другого. Как-то утром, после прогулки в тюремном дворе, в углу камеры начался у них разговор.
– Вы еврей? – спросил толстый молодой человек на идише.
Яков подтвердил.
– И я тоже.
– Так я и думал, – сказал Яков.
– Думали, так почему было не подойти?
– Решил не торопиться.
– Как вас зовут?
– Яков Бок.
– Гронфейн, Грегор. Шалом. И за что вы сюда угодили?
– Они говорят, что я убил христианского мальчика. – Снова не мог он унять дрожь в голосе, когда это выговаривал.
Гронфейн смотрел на него в изумлении.
– Так это вы? Б-г ты мой, почему же сразу было мне не сказать? Я счастлив, что оказался с вами в одной камере.
– Какое же тут счастье?
– Я слышал, что кого-то обвинили в убийстве русского мальчика, которого нашли в пещере. Каждому ясно, все это было подстроено, но слухи идут по Подолу, что одного еврея таки арестовали, хотя никто вас не видел и никто не знает кого. Но кто бы он ни был, он за всех за нас принес жертву. Так это вы, в самом деле?
– Да, но лучше бы был не я.
– У меня имелись сомнения, что такое лицо вообще существует.
– Вот именно, что существует, – вздохнул мастер. – Чтоб мой злейший враг так существовал.
– Не расстраивайтесь, – сказал Гронфейн. – Б-г вам поможет.
– Поможет он или нет, это уж как он решит, но если не он, кто-то, я надеюсь, должен вскоре помочь, иначе им останется только закопать меня в землю.
– Терпение, – рассеянно бросил Гронфейн. – Терпение. Какой-нибудь выход найдется. Пока человек жив, он не знает, какие перед ним вдруг могут возникнуть шансы. Зато мертвый человек не подписывает чеков.
И он стал говорить о себе.
– Конечно, мне лучше, чем некоторым, – сказал Гронфейн, и он, ожидая подтверждения, глянул на Якова, – потому что я побогаче. Уже сейчас первоклассный адвокат ведет мое дело, так сказать, в неофициальном порядке, и я не боюсь выложить лишнюю пару сотен, если потребуется. Источник мой от этого не иссякнет. Что я делаю – так я фальшивомонетчик. Это нечестно, да, но зато это выгодно, и если, положим, я немножечко и пощиплю царя Николашку, так он ведь тоже кое-что имеет с евреев. Однако если подкуп в данном случае не подействует, уж я не знаю, что и подействует. Что-то я на сей раз надолго застрял в тюрьме. Сами вы сколько уже сидите?
– Здесь около месяца. А в целом три месяца, как меня арестовали.