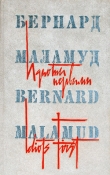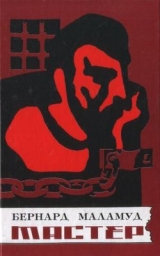
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Вы уж меня простите, – сказал Яков, – я не могу понять, чего вы от меня хотите. Какое я имею касательство к подобным вещам?
– Скоро поймете, если еще не поняли, очень даже скоро. – И Грубешов побагровел. – А тем временем ответьте мне честно и прямо, не изрыгая в ответ никому не нужных вопросов. Скажите, что у вас, у евреев, значит «афикомен»? Я требую чистой и голой правды, без всяких ваших финтифлюх.
– Но какое же это все имеет ко мне касательство? – спросил Яков. – Что я знаю про вещи, о которых вы меня спрашиваете? Если вам они непонятны, так же точно они непонятны и мне.
– Я должен еще раз просить вас оставаться в рамках вопроса. Последний раз вынужден терпеливо напомнить вам, что собственные ваши идеи мне решительно неинтересны. Возьмите в соображение, что вы уже попали в весьма серьезную неприятность, и попридержите язык.
– Точно я сказать не могу, – ответил совершенно раздавленный мастер, – но, по-моему, это такая маца, которую едят на Пасху, чтобы защититься от злых духов и злых людей.
– Запишите это все, Иван Семенович. И она обладает магической силой?
– На мой взгляд, это суеверие, ваше благородие.
– Но вы говорите, это то же самое, что и маца?
– В общем, то же самое, по-моему. Я в таких делах не специалист. Если хотите знать правду, меня эти дела не очень интересуют. Пусть кто хочет, придерживается обычая, я ничего не имею против, но лично для меня интересней все новое.
Он глянул на Бибикова, но господин следователь смотрел в окно.
Грубешов запустил пальцы в портфель и вытащил что-то, обернутое в платок. Медленно отогнул все четыре конца и торжествующе показал треугольный обломок мацы.
– Это было найдено в вашем помещении над конюшней в кирпичном заводе. Ну, что вы теперь скажете?
– Что я могу сказать, ваше благородие? Ничего. Это маца. Она не моя.
– Это «мацо шмуро»?
– Я не умею отличить, какая маца.
– Я так понимаю, что «мацо шмуро» едят очень религиозные евреи.
– Наверное.
– И чем же она отличается от обыкновенной мацы?
– Не спрашивайте меня про это, ваше благородие. Я сам не знаю.
– Я буду спрашивать, что мне заблагорассудится. Буду спрашивать, пока у тебя глаза на лоб не полезут. Понятно?
– Да, ваше благородие.
– Вы пекли эту мацу?
– Нет.
– Тогда каким же образом попала она в ваше жилище? Именно там ее обнаружила полиция.
– Ее принес один старик, мне он не знаком. Даю честное слово. Он заблудился ночью на кладбище, я взял его к себе переждать снегопад. Мальчишки ушибли его камнем. Он испугался.
– На кладбище в Лукьяновском – там это произошло?
– Там, где кирпичный завод.
– Он был «цадик»?
– Предположим, даже и так, но какое это ко мне имеет касательство?
– Отвечать с уважением! – Прокурор стукнул ладонью по столу. Маца свалилась на пол. Иван Семенович поспешил ее водворить на место. И всем дал посмотреть – она не разбилась. Бибиков облизал пересохшие губы.
– Отвечайте учтиво, – сказал он.
Совершенно отупевший Яков кивнул.
Снова Грубешов поклонился следователю:
– Примите мою нижайшую благодарность. – Он помолчал, будто хотел что-то добавить, потом передумал. – Этот ваш друг, этот «цадик», – часто он наведывался к вам в конюшню? – спросил он Якова.
– Он только раз и был. Он незнакомый мне человек. Я никогда его больше не видел.
– Потому что вас вскорости арестовали.
На это Якову было нечего возразить.
– Правда ли, что вы укрывали у себя других евреев и с их помощью сбывали ворованное добро?
– Нет.
– Вы постоянно обворовывали своего хозяина, Николая Максимовича Лебедева?
– Б-г мне судья, не утаил ни единой копейки.
– Вы уверены, что не сами пекли эту мацу? При обыске у вас обнаружено полмешка муки.
– Насчет мешка, ваше благородие, так это не та мука. И какой из меня пекарь. Пробовал как-то испечь хлеб, чтоб сберечь копейку-другую, да он у меня не взошел, как камень твердый получился. Зря только муку извел. Печь – это не моя работа. Я в основном плотничаю, крашу – я надеюсь, уцелели мои инструменты, мое единственное достояние на свете, – а вообще я то да се починяю, мацу я не пеку. Что надо, я могу смастерить, исправить, наладить, хотя много ли на этом заработаешь, да и не везло мне всегда с работой. Но только я не преступник, ваше благородие.
Грубешов с трудом дослушал.
– Отвечайте строго на поставленный вопрос. Получается, этот ваш «цадик» пек мацу?
– Если так, то не у меня в доме. Кто знает, если где-то еще, этого он мне не говорил, но по-моему, нет.
– Значит, ее пек другой какой-то еврей?
– Вероятно, и так.
– Это более чем вероятно, – сказал прокурор, сверля его взглядом. – Это святая истинная правда.
Увидев, как прокурор снова полез в свой проклятый портфель, Яков стал терзать под столом закованные руки.
Теперь Грубешов медленно вытащил длинную тряпку, всю в пятнах.
– А это раньше видал? – Он играл пальцами над столом, и плясала тряпка.
Бибиков следил за пляшущей тряпкой, отвлеченно протирая пенсне; Иван Семенович на нее уставился как зачарованный.
– Я вам опишу, – сказал прокурор. – Это обрывок крестьянской рубахи, вроде той, в которой вы и сейчас красуетесь. Эта тряпка, случаем, не из вашего ли гардероба?
– Я не знаю, – скучно сказал Яков.
– Советую подумать получше, Яков Бок. Когда чеснока не ешь, и вонять от тебя не будет.
– Да, ваше благородие, – как в воду кинулся Яков, – скорее всего она моя, хотя в этом ничего такого ужасного нет. Старика, про которого я вам говорил, ударили камнем в голову, и я использовал часть старой рубахи, я уже ее не носил, она буквально на мне рассыпалась, и стер ему кровь. Это правда, Б-г мне свидетель, и только и всего, я клянусь.
– Вы признаете, стало быть, что здесь пятна крови? – взревел прокурор.
Язык у Якова прилил к гортани.
– А прогоняли вы со двора кирпичного завода каких-нибудь детей, в частности двенадцатилетнего мальчика Женю Голова?
Мастер не в состоянии был ответить.
Грубешов поглядел на Бибикова, просиял широкой улыбкой и, кривляясь, спросил у мастера:
– Скази-ка мне, Янкель-зид, отчего ты дрожишь?
3
Отчего человек дрожит?
Когда его снова заперли в камере, там на полу лежали теперь уже три соломенные подстилки. Одна была его (думать о ней как о своей – какое несчастье!), и двое новых арестантов лежали на остальных. Один косматый, в лохмотьях, второй – живой скелет. От обоих через всю камеру воняло немытостью и нищетой. Никто на него и не глянул – оборванец, мигая, разглядывал стенку, другой храпел, – но мастер все же забился в самый дальний угол. Он был всеми покинут, забыт и брошен.
Что со мной теперь будет? – спрашивал он себя. И если случится беда – кто узнает? Я, можно сказать, уже умер. Он вспомнил свекра, вспомнил жену, но никого из них не мог представить с собою рядом. Жену особенно. Он о своих родителях думал, молодых людях в заросшей могиле, и судьба их не приносила ему утешения. Он был оскорблен, все надежды были растоптаны. Его оклеветали, он беззащитен, он не может ничего доказать, ему не поверят. Какой еще ужас припишут ему? Если бы они меня знали, как могли бы они говорить такое? Он старался понять, что происходит, объяснить самому себе. В конце концов, он же разумное существо, человек должен же попытаться рассуждать. Но чем дольше он рассуждал, тем меньше он понимал. Знакомое, близкое обернулось злом. Будущее грозит бедой. То, что он еврей, хочет он того или нет, разве может само по себе объяснить его участь? Он вспоминал свою жизнь и с отвращением думал о том, как она складывалась и складывается. Я мастер, но всегда я больше ломал, чем я мастерил. Что еще они мне припишут? Как может человек оправдаться, защититься от таких страшных намеков, наветов, обвинений, если никто не хочет ему поверить? Страх его мучил. Терзали ужасные мысли. Что делать? Как выбраться из камеры, броситься в гетто, найти того старика – пусть скажет этим русским, что его ударили камнем в голову и Яков утер ему кровь?
Мастер ходит от дома к дому, стучится в каждую ветхую дверь и спрашивает про того цадика, но никто не знает его; вот в самом последнем доме его знают, святой человек, только он уехал давным-давно. Яков спешно едет на поезде в Минск, месяцами отчаянно ищет и наконец как-то вечером встречает того старика в раввинской шапке, он идет из синагоги домой.
– Прошу вас, вам необходимо поехать со мной в Киев, доказать мою невиновность. Скажите этим чиновникам – я не делал того, в чем меня обвиняют.
Но старый цадик не узнает мастера. Долго смотрит он на него и трясет головой. Рана на виске затянулась, и он не может вспомнить ту ночь, которую, Яков говорит, он провел в комнате над конюшней.
И, вспомнив, где он теперь, Яков рвал себе руки ногтями, царапал себе лицо.
Тот, который храпел, охнул и проснулся.
– Акимыч, – выкрикнул он, – бывший портной! Невиновный я совсем, – захныкал он. – Не надо меня бить.
Второй фыркнул.
– Папироски не найдется, Почейкин? – спросил бывший портной косматого на другом матрасе. – Хоть бы окурочка?
– А-а, пошел ты, – сказал тот, который мигал, с налитыми кровью глазами.
– Папироски нет ли? – спросил Акимыч у Якова.
– У меня ничего нет, – сказал Яков. И вывернул карман.
– Ей-богу, тебе невдомек, почему я тут, – сказал Акимыч.
– Невдомек.
– Вот и мне тоже. Меня за другого приняли. Никогда я не делал такого, что они на меня вешают, чтоб им сиськой материной подавиться. За анархиста меня посчитали.
И он всхлипнул.
– А я тут из-за пачки прокламаций, что ли, или как их, – сказал Почейкин. – Одна сволочь – глаза горят, пальто плотное такое – подходит ко мне на Институтской. «Брат, – говорит, – мне поссать надо, так ты подержи, говорит, минуточку мою связку, а вернусь, я тебе пять копеек дам, будьте удостоверены». Ну что человеку скажешь, если ему поссать надо? Можно ему отказать? Он же меня, чего доброго, обольет. Ну, стою я, держу эту связку, а через две минуты легавый бежит, глаза бешеные, и пистолетом мне в брюхо тычет, так нажал, чуть кишки не выпустил, а потом волочет меня в часть и ничего слушать не желает, что я ему говорю. А там трое бугаев поохаживали меня дубинками, аж все кости трещат, и прокламации эти мне в рожу тычут: и там, оказывается, призывают свергнуть царя. Кому это надо – царя свергать? Я лично питаю самое глубокое почтение к нашему государю Николаю Второму и всему царскому семейству, в отношении молодых великих княжен в особенности, и царевича, бедного больного мальчика, люблю его как родного. Но никто мне не поверил, вот почему я и здесь. Все из-за треклятых прокламаций этих.
– А меня не за того приняли, – сказал Акимыч. – А с тобой чего, паря?
– То же самое.
– А в чем тебя-то винят?
Он подумал, что не надо им говорить, но как-то само собой у него вырвалось – обвинение обвинителям.
– Они говорят, что я убил мальчика, – и это подлая ложь.
В камере повисло молчание. Ну вот, ляпнул, думал Яков. Он поискал глазами надзирателя, но тот пошел за ведром с похлебкой.
Двое на подстилках шептали друг другу на ухо, сдвинув головы. Первым заговорил Акимыч, потом Почейкин.
– А ты убил? – спросил Акимыч у Якова.
– Нет, ну конечно, нет. Зачем бы я стал убивать невинного ребенка?
Они еще пошептались, и Почейкин сказал хрипло:
– Ты нам честно скажи – ты еврей?
– Какая же разница? – сказал Яков, но они снова стали шептаться, и тут он испугался.
– Ничего не затевайте, не то я надзирателя позову.
Акимыч, хмыкая, надвигался на мастера.
– Так ты и есть тот еврей, сволочь, который христианского мальчика убил и кровь из его косточек высосал? Я про это видел в газетах.
– Оставьте меня в покое, – сказал Яков. – Я ничего такого не сделал бы никому, не говоря уже о двенадцатилетнем ребенке. Это не в моем характере.
– Врешь, еврей вонючий.
– Думайте как хотите, но оставьте меня в покое.
– Да кто ж еще мог учинить такое, если не жид, мать его ети?
Почейкин бросился на мастера, своими гнилыми зубами старался укусить в шею. Яков стряхнул Почейкина, но Акимыч напал сзади и, смрадно дыша, колотил его липкими костлявыми кулаками по голове и лицу.
– Христоубивец!
– Гевалт! – кричал Яков, отбиваясь. Он увертывался, пригибался, бил обоими кулаками, но Почейкин колол его в спину острым коленом, Акимыч дубасил по шее. Мастер упал, от боли в голове у него помутилось. Он лежал неподвижно, а они били, били его, когда уже он был без памяти, били с яростью, с остервенением.
Он очнулся на своей подстилке, услышал их храп, и его вырвало. Крыса, шмыгнув, задела его мошонку, он вскочил в ужасе. Но в зарешеченное оконце под потолком виден был краешек рогатого месяца, и Яков смотрел на месяц, и немного его отпустило.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Конюшня сгорела дотла, в считанные минуты, рассказывал Прошко, сплюнув под ноги мастеру, и не иначе как это еврейское заклятие было. Он показывал на почернелые остатки стойл, где четыре лошади обезумели, ревели, вставали на дыбы и погибли, на груду досок и бревен рухнувшей крыши.
Официальные лица на дворе кирпичного завода, бородатые, усатые, иные в мундирах и сапогах, кое-кто с зонтиками, хоть дождь перестал, жандармы тайной полиции, сыщики в штатском, Киевская городская полиция и армейский генерал среди прочих, с золотыми пуговицами в два ряда и медалями в один ряд во всю грудь, – молча слушали десятника. Грубешов в английском котелке, заляпанных гетрах и капюшоне, багровея при показаниях Прошки, что-то шептал в приклоненное ухо полковника Бодянского, сжимал ему руку, полковник шептал в ответ, и Яков облизывал пересохшие губы, и Бибиков в маленьких, желто-грязных штиблетах по щиколотку, в шерстяном шарфе, в своей большой шляпе стоял позади двоих непроницаемых черносотенцев с грозными бляхами, курил, не вынимая папиросы изо рта и любезно предлагая стоящим рядом свой портсигар. Неподалеку прыщавый Иван Семенович суетился возле старика – православного священника, отца Анастасия, «специалиста», Яков слышал, как перешептывались, по «еврейской религии»; был этот отец Анастасий сутулый, с реденькой бороденкой, тощими цевками и темными бегающими глазами, в развевающейся рясе и скуфейке, которую прижимал обеими руками, когда поднимался ветер. Что мог он прибавить к несчастному состоянию его дел, Яков не знал и боялся догадываться. В наручах, в кандалах, изнеможенный тревогой, дрожащий, как ни призывал во спасение разум, он стоял в окружении пяти вооруженных конвойных в стороне от остальных. Уже почти месяц прошел, как его арестовали, но все еще он не мог до конца поверить, что все это случилось с ним, а не с кем-то, кого он смутно видел, не узнавая, во сне; вот и Прошку он слушал оторопело, будто обвинение в чудовищном преступлении было правдой, только не имело к нему, Якову, отношения, будто все случилось с кем-то, кого он не знал как следует, даже вообще с незнакомым, хотя он помнил свой страх, что с ним может стрястись такое.
Больше во дворе никого не было этим серым, зелено-тенистым ранним вечером в начале холодного мая. И работников не было, только возчики Сердюк и Рихтер молча слушали, время от времени сплевывая, и украинец от неловкости мял в красных лапищах шапку, а немец мутно поглядывал на бывшего проверщика. Ждали Николая Максимовича, но Яков знал, что в такой час тот уже не сможет выйти из дому трезвый. Едва утренний туман поредел и поднялся, хлынул ливень; а к вечеру опять полило. Лошади, тащившие полдюжины экипажей, которые с промежутками отправлялись от окружного суда и съезжались только на кирпичном заводе, расплескивали лужи, автомобиль же, где Яков сидел между полковником Бодянским и полицейским жандармом, застрял в грязи и собрал вокруг себя группку зевак, и прокурор злился и объяснял шоферу, что «нежелательно, чтобы дело вышло наружу». Газеты не много сообщали о Якове. Казалось, известно им было только, что арестован какой-то еврей на Подоле, «как подозрительная личность», но кто такой, в чем дело, об этом умалчивалось. Грубешов обещал дальнейшую информацию позже, чтобы не мешать ходу следствия. Бибиков до отъезда из окружного суда сумел сообщить Якову эти сведения, но ничего больше.
– Давайте с самого начала, – сказал Грубешов Прошке, наряженному в обеднешнюю пару: плотные штаны, короткий пиджак. – Я хочу выслушать о самых ваших первоначальных подозрениях.
Прокурор замыслил показательное расследование, так он сказал обвиняемому, «чтобы вы поняли неуклонную логику дела, возбужденного нами против вас, и вели себя соответственно в видах собственной пользы».
– Для какой же пользы?
– А это вы сами сообразите.
Прошко высморкался, в два приема утер нос и сунул платок в брючный карман.
– Я как увидел его, так сразу и понял, что он еврей, хоть он русским прикидывался. Лук от редиски завсегда отличишь, если на цвета не слепой. – Тут Прошко сдержанно хмыкнул. – Яков Иванович Дологушев он, значит, представился, а я, как он именование это выговорил, так и вижу: не подходит ему это имя. Имя – оно всю жизнь, оно сроду твое, а на нем сидит как на корове седло. Я аж брюхом почуял: еврей он, вот как в темноте, бывает, привидение чуешь. Гляди в оба, браток, это я себе говорю, вроде как это дело дрянью попахивает. Может, от него самого так попахивает, может, как по-русски он говорит, может, как мальчишек со двора гоняет, а только пригляделся я и увидел, как и спервоначалу я догадался: жид он, жид он и есть. Из хама не будет пана, как говорится, а еврей рожденный ни за что не скроет, что он самый настоящий жид. Хитрый, тварь, рассуждаю, значит, сам с собой, думает, никто его не разберет, если он тулуп с подпояской надел, срезал пейсы свои еврейские, да и не так-то легко его из норы будет выкурить, раз он Николая Максимовича охмурил, ан я его выкурю, ну и, с Божьей помощью, выходит, и выкурил.
– Расскажите подробней, – сказал Грубешов.
– Ну, как увидел я его, пятнадцати минут не прошло, ворочаюсь в контору к нему и спрашиваю, где бумаги его, надо, мол, в полицию снесть, ну, тут он себя и выказал, кто он таков. Якобы он хозяину отдал бумаги, а тот сам снес в полицию штамп поставить. Когда человек врет, стало быть, для чего-то ему это надо, я сам себе, значит, говорю: ну, гляди, парень, в оба. Долго и ждать не пришлось. Раз как-то он бродит вокруг печей, уж не знаю, чего вынюхивал, и тут я скорей в контору и заметил цифры у него в книгах. А он в отчетах ловчил, каждый день меньше записывал, себе чтобы рублик-другой прикарманить, немного, еврей – он хитер, может, рубля три-четыре, чтоб Николай Максимович не догадался, так и скопил, в жестянке вон у него была, кругленькую сумму.
– Врешь! – весь трясясь, крикнул Яков. – Сам ты вор, а на меня сваливаешь. Ты со своими возчиками тысячами воровал кирпичи у Николая Максимовича и меня ненавидел за то, что я за вами следил и больше не давал воровать!
Никто его не слушал.
– И что же он сделал с этими рублями, которые, вы говорите, он воровал? – спросил Бибиков у десятника. – В жестянке было около девяноста рублей, если я правильно помню. Положим, он крал по четыре рубля в день, тогда у него должна бы составиться намного большая сумма.
– Да кто ж его знает, что еврей с деньгами делает. Говорят, слыхал я, будто они их в постель берут, заместо бабы. Небось, много отдал в жидовскую синагогу свою на Подоле. Уж они найдут, куда пустить русские рублики.
– Тайная полиция конфисковала в целом сто пять рублей, – объявил Грубешов, посовещавшись с полковником Бодянским. – А вы попридержите язык, – сказал он Якову. – Будете отвечать, когда вас спросят.
– Мало еще того, – продолжал Прошко, – он других евреев тайком водил на завод, и один был такой в круглой шапке, хасид или как их, и они, с этим вот, молились там, на конюшне. Тот, другой, пришел, когда они думали, нет никого, никто не увидит. Завязали обои на голове у себя рога и знай молятся своему еврейскому богу. А я в окно подсмотрел, как они молились и мацу ели. Сразу подумал: небось сами испекли, там же печка стоит, и так оно и оказалось, полмешка муки под кроватью было, потом полиция взяла. Я приглядывал за ними, в том виду, что свои подозрения имел, я уж вам говорил. Видел, как этот вот ночью бродит, как призрак, лицо белое, глаза чудные, выискивает чего-то, а еще видел, как он мальчишек гонял, я уж вам говорил. Я забеспокоился, как бы он им зла какого не учинил, да если бы знать! Как-то пришли мальчонки-школьники, двое-трое, с книжками, к нам на двор. Вижу – гоняется он за ними, да они через забор и махнули. Раз спрашиваю его: «Яков Иванович, зачем гоняешь таких школьников, они детки хорошие, просто хотят поглядеть, как мы кирпичи обжигаем», – а он мне: «Если они такие невинные детки, их Исус Христос защитит». Думал, Прошко его не раскусит, ан я раскусил.
Яков застонал.
– Вот я глаз с него и не спускал, а когда сам не мог следить, возчикам поручал.
– Это верно. – Сердюк, все еще пахнувший лошадью, кивнул, и Рихтер сказал – да.
– Я видел, как они молились в этих круглых своих шапчонках, и как мацу они пекли подсмотрел. А потом, как убили мальчика и нашли его в пещере в то утро, когда снег пошел – вдруг, помните, снег повалил в апреле, – вижу, этот вот и другой еврей, в круглой шапке, вниз по лестнице шасть – и поскорей со двора. Я сразу к нему наверх, след в след ступал, чтоб он не углядел, что я у него, значит, был, и вот тут и обнаружил мацы кусок, полмешка муки под кроватью, мешок с инструментом и тряпку кровавую, я вам уже говорил. Дьявол куда ни пойдет, везде он дерьмо свое оставит.
Потом он хотел конюшню спалить, чтоб улик, значит, не осталось, да увидел, что я за ним присматриваю. Встречаю его на дворе, а он весь аж побелел и глаз на меня поднять не смеет. Это как раз когда ребенка убили. А как похоронили, пошел я в полицию, ну и вскорости арестовали его. Мацу и прочее, я вам уже говорил, полиция забрала, но я взял Сердюка и вон Рихтера и пошли мы отдирать половицы – на некоторых темные пятна были, я хотел полиции показать. И вот тут мы и увидели, как старый еврей, борода седая, выскочил из конюшни, и сразу все как всполохнет, и вся конюшня сгорела, пяти минут не прошло, счастье еще, хоть каких лошадей спасли. Спасли мы шесть, а четыре сгорели. Будь это обыкновенный огонь, мы бы их всех десять спасли, а то ведь невесть что поднялось, как ветром вздули, и вой такой, будто люди в огне погибают. Нет, это они заклятия говорили из своей книги жидовской, Господом-Богом клянусь, а наверху, где вот этот жил, когда еще его не арестовали, такие пламя были, зеленые, масляные, я таких и не видывал, а потом желтые, а потом прямо черные, и чуть не вдвое быстрей горело, чем на конюшне, а там же сена полно. На конюшне огонь горел рыжий и красный, и он медленней был, почти что обыкновенный огонь, ну и мы шесть лошадей спасли из огня, а четыре у нас погибли.
Рихтер поклялся, что каждое слово правда, и Сердюк дважды перекрестился.
2
Отец Анастасий неловко обнял Марфу Голову, изможденную мать бедного мальчика, высокую, с жилистой шеей, с серыми глазами, красными и опухшими от слез, и она хотела поклониться, но почти без памяти рухнула ему на руки.
– Отпустите нам грехи наши, батюшка! – рыдала она.
– Это тебе нас надо простить, – в нос пропел священник, – все против тебя грешны, и те особенно, кто грешит против Господа-Бога нашего.
Он перекрестился порхающей, как птица, рукой, и некоторые из чиновных лиц тоже перекрестились.
Марфа Голова, когда сначала увидел ее Яков, стояла в ожидании судейских рядом с товаркой, повязанной толстым платком, но та при виде экипажей поскорей побежала по осевшим ступенькам двухэтажного деревянного дома под рифленой жестяной крышей. Дом смотрел прямо на высокую стену кладбища, а подальше виднелся кирпичный завод, и Бибиков остановился посмотреть на трубы, бездымные по случаю воскресного дня. Когда-то дом выкрасили белой краской, но теперь она вся облупилась и от непогод посерела. Голый, без всякой травы, палисадник, грязный после дождя, был обнесен некрашеным высоким забором, скрепленным со стороны улицы длинными поперечинами из потемнелых нетесаных досок. Экипажи и автомобиль, застрявшие перед домом на ухабистой грязной дороге, напоминали похоронный кортеж, только не видно было катафалка. Марфа, тридцати девяти лет, как сообщали газеты, со следами миловидности в лице, с тупо, тревожно бегающими глазами, уныло поджатым ртом и слабым подбородком, надела для такого случая блузу в темный цветочек, длинную зеленую юбку и узконосые двухцветные башмачки на пуговках. Возле увядшей шеи она приколола линялую брошь, на плечи накинула легкую косынку. Белая шляпка с веточкой ярких вишен вызывала любопытные взгляды. Когда мастера проводили во двор, Марфа разразилась рыданиями. Кто-то из приставов и жандарм поблизости ругали арестанта, тихо, но так, чтобы он слышал.
– Он самый и есть, – ахнула Марфа.
– И кто же это, по-вашему? – спросил Бибиков, нацепив пенсне в серебряной оправе и пристально ее разглядывая.
– Тот самый еврей, про которого мне Женя рассказывал, который гонялся за ним с длинным ножом.
– Заметьте опознание, – кинул Грубешов Ивану Семеновичу. Но у Ивана Семеновича не было с собой тетрадки, и он сказал одному из приставов, чтобы тот записал.
Замшелый зеленый колодец стоял посреди двора, и Бибиков туда заглянул, но ничего не увидел.
Он бросил в колодец камешек, и погодя был всплеск. Официальные лица переглянулись, но следователь отошел в сторону.
– Комната наверху, ваше благородие, – сказала Марфа прокурору. – Она маленькая, сами посмотрите, да и Женя маленький был для своих-то лет. Не в меня, сами видите, меня ростом Господь не обидел, это в подлого папашу своего, который нас бросил. – Она натянуто улыбалась.
Марфа всех пригласила в дом и поспешила наверх, чтобы показать важным гостям, где спал бедный мальчик. Они вытирали ноги о грязную тряпку при входе и перешептывающимися группками шли осматривать крохотную каморку между большой неопрятной спальней с никелированной широкой кроватью и закрытой дверью, за которой, объяснила Марфа, была кладовка.
– Зачем вдове комнат столько? А я там вещи складываю. Тетка померла, мебель мне отказала, а у меня и своей хватает.
Якову приказали вместе со всеми подняться осматривать комнату. Он не хотел идти, но знал, что, если откажется, его поволокут силой. Он поднимался медленно, звеня кандалами, которые в кровь растерли ему лодыжки, и трое конвойных жандармов, взведя пистолеты, поджидали на площадке. Марфа, отец Анастасий, Грубешов, Иван Семенович и полковник Бодянский были в коридоре, когда еврей бросил беглый взгляд в комнатку мальчика. За ним следили внимательно, Грубешов поджал губы. Мастер хотел посмотреть спокойно, с достоинством, но ничего у него не вышло. Ему казалось, что вот сейчас страшный зверь на него прыгнет из этой комнаты. Он в страхе разглядывал ободранные обои, незастланную коечку, серые, мятые простыни, ветхое одеяльце. Все эти вещи были незнакомы ему, но вдруг, со странной живостью, ему почудилось, что он уже видел их прежде. Просто ему вспомнилась та комнатка, в квартире печатника на Подоле. Вот что ему вспомнилось, но сразу же он испугался – вдруг они что-то такое подумают, мало ли что они могут подумать?
– Женичка, мой сыночек, задумывал священником стать, – громко шептала Марфа отцу Анастасию, утирая надушенным платочком красные глаза. – Верующий был, Бога почитал.
– Мне говорили, он готовился поступить в семинарию, – сказал священник. – Мне один монах говорил, что прекрасный был ребенок, просто, можно сказать, святой. Конечно, он имел уже свой духовный опыт. А еще мне говорили, что нравилось ему очень наше облачение и он надеялся однажды его надеть. И вдруг эта смерть – какая потеря для Господа!
Марфа горько рыдала. У Ивана Семеновича глаза затуманились, он отвернулся и вытер их рукавом. Якову хотелось плакать, но он не мог.
Потом отец Анастасий пошел вниз, а Бибиков поднялся по лестнице, протискиваясь мимо жандармов. Он бегло, рассеянно оглядел комнатку Жени, потом опустился на колени и, приподняв простыню, заглянул под кровать. Потрогал пол и рассматривал свои запачканные пальцы.
– Пол пыльный, это может так быть, – быстро сказала Марфа. – Но горшок я всегда выношу.
– Не важно, – брезгливо поморщился Грубешов. – Ну-с, и что вы обнаружили? – спросил он у Бибикова.
– Ничего.
Следователь быстро заглянул в Марфину спальню и остановился у другой, у закрытой двери, прислушался, но за ручку не взялся. И сразу пошел вниз. Марфа начала было торопливо застилать постель сына, но Грубешов сказал ей, что это не нужно.
– Да я мигом.
– Все оставьте как есть. Так нужно для полиции.
Хотя по-прежнему моросило, кое-кто из чиновников стоял во дворе. Остальные, в том числе арестант со своими конвойными, сошлись в душной, неубранной «зале», провонявшей стоялым пивом, куревом и капустой. По указанию Грубешова, Марфа открыла форточку и прошлась грязной тряпкой по стульям, но никто не садился. Яков боялся сесть. Марфа взялась за веник, хотела подмести, но прокурор этому воспротивился.
– Пол подождет, Марфа Владимировна. Будьте добры, все ваше внимание обратите на нас.
– Я бы хоть чуток убрала, – поспешила она объяснить. – Правду сказать, не ждала столько много важных людей. Думаю, арестант придет, поглядеть, что натворил, и чего, думаю, я буду стараться, убирать ради еврея-то грязного?
– Ничего-ничего, – сказал Грубешов. – Ваши домашние дела для нас не важны. Перейдем к тому, что постигло вашего сына.
– С малолетства он хотел стать священником, – зарыдала Марфа, – а теперь вот мертвый лежит в могилке.
– Да, мы все это знаем, это трагическая история, но, быть может, вам бы следовало придерживаться предшествовавших преступлению подробностей, какие вы можете сообщить.
– Может, я сперва чайку подам, ваше благородие? – сказала она, смешавшись. – И самовар кипит.
– Нет, – сказал Грубешов. – Мы очень заняты, столько еще дел предстоит, перед тем как мы сможем вернуться домой. Пожалуйста, все расскажите – в особенности о том, как пропал и погиб Женя… как, в частности, вы об этом узнали. А вы слушайте, – повернулся он к Якову, который смотрел в окно, на дождь, хлещущий по каштанам, – сами знаете, это вас касается.
Пока мастер сидел в остроге, город зазеленел, повсюду летал сладкий запах сирени, но кто будет им наслаждаться? Сквозь открытую форточку он чуял мокрую траву, свежий дух новых листьев, а где кончалось кладбище, там серебрились стволами березки. Где-то, совсем близко, шарманщик крутил романс, который играла ему тогда Зинаида Николаевна на своей гитаре. «От-цвели-и уж давно-о хризанте-емы в саду…»
– Продолжайте, пожалуйста, – говорил Грубешов Марфе.
Она взялась было поправлять шляпку, поймала его взгляд и тотчас опустила руки.