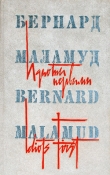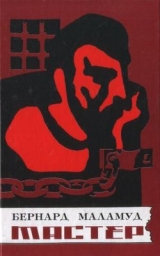
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
– Да, верно. – И смотритель покраснел.
– Зачем надо снова меня унижать? – заорал Яков, и вся кровь кинулась ему в лицо. – Стражники меня видели голым, в бане, смотрели, как я одеваюсь. И вот господин есаул меня обыскал пять минут назад, перед господином смотрителем. Зачем надо опять меня унижать в день моего суда?
Смотритель стукнул по столу кулаком.
– Так надо. Молчите, слышите вы?
– Никто твоего мнения не спрашивает, – бросил холодно черноусый есаул. – Марш вперед, в камеру.
Не следует такого из телеграммы, думал Яков. Но раз им надо меня вывести из себя, так я уж поостерегусь.
Изнемогая от омерзения, он был отведен казачьим конвоем в камеру.
– А-а, с возвращеньицем, – захохотал Бережинский.
Кожин уставился на мастера испуганно, оторопев.
– Только поскорей, – сказал есаул надзирателю.
– Не указывайте мне, как я должен нести свою службу, любезнейший, и я вам не буду указывать, – отчеканил надзиратель. Сапоги у него так воняли, будто он только что вляпался в кучу дерьма.
– Войти, раздеться, – он приказал Якову.
Арестант, старший надзиратель и оба стражника вошли в камеру, оставя дожидаться в коридоре есаула с его казаками. Надзиратель закрыл за собой дверь.
Кожин перекрестился.
Яков медленно, дрожа, разделся. И стоял весь голый, кроме исподней рубахи. Надо быть начеку, он думал, не то мне не поздоровится. Островский предупреждал. Так он себя уговаривал, а бешенство в нем вскипало. Кровь гремела в ушах. Будто копал он яму и отложил лопату, а яма все разрасталась. И стала могилой. Так и подмывало его броситься на надзирателя, свернуть ему рожу и бить, бить до смерти.
– Рот открой. – И Бережинский полез грязным пальцем ему под язык.
– Теперь жопу раздвинь.
Кожин уставился в стену.
– Рубаху эту вонючую снять, – приказал старший надзиратель.
Только не поддаваться гневу, подумал мастер, и все у него стало черным в глазах. И гнев подступил к самому горлу.
– С какой стати? – он крикнул. – Никогда я ее не снимал. С какой стати сейчас? Зачем вы меня оскорбляете?
– Снять, сказано тебе, пока я сам не содрал.
Камера качалась, тонула. Надо было поесть, да, он подумал. Это была ошибка. Он видел, как некто тощий, бритоголовый, голый в ледяной камере срывает с себя исподнюю рубаху и вдруг, к его ужасу, бросает эту рубаху надзирателю в лицо.
Мрачное молчание заполнило камеру.
Глаза у надзирателя от ярости вылезали из орбит, но голос был спокойный:
– Я имею право вас наказать за оскорбление должностного лица при несении службы.
И выхватил револьвер.
Вот оно, мое вечное счастье, думал Яков. Так и прошла жизнь. Шмуэл умер, Рейзл нечего есть. Никогда никому не было от меня никакой пользы, теперь уж не будет.
– Погодите минуточку, ваше благородие, – сказал надзирателю Кожин. Дрогнул глубокий бас. – Я из ночи в ночь вот его слушал, знаю печали его. Всему свой предел есть, и на суд пора его вести.
– Не сметь вмешиваться, или я тебя за нарушение субординации упеку, сучье семя!
Кожин прижал дуло револьвера к надзирателеву затылку.
Бережинский выхватил свой, но не успел взвести курок – Кожин выстрелил.
Он выстрелил в потолок, и погодя пыль хлынула на пол.
В коридоре зашелся свисток. Лязгнул тюремный колокол. Железная дверь распахнулась, есаул, побелев, ворвался в камеру вместе с казачьим конвоем.
– Я лично подам рапорт! – орал есаул.
– Голова болит, – простонал Кожин. И, весь в крови, рухнул на колени.
Старший надзиратель его пристрелил.
6
Звенел тюремный колокол.
Какая-то черная птица вынырнула из неба. Ворона? Ястреб? Или черное яйцо черного орла падало на карету? Или – что же это такое? Если бомба, думал Яков, что делать? Пригнуться, что еще я могу делать? Если бомба, так зачем я вообще родился на свет?
Под молчаливыми взглядами тюремщиков, усатых казаков, приглашенных арестант прохромал под конвоем по двору к воротам, к тяжелой карете, запряженной четверкой лошадей, крутошеих, крепких. На козлах сидел кучер и, ястребиным взглядом постреливая из-под фуражки, вертел в руке кнут.
Двое казаков подсадили Якова в высокую карету, шеф жандармов запер за ним дверцу. Внутри кареты было темно и сыро. В углу незажженная лампа; круглые маленькие окна. Яков приник к одному окну, и на что тут было смотреть – смотритель Грижитской в мундире и форменной фуражке тер воспаленный глаз, – и опять провалился в сумрак.
Кучер крикнул на лошадей; свистнул кнут, громоздкая карета под эскортом конных казаков в серых шинелях и меховых шапках – отряд впереди блестит саблями наголо, сзади отряд ощетинен пиками – тяжело вывалилась из ворот, загремела по булыжникам. Быстро прокатила по узкой улочке, одолела угол, выехала на широкую дорогу – с одной стороны поля, с другой дома вразброс, редкие фабрики.
Вот я и еду, думал Яков, на радость ли, на беду, и если на беду, так будет она еще пострашнее прежней.
Сперва он сидел, погрузясь в одинокие мысли, потом увидел птицу в небе и с волнением следил за ее полетом, пока она совсем не исчезла. Усталое солнце подсвечивало легкие летучие облака, потом вдруг, на минуту, вихрился в разные стороны снег. В придорожном лесу дубы еще держали бронзовую листву, зато голые, черные стояли каштаны. Яков вспомнил их летнюю пышность и пожалел о погибших в тюрьме годах, о напрасной своей молодости.
Смерть Кожина по-прежнему его мучила, но движение слегка разгоняло тоску, хотя – к какой судьбе он подвигается, кто скажет? Но так или сяк, он наконец едет в суд, где, говорят, его будут судить, и три года целых прошло, как он оставил штетл и приехал в Киев. Когда проезжали кирпичный завод и трубы вываливали угольный дым, ветер взбивал его, подбрасывал в небо, вдруг мастер увидел в кружке окна мутное отражение бледного тощего еврея и спрятался от него, но минуту спустя снова всплыло перед ним затравленное лицо, темная бороденка, побелевшая вокруг горького рта, и хоть не хотелось ему о самом себе плакать, нет, но ладони, когда он потер глаза, сделались у него мокрые.
Несколько рабочих у заводских ворот повернули головы вслед процессии; но проехали еще версту, оказались в деловой части города, и мастер, дивясь, увидел по обеим сторонам улицы толпы народа. Была еще ранняя рань, но толпы тянулись во много рядов – рабочие, спешащий в должность чиновный люд, вицмундиры, чуйки, овчинные тулупы, бабьи платки, изредка дамские шляпки, и стояли среди этого моря юнкера и солдаты, а то вдруг вынырнет монах в серой рясе или поп – стоит и провожает глазами карету. Стали вагоны, пассажиры приподнимались с сиденья, смотрели вслед конным казакам, грузной карете. Кое-где городовой не пропускал никакого движения, и толпились кареты, автомобили, воловьи повозки, груженные овощами, зерном, уставленные бидонами. На подступах к суду блюла порядок уже конная полиция. Яков метался от одного оконца к другому, вглядывался в толпу.
– Яков Бок! – кричал он. – Яков Бок!
Могучий казак, пронося слева от кареты нависшую бровь, седеющий ус, бесстрастно смотрел вперед; но другой, гарцуя поближе к дверце на буланой кобыле, совсем еще молоденький, лет двадцати всего, украдкой косился на Якова, будто на взгляд прикидывал, виновен тот или нет.
– Невиновен! – крикнул Яков ему. – Невиновен!
И слегка улыбнулся этому казаку – с какой, интересно, стати? – да просто потому, что вот, молодой, красивый, дышит вольно, может делать что хочет. Казак пришпорил кобылу, и, задравши хвост, она уронила на улицу дымящуюся кучку, в которую тыкал пальцем румяный школьник.
Были среди толпы и евреи – те с испугом, соболезнуя, смотрели на карету. Большинство русских лиц были бесстрастны, только на некоторых была враждебность, иногда отвращение. Приказчик в поддевке плюнул карете вслед. Двое мальчишек свистели. Поблескивали черносотенные бляхи; Яков приникал к одному окну, к другому, видел, как много их тут, и напала на него тоска. Где один, там и сто. Кто-то с вытянутым лицом, мертвыми глазами выбросил вверх руку, будто она у него загорелась. У мастера больно сжалась мошонка, он скреб себе грудь ногтями, и черная птица будто вылетела из этой когтящей воздух белой руки.
Яков в отчаянии пригнулся. Если это моя смерть, так зачем было столько страдать?
– Вы погодите немного, Бок, – скажет председатель присяжных. – Тут у нас нет дворян, образованных людей, но кое-что в жизни мы испытали. Человек всегда научится видеть правду, пусть не всегда он живет по правде. А то и поступит по правде, если найдет на него такой стих. Важным чиновникам не с руки, чтобы мы разбирали, где правда, да ведь она, как говорится, всегда выйдет наружу. Они нас хотят обмануть, дело привычное, а мы вот все показания сверим, а не сойдутся факты, пусть это будет у них на совести.
– У них ее нет.
– Значит, им же хуже. Человек не зря человеком родится.
– Я невиновен, – скажет Яков, – вы посмотрите на меня. Посмотрите мне в лицо и скажите: мог этот человек, пусть и были у него другие грехи, мог он убить мальчика и выкачать кровь из его тела? Вы же люди, вы поймете, есть в моем сердце хоть капля человечности или оно пустое. Скажите, разве я похож на убийцу?
Председатель хочет ответить, но тут страшный взрыв сотрясает карету.
Яков ждет смерти. Он ходит по кладбищу, читает имена на надгробьях. Бегает от могилы к могиле, рыскает, оглядывает одну за другой, но его имени нет нигде. И хватит искать. Он долго ждал, да, но надо, наверно, еще подождать. Кое к кому смерть не торопится. Все твои огорчения от жизни – бедность, ошибки в людях, удары судьбы. Ты жил, ты страдал – но ты жил.
И вот он услышал: вопли, крики, вой, шум, и ржали испуганно кони. Карета гремела, подпрыгивала, потом, разом, стала как вкопанная, тряслась, но не опрокидывалась. Пороховая вонь лезла Якову в ноздри. Замок звякнул, и распахнулась дверца. И нестерпимо потянуло – домой, увидеть Рейзл, решить, что делать дальше. «Рейзл, – он скажет, – одень мальчика, сложи самые необходимые манатки, нам придется прятаться». Он чуть было не пнул эту дверцу ногой, но удержался. Сквозь разбитое правое окно он увидел бегущих людей. Конные казаки с саблями наголо скакали прочь от кареты. Другие, ощетинив пики, привстав в седлах, мчались навстречу. Буланая кобыла, мертвая, лежала на мостовой. Полицейские втроем поднимали того юного казака. Бомбой ему оторвало ногу. Сапог слетел, из раздробленной ноги хлестала кровь. Когда его проносили мимо, он открыл глаза и с болью, с испугом будто спрашивал у Якова: «За что, почему моя нога?»
Мастера мутило. Раненый потерял сознание, а оторванная нога дрожала и кровью поливала полицейских. Вот к карете подскакал есаул, тряся саблей, орал на кучера: «Пшел! Пшел!» Спешился, стал захлопывать дверцу, дверца не защелкивалась. «Пшел! Пшел!» Карета стронулась, загремела, лошади разогнались, перешли в галоп. И вместо того казака теперь гарцевал у окна есаул на белом коне.
Яков сидел в темноте и так задыхался от ненависти, будто весь воздух выкачали из кареты. А потом увидел он, как вот он сидит, за столом где-то, а напротив сидит царь, и между ними свеча горит, в камере, в погребе – не известно. Николай Второй, невысокий, с честными голубыми глазами, с аккуратной бородой, пожалуй великоватой для его лица, сидит, совсем голый, и держит в руке иконку Богоматери в серебряном окладе. Хоть растроенный, бледный, да и кашель напал на него, но говорит он приятным голосом, проникновенно, убедительно.
– Вот вы меня поставили в неприятное положение, Яков Шепсович, но я вам скажу правду. Мало того что евреи масоны, революционеры, невесть что творят из наших законов и развращают полицию вечными взятками для получения себе послаблений – это все кое-как я еще могу простить, а вот другое не могу, например то страшное преступление, в котором вас обвиняют, которое так особенно мне претит. Я говорю о выкачивании живой крови из тела Жени Голова. Не знаю, известно ли вам, что сын мой, царевич Алексей, страдает гемофилией? Газеты, из уважения к царской семье, к царице особенно, об этом, разумеется, не поминают. К счастью, мы имеем четырех здоровых дочерей; княжна Ольга у нас прилежна в учении; Татьяна самая хорошенькая, немного кокетка – меня это забавляет; Мария скромна и добра; и Анастасия, младшая, самая резвая; но когда после многих молитв родился наконец наследник престола, Господу было угодно сделать эту радость самым большим нашим испытанием – в крови его не оказалось того вещества, какое заставляет ее свертываться и заживлять раны. Малейший порез, простая царапина – и он может истечь кровью. Мы смотрим за ним, сами понимаете, не спуская глаз, пребываем в вечной тревоге, ведь простое падение грозит роковой опасностью. У Алексея хрупкие, ломкие вены, и от каждого пустяка внутреннее кровотечение доставляет ему невыносимую боль, ужасные муки. Бесценная моя супруга и я – и должен прибавить, девочки, – все смертельно трепещем за жизнь этого ребенка. Позвольте вас спросить, Яков Шепсович: вы отец?
– Всей душой.
– Тогда вы поймете нашу тревогу, – вздохнул царь, и глаза у него стали еще печальней.
У царя дрожали руки, когда он закуривал зеленую турецкую папироску из эмалевой папиросницы на столе. Он протянул папиросницу Якову, но Яков затряс головой.
– Я никогда не хотел короны, она лишала меня возможности быть самим собой, но мне не позволили отказаться. Править страной – мой тяжелый крест. Я делаю ошибки, но, уверяю вас, никому не желаю зла. Характер у меня нерешительный, не то что у покойного отца – мы его так боялись, – но что поделать, у каждого свои границы возможностей. Каким ты родился, таким родился, тут ничего не попишешь. Я благодарю Бога за мои хорошие качества. Сказать по правде, Яков Шепсович, мне о них не хочется долго распространяться. Но я – скажу вам честно – человек добрый и люблю свой народ. Хоть евреи причиняют мне много хлопот и порой приходится их подавлять ради подцержания порядка, поверьте, я им желаю добра. Что до вас, вы меня простите, я считаю вас приличным, но заблуждающимся человеком – я настаиваю на полной правдивости – и настоятельно вас прошу принять в расчет мои тяготы и обязательства. В конце концов, должны же вы сами знать, что такое страдание? И научило же оно вас понимать, что такое милость?
Царь сильно закашлялся, и когда кашель прошел, он не сразу овладел голосом.
Яков неловко заерзал на стуле.
– Ваше величество, вы уж меня извините, но если я что-то и понял через страдание, так это бесполезность страдания, вы не обижайтесь, пожалуйста, за такие мои слова. Страдания и так в жизни хватает с лихвой, и не обязательно громоздить вдобавок горы несправедливости. Мы, евреи, тоже считаем, что нельзя забывать о милости, но ведь надо и помнить, в каком угнетении, в каком невежестве и в какой беде живет большинство ваших подданных, христиан и евреев, под вашим правительством, вашими министрами. И в том-то и дело, царь-батюшка, что хотел ты того или нет, а была у тебя возможность; честно говоря, даже много возможностей, и все, что ты дал нам при всех своих добрых намерениях, – так это самую нищую и самую отсталую страну в Европе. Другими словами, ты превратил эту страну в яму с костями. Были у тебя возможности, были, но ты их просрал. Тут не поспоришь. Конечно, с ходом событий совладать нелегко, но мог же ты сделать хоть что-нибудь для облегчения нашей жизни – для будущего России, можно сказать, – а ты ничего не сделал.
Царь поднялся, свесив жидкий член, все еще кашляя, расстроенный, злой.
– Я всего-навсего человек, хоть и правитель, а ты меня винишь за всю историю.
– За то, чего вы не знаете, за то, чему вы так и не научились, ваше величество. У вашего мальчика гемофилия, да, чего-то у него не хватает в крови. У вас же, несмотря на вашу чувствительность, не хватает другого – понимания, что ли, а оно наделяет добротой человека, и он способен тогда иметь уважение к отверженным. Вот вы говорите, вы добрый, а доказываете это погромами.
– А за них ты меня не вини, – сказал царь, – вода течет, ее не остановить. Погромы – суть истинное выражение воли народа.
– Тогда о чем говорить?
На столе под рукой у мастера лежал револьвер. Яков вогнал пулю в проржавевший патронник.
Царь сел и следил за ним без видимого волнения, но лицо у него побелело и стала темней борода.
– Я жертва, я страдалец за свой народ. Чему быть, того не миновать.
И стал давить окурок в подсвечнике. Огонек дрогнул, но не погас.
– Не думай, я не стану молить о пощаде.
– Это тебе за тюрьму, за яд, за шесть ежедневных обысков. Это тебе за Бибикова, за Кожина и за многих других, их не перечислить.
Он приставил пистолет к царской груди (Бибиков, колотя белыми руками, кричал – нет, нет, нет) и нажал на спуск. Николай стал креститься, перевернул стул, удивленно повалился на пол, и по груди его расползалось пятно.
И цокали по булыжнику кони.
А насчет истории, думал Яков, так можно ее и перевернуть. Чего заслужил царь – так это пулю в живот, и лучше ему, чем нам.
Заднее левое колесо, казалось ему, вихляло.
Одно я хорошо понял, он думал, не может человек быть в стороне от политики, в особенности еврей. Или ты человек, или нет. Нельзя спокойно сидеть и смотреть, как самому тебе заживо роют могилу.
Потом он подумал: где нет за нее борьбы, там нет и свободы. Как там говорит Спиноза? Если государство творит противное человеческой природе, меньшим злом будет его разрушить. Смерть антисемитам! Да здравствует революция! Да здравствует свобода!
Снова по обеим стронам улицы сгустилась толпа, от фасадов до самого края панели. И в каждом окне были лица, и люди стояли на крышах. Были тут и евреи из Плосского. Когда грохотала мимо карета, некоторые ловили глазами Якова, не таясь, рыдали, ломали руки. Один, с жидкой бороденкой, царапал ногтями лицо. Кто-то махал Якову. Кто-то выкрикивал его имя.