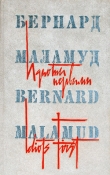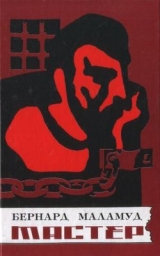
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Я уже думал! – крикнул он. – И нечего тут думать. Я невиновен.
Рейзл молчала, смотрела на него.
Подошел часовой с ружьем.
– Здесь на еврейском говорить не положено. По-русски надо разговаривать. Тюрьма – русское заведение.
– По-русски будет долго, – сказала Рейзл. – Я очень медленно говорю по-русски.
– А ты с бумагой поживей, какую дать ему должна.
– Бумагу надо объяснить. Тут есть плюсы и есть минусы. Я должна ему рассказать, что говорил господин прокурор.
– Ну так и объясняй, и не тяни ты резину за ради Христа.
Вынул ключик из кармана брюк, отпер дверцу в решетке.
– Только не вздумай, кроме бумаги, чего сунуть ему, а то вам худо придется. Уж я гляжу в оба.
Рейзл щелкнула замочком посерелой холщовой сумки и вынула сложенный конверт.
– Тут бумага, какую я обещала тебе дать, – сказала по-русски Якову. – Прокурор говорит, это твой последний шанс.
– Так вот ты зачем пришла, – выкрикнул Яков на идише, – чтоб заставить меня признать клевету, которую два года я отрицал. Чтоб снова меня предать.
– Иначе я не могла бы тебя увидеть, – сказала Рейзл. – Но я не для этого пришла, я пришла поплакать. – Она задохнулась. Рот открылся, искривились губы; она плакала. Она зажимала глаза пальцами, и слезы текли из-под пальцев. У нее тряслись плечи.
Он смотрел на нее, и вся кровь прилила ему к сердцу и тяжело давила.
Часовой скрутил еще цыгарку, зажег, не спеша закурил.
Недалеко мы уехали, думал Яков. В последний раз я ее видел – она так же вот плакала, и все еще она плачет. В промежутке я два года сидел в тюрьме, в одиночном заключении, в кандалах. Я страдал от невыносимого холода, грязи, вшей, от мерзости этих обысков, а она все плачет.
– О чем ты плачешь? – он спросил.
– О тебе, о себе, обо всем.
Она была такая слабая, когда она плакала, и такая она была худенькая, со своей этой маленькой грудью, такая усталая и грустная. Такая слабая, кто мог подумать? И ему стало ее жалко. Теперь он знал, что такое слезы.
– Что делать в тюрьме? Только думать, так что я хорошо подумал, – погодя сказал Яков. – Я обдумал нашу жизнь от начала и до конца, и я не могу винить тебя больше, чем я виню самого себя. Если ты мало даешь, ты меньше имеешь, хотя кой-чего я имел даже больше, чем заслужил. Но до меня все слишком долго доходит. Некоторым приходится семь раз делать одну и ту же ошибку, прежде чем понять, что они ее сделали. Вот и я такой, и ты уж прости меня. И прости, что я больше не спал с тобой. Мне надо было себя мучить, я и мучил тебя. Кто есть у меня ближе? Но я всего натерпелся в этой тюрьме, и я теперь другой человек. Что еще я могу сказать тебе, Рейзл? Если бы я мог начать жизнь сначала, ты бы уже меньше плакала.
– Яков, – сказала она, пальцами утирая слезы, – я эту бумагу для подписи тебе принесла, чтобы мне дали с тобой повидаться, а не то что я хочу, чтобы ты ее подписал. Но если бы ты сам захотел подписать, что бы я сказала? Сиди и дальше в тюрьме? Но еще я пришла рассказать тебе кое-что, и наверно, это не такая уж хорошая новость. Я пришла сказать, что родила ребеночка. После того как я ушла, я поняла, что забеременела. Мне было стыдно и страшно, но еще я была счастлива, что уже я не бесплодна и могу родить.
Где ты, предел моей тоске, думал Яков.
Он колотил в деревянные стены своей выгородки обоими кулаками. Часовой строго велел ему прекратить, и он стал бить себя – по голове, по лицу. Она стояла и смотрела – с закрытыми глазами.
Наконец он почти справился с собой и сказал:
– Так если ты не бесплодна, в чем же тогда дело?
Она отвела глаза, потом посмотрела на него.
– А я знаю? Некоторые женщины поздно беременеют. Тут уж как повезет.
Это мне всегда не везло, он подумал, а я ее обвинял.
– Мальчик или девочка? – спросил Яков.
Она спрятала улыбку в ладонях.
– Мальчик, Хаймеле, в честь моего деда.
– И сколько ему теперь?
– Скоро полтора годика.
– Он не может быть мой?
– Ну откуда?
– Жаль. – Яков вздохнул. – И где он сейчас?
– С папашей. Вот почему я вернулась. Не могла с ним больше одна управляться. Ах, Яков, не все так сладко. Я вернулась в штетл, но меня обвиняют в твоей судьбе. Я взялась было опять торговать молоком-творогом, но с таким же успехом я могла бы продать у нас в штетле свинину. Наш ребе в глаза зовет меня отщепенкой. Ребенок будет думать, что имя ему ублюдок.
– И чего ты от меня хочешь?
– Яков, – сказала она, – я даже подумать не могу о том, что ты вытерпел. Когда я услыхала, что это ты, я рвала на себе волосы; но я подумала, вдруг и ты меня пожалеешь. Ты знаешь, было бы легче, если бы ты согласился сказать, что ты отец моего сына. Но не можешь так не можешь. Я не хочу еще больше тебе портить жизнь.
– И кто этот отец? Гой какой-нибудь, не сомневаюсь.
– Если тебе от этого легче, он был еврей, музыкант. Он пришел, он ушел, я его забыла. Он породил ребенка, но он ему не отец. Если кто ему отец, так это папаша. Папаша ему отец, но сам он стоит на краю могилы. Чуть что – и я дважды вдова.
– Что у него такое?
– Сахарная болезнь, а он таскается повсюду. Он за тебя беспокоится, он за меня беспокоится и за ребенка. С самого утра начинает себя проклинать за то, что не родился богатым. И все время он молится. Я за ним смотрю, но что я могу? Спит на куче тряпья у стенки. Ему еда нужна, и покой, и лекарства. Все, что мы имеем, так это только милостыню. Кое-кто из богачей посылает нам то да се через слуг, но как увидят меня, они зажимают носы.
– Обо мне он с кем-нибудь говорил?
– С каждым встречным и поперечным. Всюду бегает, а он же такой больной.
– И что они говорят?
– Рвут на себе волосы. Бьют себя в грудь. Кто-то благодарит Б-га, что не он на твоем месте. Кое-кто собирает деньги. Кое-кто обещает протестовать. Кто-то боится шелохнуться, чтобы не разозлить христиан, и как бы не было хуже. Многие смотрят на дело мрачно, но у кого-то остается надежда. И много чего еще происходит, я знаю?
– Если дело так и будет идти, мне уже не увидеть, чем оно кончится.
– Не говори так, Яков. Я сама ходила не к одному адвокату в Киеве. Двое клянутся, что они тебе помогут, но никто ничего не может начать, пока нет обвинительного акта.
– Что ж, буду ждать, – сказал Яков. Он съеживался прямо у нее на глазах.
– Я тебе кнейдлех принесла, и сыр, и яблочко в кулечке, – сказала Рейзл, – но мне все велели оставить в конторе у смотрителя. Не забудь спросить. Сыр козий, хотя ты ведь и не заметишь.
– Спасибо, – сказал Яков устало. Потом он вздохнул и сказал: – Слушай, Рейзл, я напишу тебе бумагу, что он мой ребенок.
Глаза у нее блеснули.
– Благослови тебя Б-г.
– Б-га оставь в покое. Есть у тебя бумага? Я кое-что напишу. А ты покажи это отцу нашего ребе, старому меламеду. [34]34
Учителю ( иврит).
[Закрыть]Он знает мой почерк, и он добрей своего сынка.
– У меня есть бумага и карандаш, – быстро зашептала она, – но я боюсь тебе дать, из-за этого часового. Меня предупреждали, чтобы ничего тебе не передавать, кроме признания, и ничего не брать, а то меня арестуют при попытке устроить тебе побег.
Часовой давно переминался с ноги на ногу, теперь он снова к ним подошел.
– Хватит, наговорились уже. Подписывай давай или в камеру идти.
– Есть у вас карандаш? – спросил Яков.
Часовой вынул из брючного кармана толстое вечное перо, сунул через отверстие в решетке.
Он стоял, смотрел, но Яков ждал, пока снова он отойдет.
– Дай сюда признание, – сказал Рейзл по-русски.
Рейзл ему подала конверт. Яков достал бумагу, развернул, прочел: «Я, Яков Бок, признаюсь, что был свидетелем убийства Жени Голова, сына Марфы Головой, моими еврейскими соотечественниками. Они убили его ночью, марта 20 дня, 1911 года, в помещении над конюшней в кирпичном заводе, что принадлежит Николаю Максимовичу Лебедеву, купцу в Лукьяновском околотке».
И под этим под всем проведена жирная черта, и там надо подписать свое имя.
Яков положил эту бумагу перед собой на полку и над чертой для имени написал по-русски: «Все ложь до единого слова».
На конверте, запинаясь между словами, вспоминая буквы для следующего слова, на идише он написал: «Признаю себя отцом Хаима, малолетнего сына моей жены, Рейзл Бок. Он был зачат до того, как она меня оставила. Прошу, помогите матери и ребенку. И за это, среди всех моих скорбей, я буду вам благодарен. Яков Бок».
Она сказала ему, какое сегодня число, и он внизу приписал – «27 февраля 1913 года». И просунул ей конверт через отверстие в решетке.
Рейзл сунула конверт в рукав пальто, а бумагу с признанием отдала часовому. Он сразу сложил бумагу, сунул в карман. Проверил содержимое сумочки, охлопал Рейзл по карманам, велел ей идти.
– Яков. – Она плакала. – Ты возвращайся домой.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
1
Снова приковали его цепями к стене. Плохо. Лучше бы не снимали эти цепи, плохо, когда их надевают опять. Он колотил гремящими цепями об стену, пока вся она не покрылась белыми шрамами в том месте, где он стоял. Никто не мешал ему колотить. В остальное время он спал. Если бы не обыски, он бы целый день спал. Спал смертным сном, ноги в колодках. Весь конец зимы он проспал и начало весны. Кожин сказал, что уже апрель. Два года. Обыски продолжались, если только он не страдал поносом. Тогда старший надзиратель не приближался к нему, правда, Бережинский и один, бывало, его обыскивал. Однажды, после болезни мастера, камеру помыли из шланга и затопили печь. Румяный старичок вошел в камеру во всем зимнем. Черная шапка, черные гетры, сучковатая трость в руке. Бережинский, войдя следом, внес легкий стул с тонкой спинкой, и старичок очень прямо на него уселся в нескольких шагах от мастера, обняв трость серыми митенками. Блуждал слезящийся взгляд. Он прежде был адвокатом, он сообщил Якову, очень известным адвокатом, а сейчас вот принес хорошие новости. Волнение, густое, как тошнота, подступило к горлу Якова. Он спросил, что за хорошие новости. Бывший адвокат сказал, что в этом году будет трехсотлетие дома Романовых и в честь юбилея царь выпустит указ о помиловании определенного рода преступников. Среди них может оказаться имя Якова. Его простят, ему разрешат вернуться в родное местечко. Лицо у старичка рассиялось от удовольствия. Узник вцепился руками в стену, он не мог говорить. Потом спросил: простят как преступника или простят как невиновного? Бывший адвокат спросил раздраженно: какая разница, если его выпустят на свободу? Невозможно стереть грехи прошлого, но для гуманного правителя, истинного христианина, разве невозможно простить дурное деяние? Старичок чихнул без понюшки, глянул на свои серебряные часики. Яков сказал, что хочет справедливого суда, не помилования. Если ему прикажут покинуть эту тюрьму без суда, придется сначала его застрелить. Что за чушь, сказал бывший адвокат, как можете вы и дальше так страдать, сидеть в этой выгребной яме? Мастер нервно дергался на цепях. У меня нет выбора, он сказал. Но я же только что вам его предложил. Это не выбор, сказал Яков. Бывший адвокат взялся терпеливо убеждать заключенного, потом не выдержал. Легче тупого мужика убедить. Он встал, ткнул в мастера тростью. Как мы можем вам помочь, заорал, когда вы так по-идиотски уперлись? Бережинский, подслушивавший у глазка, отпер дверь, и старик удалился. Стражник зашел за стулом, но, прежде чем его унести, дал Якову помочиться в урыльник и потом опрокинул содержимое ему на голову. С мастера и на ночь не сняли цепей. Как решишь, что хуже ничего уже быть не может, думал мастер, так и пожалуйста, будет тебе еще хуже.
Однажды, когда уже шел третий год его заточения, с Якова сняли кандалы и наручники. Сердце у него тяжко заколотилось, он прижал руку к груди, и рука заколотилась, как сердце. Через час смотритель – он постарел, с тех пор как Яков в последний раз его видел, и странно семенил – принес новое обвинение в грубом конверте, пачку вдвое толще прежней. Мастер взял бумаги и принялся читать медленно, замирая от нетерпения, боясь, что никогда он не дочтет этого до конца; но очень скоро обнаружил то, чего и ждал: кровавый навет снова настойчиво выдвигался. Вот, теперь опять они взялись за дело всерьез, он подумал. Ссылки на совращение малолетнего, на участие в шайке еврейских воров и взломщиков, собиравшейся в подвале киевской синагоги, – весь этот бред из письма Марфы Головой бесследно исчез. Снова Яков Бок обвинялся в убийстве невинного ребенка с целью изъятия живой крови, необходимой для пасхальной мацы.
Это подтверждал профессор Манилий Загреб, который при содействии своего уважаемого коллеги доктора Сергея Була произвел вскрытие останков Жени Голова. Оба с уверенностью утверждали, что злостные раны наносились как бы скоплениями с преднамеренным числом ран, причем каждое скопление было отделено от другого рассчитанным временным отрезком, с тем чтобы продлить страдания жертвы и облегчить кровеистечение. Было установлено, что из каждого такого скопления ран собрано по одному литру крови, а всего собрано в бутыли пять литров крови. Таково же было и заключение отца Анастасия, известного знатока еврейства, который тщательно изучал Талмуд и чьи соображения прилагались на восьми страницах тесной печати. Таково же было и заключение Ефима Балыка, судебного следователя. Он добросовестно выверил все показания и улики и пришел к выводу о полной их неопровержимости и достоверности.
Сами подробности кровавого преступления ничем, собственно, не отличались от грубешовских описаний в пещере, которым минуло больше двух лет, тот же был тут «замеченный в заводе десятником Прошко хасид цадик, вне всякого сомнения помогавший обвиняемому собрать необходимую кровь из тела мальчика, а также содействовавший переносу тела в пещеру, где и обнаружили его двое насмерть перепуганных детишек». Улики, в предыдущем обвинении опущенные, здесь водворились на свои места. Сообщалось, что полмешка муки для мацы «было припрятано» в помещении Якова Бока над конюшнями, вместе с отдельными кусками уже испеченной мацы, несомненно содержащей невинную кровь, каковую мацу оба еврея, «по всей вероятности», употребляли в пищу. Окровавленная тряпка, «которую обвиняемый признал лоскутом от своей рубахи», была обнаружена в том же помещении. Согласно показаниям Васи Шишковского, он вместе с Женей видел бутыль ярко-красной крови на столе у Бока, но когда ее стала искать полиция, бутыль эта бесследно исчезла. Мешок с плотницкими инструментами, окровавленные ножи и шила в их числе, был также обнаружен полицией после ареста Якова Бока, «несмотря на план еврейских сообщников Бока уничтожить эти и другие улики путем сожжения конюшен, каковой план и был затем ими осуществлен».
К концу этого изнурительного, жуткого документа всплывало уже кое-что новенькое: «самооговор Якова Бока в атеизме». Отмечалось, что, хотя обвиняемый при первом же допросе признался, что он еврей «по рождению и национальности», он, однако, «требовал для себя статуса атеиста» и, «умничая, заявлял, что он свободомыслящий, не верующий еврей». Зачем понадобилось ему «выставлять самого себя в столь неприглядном свете», легко понять всякому, кто на минуту призадумается о сути предмета. А для того ему это понадобилось, чтобы создать «смягчающие обстоятельства» и «затемняющие подробности», дабы «отвлечь законное расследование, утаив мотивы столь подлого злодейства». Этому утверждению об атеизме, однако же, нельзя верить, так как замечено было надежными свидетелями, включая тюремных стражников и официальных лиц, что Яков Бок, ожидая суда в одиночном заключении, «хоть и упорствуя в показаниях о своем неверии, тайно молился у себя в камере, ежедневно, по обычаю правоверных иудеев, покрывшись талесом и повязав филактерии на лоб и на левую руку». Еще видели, как он набожно читал Ветхий Завет, «каковой, равно как и вышеозначенные предметы культа, был тайком протащен в тюрьму соплеменниками Бока». Всякому, кто его наблюдал в это время, было очевидно, что он занят молитвой. Он употреблял талес, покуда тот на нем не истлел, и «даже и по сей день он хранит остатки этого священного облачения в кармане пальто».
Согласное мнение всех причастных к следствию лиц – что «этот самооговор понадобился Боку, дабы скрыть от властей, что он совершил убийство ребенка с одной-единственной гнусной целью – поставить хасидам-единоверцам непорочную кровь, потребную для изготовления пасхальной мацы и опресноков».
Мастер в изнеможении дочитал документ и подумал: нет, теперь уже мне не избавиться от этой их крови. Каждое слово на этой бумаге она пропитала, и ничем ее не стереть, не отмыть. И если они будут меня судить, они будут меня судить за распятие.
Тяжелая тревога все больше давила мастера. Интересно – снова они отнимут у нею свою бумагу, составят еще другую? Может, это такая последняя пытка? И будут они вручать ему обвинения, одно за другим, еще двадцать лет? И будет он их читать, пока не умрет с тоски или лопнет его пересохший мозг? Или же после этого обвинения, после третьего, седьмого, тринадцатого, наконец его поведут на суд? Но сумеют ли они состряпать против него настоящее дело? Сумеют, это они сумеют. Хотя – кто же знает? А нет – так и будут его вечно томить в цепях? Или они что-то еще похуже для него замышляют? Однажды, перед тем как подтереться обрывком газеты, он прочитал: «…еврей осужден…» Яков жадно вглядывался в печать, чтобы догадаться, за что, но на этом клочок обрывался.
2
Ему сказали, что адвокат скоро будет в тюрьме, но когда в конце душного июльского дня отодвинули все засовы, это оказался не адвокат, это был Грубешов, в вечернем костюме. Мастер проснулся, когда Кожин, держа капающую воском свечу, отпирал ему колодки. «Просыпайся, – говорил стражник, расталкивая его, – их благородие пожаловали». Яков будто медленно выплыл из глубокой грязной воды. И увидел потное, мясистое лицо Грубешова, вялые бачки, глаза красные, острые, встревоженные. Грудь прокурора ходуном ходила. Он стал было мерить шагами камеру, потом сел на табурет, рукой опершись на стол и бросая на стену огромную тень. Минуту он, мигая, смотрел на лампу, потом воткнул взгляд в Якова. Когда он заговорил, запах дорогой еды и спиртного пронесся по камере, вызывая у мастера тошноту.
– Вот, домой направляюсь, с банкета в честь государя, – одышливо проговорил Грубешов. – Автомобиль мой оказался в этих краях, я и приказал шоферу к тюрьме подъехать. Дай, думаю, с ним побеседую. Вы упрямый человек, Бок, но может быть, все же способны внять голосу рассудка. Дай, думаю, в последний раз я с ним побеседую. Извольте встать, когда я с вами разговариваю.
Яков, сидевший на своем деревянном ложе, спустив на липкий пол голые ступни, медленно поднялся. Грубешов вгляделся в лицо Якова, и его передернуло. Мастер чувствовал к нему тяжелую ненависть.
– Прежде всего, – начал Грубешов, утирая большим взмокшим платком налитой красный загривок, – советую вам не пестовать в себе излишние упования, Бок. Не то придется чересчур жестоко разочароваться. Не думайте, главное, что вот оно, обвинение, и кончаются у вас все неприятности. Напротив – тут-то неприятности и начинаются. Предупреждаю: вы будете публично изобличены, и все увидят, кто вы такой.
– Чего вы от меня хотите, господин Грубешов? Уже поздно, ночь. Мне надо хоть немного отдохнуть до завтра от моих цепей.
– Насчет цепей сами вы и виноваты: извольте следовать правилам. Впрочем, это не по моей части, я пришел по другому поводу. Марфа Голова, мать жертвы, сегодня была у меня. Она упала передо мной на колени и Христом-Богом клялась, что все, ею рассказанное о ваших взаимоотношениях с Женей, приведших к убийству, – все чистая правда. Она женщина совершенно искренняя, я был глубоко тронут. И еще верней убедился, что присяжные непременно ей поверят, и тем хуже для вас. Ее свидетельства, ее искренность, сам вид ее разрушат все ваши построения.
– Так пусть она и приносит свои эти свидетельства. Что же вы не начинаете суд?
Грубешов покосился на табурет так, будто это раскаленная плита, и ответил:
– Я не имею обычая вступать в словопрения с преступниками. Я пришел уведомить вас, что, если вы и ваши единоверцы намерены и впредь оказывать на меня давление, дабы я начал суд прежде, чем собраны все возможные свидетельства и расследованы все самомалейшие обстоятельства дела, вам следует учитывать, какие вы навлекаете на себя опасности. Я, собственно, не слишком надеюсь, Бок, что вы способны внять моим резонам. Хотя жданный котелок в конце концов и закипит, смотрите, как бы вода вся не выкипела.
– Господин Грубешов, – сказал Яков. – Я не могу больше стоять. Я устал, и мне надо сесть. Хотите меня расстрелять – зовите стражника, у него есть оружие.
И Яков сел на свое деревянное ложе.
– А вы наглец! – Голос у Грубешова срывался. – Нам, русским, до смерти надоели ваши еврейские штучки. И они только мешают расследованию, ваши эти жалобы, эта гнусная клевета со всех сторон. То, что происходит, Бок, безусловно, свидетельствует о еврейском заговоре, о вмешательстве в русские дела, и, должен предупредить, вам следует взять в соображение, что врагов государства постигнет самая суровая расправа. Если даже, каким-то ловким маневром, вам и удастся склонить присяжных к вердикту, противоречащему непреложным уликам, можете мне поверить: русский народ в праведном гневе своем отомстит за несчастного Женю, за его муки, за боль, какую вы ему причинили. Вот вы хотите суда, так знайте же, что даже и обвинительный приговор повлечет за собой такую кровавую баню в городе Киеве, которая далеко превзойдет в жестокости так называемую кишиневскую бойню. Суд не спасет ни вас, ни ваших еврейских собратьев. И лучше бы вам признаться, право слово, а потом уж, когда публика поуспокоится, мы и объявим, что вы умерли в тюрьме или что-то в подобном же роде, и потихоньку выдворим вас из России. Ну а добьетесь суда, тогда не удивляйтесь, что покатятся по улицам бородатые головы. И полетят перья. И вонзится казачья сталь в нежненькие тела молодых евреечек.
Грубешов поднялся с горячего табурета и снова стал ходить по камере, и ходила в другую сторону огромная тень на стене.
– Государство вынуждено себя защищать – раз убеждением не удается, так, стало быть, силой.
Яков смотрел на свои скрюченные белые ноги.
Прокурор продолжал, все более разжигаясь:
– Отец мне описывал когда-то один такой эпизод: местом действия был подвал синагоги, где во время налета казаков пытались спрятаться евреи, мужчины и женщины. Есаул приказал – выходить по одному, но сперва никто не шелохнулся, наконец кое-кто пошел по ступенькам, прикрывая руками головы. Но не очень это им помогло, когда их насмерть забивали прикладами. Прочие, набившись как сельди в вонючей бочке, не двигались, хотя предупреждали же их, что им хуже будет. Так и вышло. Остервенелые казаки ринулись в подвал и пристрелили или закололи штыками евреев, всех до единого. Кого выволокли недобитым, того потом сбросили с поезда на полном ходу. Кое-кого, предварительно обливая бензином бороду, сжигали живьем, женщин в исподнем топили в колодцах. Смею вас уверить, не пройдет и недели после этого вашего суда, и вы не дочтетесь четверти миллиона жидов по вашей черте оседлости.
Он замолк, передохнул, потом продолжал сипло:
– Не думайте, мы прекрасно понимаем: вам такого именно погрома и надо. Из донесений полиции нам известно, что вы рассчитываете навлечь на себя эту бурю ради революционных целей – чтобы подстрекнуть социалистов-революционеров на вооруженное выступление против законной власти. Государю все известно, не извольте беспокоиться, и он намерен впрыснуть вам повышенные дозы лекарства, которое я только что описал, если вы будете так настырно угрожать его власти. В Киеве, должен вас уведомить, уже расквартирован взвод уральских казаков.
Яков плюнул на пол.
Грубешов то ли не заметил, то ли не подал виду. Он порастратил свой пыл и дальше говорил уже спокойно:
– Итак, я зашел, чтобы предупредить вас ради вашей же пользы, для пользы ваших собратьев. Вот и все, что я имею сказать, решительно все. Прочее оставляю на ваше усмотрение. Есть у вас какие-нибудь предложения, как можно предотвратить столь ужасную, дикую и – прямо вам скажу – бессмысленную трагедию? Обращаюсь к вашему чувству справедливости. Казалось бы, в вашем положении на что только не пойдешь, за какие компромиссы не ухватишься во избежание катастрофы. Я вполне серьезно говорю. Можете вы что-то сказать? Так говорите же.
– Господин Грубешов, ведите меня на суд. Я буду ждать суда, пусть до самой смерти буду ждать.
– Ну и подохнешь. За все ответишь, Бок.
– Это вы за все ответите, – сказал Яков. – И за то, что вы сделали с Бибиковым.
Грубешов глянул на мастера белыми глазами. Тень огромной птицы со стены слетела. Лампы вынесли, заскрежетала дверь.
Кожин хмуро запирал колодки на ногах у мастера.
3
Адвокат пришел и ушел, Юлий Островский.
Он появился через несколько недель после визита Грубешова и час вышептывал в ухо заключенному то, о чем тот и сам догадывался, и то, что поражало его. Его поражало, что незнакомые люди больше его самого знают о его деле, и какими фантастическими подробностями оно обросло, какие бесконечные за собою влечет последствия.
– Говорите уже самое плохое, – взмолился Яков. – Как вы думаете – когда-нибудь я выйду отсюда?
– Самое плохое – это что мы не знаем, что самое плохое, – ответил Островский. – Мы знаем, что вы этого не сделали, но они это тоже знают, но говорят, что вы это сделали. Вот самое плохое.
– Вы не знаете, когда начнется мой суд – если он начнется, конечно?
– Что я могу вам сказать? Нам не сообщают того, что происходит сегодня, откуда же мы можем знать, что будет завтра? Завтра они тоже от нас скроют. Они же скрывают самые основные факты. Что бы мы ни узнали, они считают, что это еврейские штучки. А что вы хотите, если идет смертельная война, но все притворяются – какая война? это же мир! Это война, уж вы мне поверьте.
Адвокат встал, когда Яков проковылял в помещение. На сей раз посетителя и заключенного не разделяла решетка. Островский тотчас предостерегающе качнул головой, потом шепнул ему в ухо:
– Говорите тихо – в пол. Они сказали, что за дверью никого не будет, но говорите так, будто там стоит Грубешов или сам дьявол.
Ему было за шестьдесят, плотный, морщинистое лицо, почти голая голова, только реденькие, седые, торчат, как стерня, волосики. Кривые ноги, двухцветные штиблеты на пуговках, черный галстук, бородка.
Сначала он долго смотрел на Якова, как бы не в состоянии поверить, что это тот самый еврей. Наконец поверил, и недоумение в его взгляде сменилось жалостью. Он заговорил шепотом, с нажимом, на идише, задыхаясь от сложных чувств.
– Позвольте представиться, господин Бок, Юлий Островский, из коллегии адвокатов города Киева. Я рад, что я здесь, хотя ликовать пока особенно нечего. Но меня прислали кой-какие друзья.
– Очень благодарен.
– У вас есть друзья, хотя не все евреи, я с горечью должен сказать, вам друзья. Что я хочу сказать, если человек прячет голову в ведро, чей он друг? К великому моему сожалению, кое-кто из наших людей дрожит в любую погоду. Мы организовали в вашу поддержку комитет, но очень уж они там осторожны. Боятся «соваться», как бы чего не вышло. Сами стреляют из пугачей и разбегаются от шума. Но у кого, скажите, только одни друзья?
– Так кто же мои друзья?
– Я, например, но есть и другие. Можете мне поверить, вы не один.
– Вы можете что-то для меня сделать? Я изнемог от тюрьмы.
– Что мы можем сделать, мы сделаем. Это долгая борьба, не мне вам рассказывать, и многое против нас. Но прежде всего – спокойствие, спокойствие, спокойствие. Как говорят мудрые – всегда существуют две возможности. Одну мы знаем по слишком долгому опыту; на другую – на чудо – мы будем надеяться. Надежда – дело хорошее, только ее портит ожидание. Но две возможности все-таки лучше, чем одна. Однако хватит философии. На данную минуту мы имеем не очень много хороших новостей; наконец мы выжали из них обвинение, а это значит, что они должны назначить время суда, хоть когда я отправлюсь к праотцам. Но сначала, вы уж меня простите, я должен сообщить вам плохую новость. – Островский вздохнул. – Ваш тесть, Шмуэл Рабинович, с которым я имел удовольствие познакомиться и беседовать прошлым летом, – одаренный человек – умер от диабета. Об этом ваша жена мне сообщила в письме.
– Ах! – сказал Яков.
Смерть не стала ждать. Бедный Шмуэл, думал мастер, я теперь никогда его не увижу. Вот что бывает, когда распрощаешься с другом и отправляешься искать счастья.
Он закрыл руками лицо и заплакал.
– Хороший был человек, старался меня воспитать.
– Уж такая штука жизнь, она скоро проходит, – сказал Островский.
– Слишком скоро.
– Вы страдаете за всех нас, – выговорил адвокат сипло. – Я за честь бы почел оказаться на вашем месте.
– Небольшая честь. – Яков вытер глаза пальцами и потер одна о другую ладони. – Мерзкое это страдание.
– Примите мое глубокое уважение.
– Если вы не возражаете, расскажите мне, как обстоит мое дело. Расскажите мне правду.
– Сказать по правде, дела обстоят неважно, но насколько именно плохо, я сам не знаю. Случай совершенно ясный – все от начала и до конца высосано из пальца, – но он самым скверным образом связан с политической ситуацией. Киев, вы ж понимаете, средневековый город, набит суевериями всякого рода. Он всегда был центром русской реакции. Черносотенцы, чтоб они все сдохли, подняли против вас все самое грубое и темное из толпы. Они до смерти боятся евреев и в то же время запугивают их до смерти. Тут и обнаруживается человеческая природа. Богатые ли, бедные, те из наших собратьев, кто только может бежать, отсюда бегут. А те, кто не может, уже скорбят. Принюхиваются к воздуху, а в воздухе пахнет погромом. Что происходит – никто толком не понимает. С одной стороны, ходит слух, что все, что происходит, в том числе и ваш обвинительный акт, – все только средства оттяжки; и суд ваш, вы уж меня извините, вовеки не состоится; а с другой стороны, мы слышим, будто он состоится сразу же после сентябрьских выборов в Думу. Так ли, иначе ли, у них против вас нет настоящего дела. Весь цивилизованный мир это знает, включая папу и его кардиналов. Если Грубешов что-то и «докажет», так только ложью своих «экспертов». Но у нас против них есть свои эксперты, например один русский профессор теологии, и я написал письмо самому академику Павлову с просьбой проверить медицинский отчет о результатах вскрытия Жени Голова, и пока что он мне не отказал. Грубешов прекрасно знает, кто истинные убийцы, но он закрывает оба глаза и смотрит на вас. Он учился на правоведении с моим старшим сыном, так и тогда уже был известен своим фанфаронством. Теперь он известен своим юдофобским фанфаронством. Марфу Голову, этот кусок мяса, он хочет превратить если не в новоявленную святую, то, уж во всяком случае, в гонимую героиню. Ее слепой любовник на прошлой неделе наложил было на себя руки, но, благодарение Б-гу, остался жив. Один умный журналист, однако, – побольше бы таких создавал Г-сподь! – Питирим Мирский, недавно раскопал, что отец Жени оставил ему по завещанию пятьсот рублей, и на них убийцы позарились, заполучили и сразу спустили. Две свиньи, как говорится, хуже, чем одна. Мирский на прошлой неделе опубликовал это в «Последних новостях», на издателя за это наложили штраф, и полиция прикрыла издание на три месяца. Обо всем, касаемом Голова, в печати теперь ни-ни. Черная реакция, да, но я не для того пришел, чтобы вас пугать. У вас и так хватает забот.