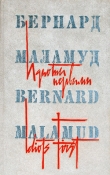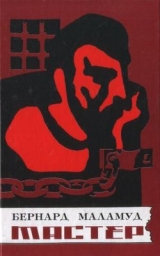
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Яков считал. Высчитывал время, против воли высчитывал. Всякий счет упирается в конец счета, во всяком случае, у человека, который привык к малым цифрам. Сколько раз в своей жизни он досчитал до ста? Кто может считать вечно? – от этого громоздится время. Мастер отдирал от дров щепки. Длинные щепки – месяцы, короткие щепки – дни. День, он сам по себе тяжелая ноша, а в нем же еще часы, и минуты, и спасу нет от них, когда они громоздятся. Когда нечего делать, хуже нет этих тягучих, пустых минут. Будто по несчетным аптечным пузырькам разливаешь пустоту.
В пять утра начинался день, и он никогда не кончался. В ранних сумерках мастер уже лежал на своем сеннике и старался уснуть. Иногда он всю ночь старался. Днем были размеренные подглядывания в глазок и три жутких обыска на его теле. И он собирал золу, и ему растапливали печку. И можно было подметать камеру, и мочиться в парашу, и бродить взад-вперед, пока не начнешь считать; или сидеть за столом и не делать ничего. Еще он ходил за скудной едой и ее съедал. И он старался вспомнить, он старался забыть. И он считал дни; он повторял псалом, который сложил. Еще он следил, как сменяются свет и тьма. Утренняя тьма была не то, что ночью. В утренней тьме была свежесть, и в ней было предчувствие, хотя – что он такое предчувствовал? Ночная тьма была тяжелая и наполнена густыми тенями. Утром все тени таяли, таяли, и оставалась только одна, и на весь день она оставалась в камере. На минуту она уходила, около одиннадцати, так ему представлялось, когда солнечный луч, в те дни, когда было солнце, тронет потрескавшуюся стену в метре над его тюфячком, луч золотого света, и через минуту он исчезает. Однажды Яков поцеловал этот луч. Однажды лизнул языком. Но луч уходил, и темнее падал свет из окна. Если он читал утаенный клочок газеты, тьма была на клочке. Ночь зимой наступала в половине четвертого. Яков клал дрова в печку, и Житняк, как идти за вечерней едой, их поджигал. И Яков ел в темноте или в отсветах пламени сквозь печную полуоткрытую дверцу. Лампы все еще не было, не было свечи. Мастер откладывал в сторону маленькую щепку и взбирался на свой соломенный мешок.
Длинные щепки – месяцы. Он высчитал, что настал январь. Житняк не хотел ему говорить, и Кожин. Говорили, им запрещено отвечать на такие вопросы. Когда его арестовали в кирпичном заводе, было начало апреля, потом были те два месяца в окружном суде. Здесь, как он подсчитал, он был семь месяцев, итого – всего девять месяцев, если не больше. Значит, скоро – скоро? – будет уж год, как он в тюрьме. Дальше года он не мог, не хотел думать. Он не видел в будущем никакого будущего. Когда он думал о будущем, все его мысли кружились вокруг обвинения. Он воображал: вот стражник отодвигает шесть засовов и приносит обвинение в плотном грубом конверте. Но почему-то уходит стражник, а обвинения нет как нет, а он снова считает, считает время. Сколько же еще ему ждать? Он ждал, и месяцы, дни и минуты громоздились в отяжелевшей голове, и тьма и свет ложились по очереди на короткие и длинные щепки. Он ждал, и тоска запускала пальцы ему в глотку. И чего он ждал? Ждал и ждал, чего не будет никогда. Зимою время заметало в трещину на голом окне, как шипучий снег, мело и мело, не переставая. Он стоял, и оно громоздилось вокруг, и он в нем тонул, и конца этому не было.
Однажды в зимний день, не вынеся времени, он стал рвать на себе одежду. Лохмотья расползлись у него в руках.
– Сволочи! – кричал он в глазок стражникам, Грубешову, Черной Сотне. – Юдофобы! Убийцы!
Его так и оставили голым. Житняк не растапливал печь. Мастер, посиневший, метался по заледенелой камере. Он забивался на свой тюфячок, кутался в талес, рваное одеяло, и его колотило от холода.
– К утру, – сказал старший надзиратель, вместе со стражником появляясь в камере для последнего на дню досмотра, – одежда тебе уже не потребуется. Закоченеешь к черту. Давай, пошевеливайся.
Но, еще не настала ночь, вошел к Якову смотритель и сказал, что это позор, чтобы вышагивал по камере голый еврей.
– Расстрелять вас мало!
Швырнул Якову другой тюремный ветхий халат, другое рваное пальто. И тогда Житняк растопил печку, но еше неделю не мог мастер высвободить ото льда свой хребет, и холод его терзал теперь хуже прежнего.
И опять он стал ждать.
Он ждет.
8
Смотритель вошел в одиночную камеру при полном параде и передал Якову поручение от прокурора, от господина Грубешова.
– Оденетесь в уличную свою одежду и пойдете в окружной суд. Вам вынесено обвинение.
Мастер застыл и закрыл глаза. Потом открыл, но смотритель никуда не исчез.
– Как же я пойду, ваше благородие? – Голос его не слушался.
– Вас поведет охранник. Здесь недалеко, на конке поедете. Вас отпускают на полтора часа, не больше. Это время, которое вам уделит прокурор.
– И мне снова наденут кандалы?
Смотритель почесал бороду.
– Нет, только наручники. И строго приказано вас пристрелить при малейшей попытке нарушить правила. Более того, двое агентов тайной полиции последуют за вами на тот случай, если кто-то из ваших сообщников захочет с вами связаться.
Через полчаса Яков на улице вместе с охранником ждал конку. День был хмурый, холодный, все бело вокруг, только голые ветки чернели на темном небе, но мастеру, куда он ни глянет, набегали на глаза слезы. Как будто в первый раз в жизни он увидел, как слажен мир.
Из окна вагона он разглядывал прохожих, лавки – так, будто попал в чужую страну. Мужик вошел в лавку – как хорошо. Охранник сидел рядом, рука в кармане пальто. Сидит и молчит, пузатый, в очках, в серой меховой шапке. Всю дорогу до окружного суда мастер беспокоился: что там в этом в обвинении? Обвинят его просто в убийстве или в убийстве «с ритуальными целями»? Улики у них никакие, во всяком случае, «косвенные», ах, да мало ли что они выдумают. Раз сфабриковано дело, улики найдутся. Ничего-ничего, не важно, какое обвинение, важно, что оно у него будет, и тогда можно поговорить с адвокатом. И тогда его, может быть, не станут больше держать в одиночке. Пусть хоть с убийцей посадят, всё лучше этой одинокой тоски. Адвокат всем про него объяснит. Скажет: «Он же порядочный человек, ни под каким видом он не мог убить невинного мальчика». Только надо, чтобы был хороший адвокат. Про кого говорил тогда Бибиков, что у него на примете «человек сильный, смелый, с прекраснейшей репутацией»? Может быть, Иван Семенович знает? Позволили бы у него спросить. Интересно – он русский, этот адвокат, или еврей? А что лучше? И как он ему заплатит? Станет он советы давать забесплатно? Да, но пусть он даже самый хороший адвокат – как сможет он его защитить, если бумаги Бибикова попали в руки Черной Сотне?
При всех тревогах и при том, что руки его в тесных наручниках, узник, ненадолго выпущенный из тюрьмы, Яков радуется поездке. Люди вокруг, конка идет, трясет – как будто ты на свободе.
На следующей остановке в вагон входят двое, замечают наручники, начинают перешептываться и, усевшись, шепотом что-то рассказывают другим. Кое-кто поворачивается, на него глазеют. Он это замечает, прикрывает глаза.
– Это же он, сволочь, мальчика христианского убил, – хрипит человек в вязаной шапке. – Я сам его видел в автомобиле, перед Марфы Головой домом, сразу как его схватили.
В вагоне переговариваются.
Охранник величаво роняет:
– Все в порядке, любезные. Напрасная тревога. Я везу преступника в суд, там ему будет предъявлен обвинительный акт.
Два бородатых еврея в больших шляпах спешат к выходу.
– Если вас осудят, – кричит один Якову, – вы крикните: «Слушай, Израиль: Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь един есть!» [21]21
Второзаконие, 6:4.
[Закрыть]
Он выскакивает на ходу, не дождавшись остановки, и, приподнявшись было, снова усаживаются два тайных агента.
Дама в шляпке с плюшевыми цветами, проходя, плюет в мастера. Плевок застревает у него в бороде.
Но скоро охранник его подтолкнул, и на следующей остановке они вышли. И зашлепали по рыхлому снегу, и охранник остановился и купил у лотошника яблоко. Отдал мастеру, и тот жадно, мигом его съел.
В здании суда Грубешов перебрался в более просторный кабинет, там теперь уже шесть столов в прихожей. Яков сидел рядом с охранником, ждал и дождаться не мог, когда же он увидит свое обвинение. Странное дело, подумаешь, драгоценность какая – обвинение в убийстве, но без него же нельзя сделать первый ход для своей защиты.
Его вызвали в кабинет. Охранник вошел вместе с ним, с шапкой в руке вытянулся сзади, но Грубешов, кивнув, его отпустил. Господин прокурор со скучающей миной сидел за новым бюро и косвенным взглядом осматривал арестанта. Все было по-прежнему, кроме его наружности. Он выглядит старше, да, но каким же стариком, значит, выглядит сам Яков? Косматый, бородатый, весь потный в своем пальто и перепуганный до смерти.
Грубешов важно кашлянул и отвел взгляд. Никаких бумаг Яков на столе у него не увидел. Он твердо решил держать себя в руках перед этим архиюдофобом, но вдруг его кинуло в дрожь. У него давно все тряслось внутри, и он унимал эту дрожь, но вот он подумал про то, что случилось с Бибиковым, как с ним самим обращались, чего он натерпелся из-за этого Грубешова, и ненависть перехватила ему горло, и он затрясся. Он трясся так, будто хотел стряхнуть с себя ядовитую мерзость. Он мучился от стыда из-за того, что трясется, как в ознобе, как в горячке, на глазах у прокурора и ничего не может с этим поделать.
Господин прокурор с минуту в недоумении его озирал.
– Вас знобит, Бок?
В несколько севшем голосе – намек на сочувствие. Мастер говорит, что так оно и есть, и продолжает дрожать.
– Болели?
Яков кивает, стараясь скрыть свое презрение к этому человеку.
– Сожалею, – говорит обвинитель. – Ну-с, а теперь садитесь и постарайтесь взять себя в руки. И перейдем к другим предметам.
Отперев ящик бюро, он вытаскивает пачку длинных листов бумаги, густо покрытых машинописью. Листов двадцать.
Б-г ты мой, так много? У Якова вдруг унимается дрожь, и он весь подается вперед на стуле.
– Ну-с, – Грубешов улыбается, будто только сейчас он это сообразил, – за обвиненьем пожаловали?
И перебирает бумаги.
Мастер, не в силах оторвать от них глаз, проводит языком по губам.
– Пребывание в карцере, полагаю, вам не очень пришлось по душе?
В горле у Якова вопль, но он кивает.
– Быть может, оно видоизменило ваш образ мыслей?
– Только не в отношении моей невиновности.
Грубешов усмехнулся, слегка откачнулся от бюро.
– Упорство ни к чему вас не приведет. Удивляюсь вам, Бок. Кажется, и дураком вас не назовешь. Думаю, вы отдаете себе отчет в том, что положение у вас безнадежное, а вот поди ж ты, упорствуете.
– Вы меня извините, но когда я смогу увидеть своего адвоката?
– Адвокат ничуть вам не поможет. Поверьте моему слову.
Мастер сидел, молчал, ждал подвоха.
Грубешов встал и начал мерить шагами свой текинский ковер.
– Будь у вас хоть все шесть, да хоть и семь адвокатов, все равно вы будете осуждены и приговорены к строгому пожизненному заключению. Вы думаете, присяжные, русские патриоты, поверят тому, что подучит вас говорить какой-то ловкач?
– Я скажу им правду.
– Если эта «правда» – то, чем вы потчевали нас, так ни один русский в здравом уме вам не поверит.
– Я думал, и вы могли бы поверить, ваше благородие, если вы знаете обстоятельства.
Грубешов замер на ковре, прочистил горло.
– Нет, меня увольте, хоть я и подумывал временами, что вы были порядочным человеком, но стали искупительной жертвой своих единоверцев. Кстати, интересен ли вам тот факт, что сам царь убежден в вашей виновности?
– Царь? – Яков поразился. – А он про меня знает? И как может он верить такому? – У него тяжело покатилось сердце.
– Его величество принял живейшее участие в этом деле, когда прочитал о несчастном Жене в газетах. Тотчас же он сел за стол и собственноручно мне написал следующее: «Надеюсь, вы не пожалеете трудов, дабы изобличить и поставить перед судом презренного еврейского убийцу бедного мальчика». Цитирую по памяти. Его величество – человек тончайших чувств, а иные его прозрения удивления достойны. С тех пор я постоянно извещаю его императорское величество о ходе расследования. Оно ведется с ведома и одобрения государя.
Б-г ты мой, какое несчастье, подумал мастер. Немного погодя он сказал:
– Но как мог царь поверить неправде?
Грубешов резко вернулся к столу, сел.
– Его убедили, как и всех нас, непреложные улики, раскрытые через показания свидетелей.
– Каких свидетелей?
– Вы отлично сами знаете каких, – перекосился Грубешов. – Николая Максимовича Лебедева, например, и его дочери – достойнейшие и благородные люди. Марфы Головой, многострадальной матери несчастного сына, женщины трагической и чистой. Десятника Прошко и двух возчиков. Дворника Скобелева, который видел своими глазами, как вы потчевали Женю конфетками, и может подтвердить под присягой, что вы неоднократно гоняли мальчика со двора. Это не без ваших козней Николай Максимович, как он нам сообщает, его уволил.
– Я и не знал, что его уволили.
– Вы много чего не знаете. Еще узнаете, имейте терпение.
Перечисление свидетелей продолжалось.
– Могу привести еще показания вашего еврейского сокамерника Гронфейна, которого вы подстрекали в интересах вашей нации подкупить Марфу Владимировну, чтобы не свидетельствовала против вас. Нищенки, которая попросила у вас милостыни и вы отказали, а потом она видела, как вы зашли в заведение, где точат ножи. Хозяина этого заведения и приказчика его, которые могут показать, что два ваших ножа были наточены до последней степени, после чего возвращены вам. Известных религиозных деятелей, знатоков еврейской истории и теологии, психиатров, изучающих особенности вашей нации. У нас собраны уже более тридцати свидетельств, на которые весьма и весьма можно положиться. Его величество с ними ознакомился. Когда государь был в последний раз в Киеве, вскоре после вашего ареста, я имел честь лично докладывать: «Ваше Величество, счастлив вам сообщить, что преступник, виновный в смерти Жени Голова, арестован и находится ныне в тюрьме. Это Яков Бок, член еврейской фанатической группы, хасидов». И его величество, вообразите – прямо под дождем, обнажил голову и перекрестился в благодарение Господу за ваш арест.
Яков представил себе, как царь крестится и дождь мочит его редкие волосы. И впервые всплыла у него мысль – может, тут просто ошибка? Может, они с кем-то его перепутали?
Обвинитель выдвинул другой ящичек, вытащил пачку газетных вырезок. Прочитал наудачу: «Его Величество изволил выразить окончательную свою уверенность в том, что, как он и подозревал, это гнусное преступление совершено негодяем-евреем, который должен быть примерно наказан за свое варварское деяние. „Мы должны сделать все возможное, дабы защитить наших невинных русских детей и успокоить их матерей. Когда я думаю о собственной моей жене и детях, я представляю себе их всех“». Вот. Если правитель Государства Российского и его народ единодушно убеждены в вашей виновности, какая же может быть у вас надежда на оправдательный приговор? Никакой, могу вас уверить. Ни один русский суд присяжных вас не оправдает.
– Да, но, – мастер с трудом перевел дух, – еще вопрос, чего стоят такие свидетельства.
– Я в них не сомневаюсь. Вы можете предъявить нечто более убедительное?
– А если какая-то антисемитская группа совершила убийство, чтобы бросить подозрение на евреев?
Грубешов стукнул по столу кулаком.
– Гнусные еврейские штучки! Это только еврей может додуматься – свалить собственное преступление на своих обвинителей. Вы, кажется, даже не знаете, что сами допустили – да что! – признали свою вину. – Он весь покрылся потом и сипло, со свистом дышал.
– Вину? – Якова охватил ужас. – Какую вину? Никакой я вины не допускал и не признавал.
– Вольно вам так думать, но у нас имеется отчет о неоднократных признаниях, сделанных вами во сне. Стражник Кожин заносил их в тетрадь, и старший надзиратель тоже слышал, стоя ночью под дверью. Из этих свидетельств с очевидностью проистекает, что совесть ваша обременена тяжелой заботой, что так легко понять. Крики, вздохи, вопли, даже слезы раскаяния. Очевидно, вы испытываете угрызения и жалеете о содеянном, потому я и беседую с вами так терпеливо.
Снова взгляд Якова скользнул к бумагам на столе.
– Можно мне глянуть на обвинение, ваше благородие?
– Мой вам совет, – сказал Грубешов, утирая шею платком, – подписать признание, где оговаривается, что вы совершили убийство против своей воли, под влиянием ваших еврейских фанатиков. Если вы это сделаете, как, впрочем, я уже вас уведомил во время последней нашей беседы, тотчас же и будет кое-что предпринято для вашей пользы.
– Мне не в чем признаваться. В чем я могу вам признаться? О своих несчастьях – вот о чем я вам могу рассказать. Я не могу признаться в убийстве Жени Голова.
– Слушайте, Бок, я с вами разговариваю ввиду ваших же интересов. Иначе положение ваше безнадежно. Признание повлекло бы не только вышеозначенный мною эффект. Ибо и ваших собратьев евреев оно бы спасло от расправы. Знаете ли вы, что во время вашего ареста Киев был на грани большого погрома? Лишь непредвиденный приезд государя для освящения нового памятника одному из его предков предотвратил такой ход событий. Во второй раз такого не случится, могу вас уверить. Подумайте, вы можете упустить серьезные выгоды. Я хочу устроить так, чтобы вы были отправлены в Подоловолошинск, что на австро-венгерской границе. Вы получите русский паспорт и средства на переезд в какую-нибудь страну за пределами Европы. Это Палестина, Америка, даже Австралия, если вам будет угодно туда отправиться. Советую вам более тщательно обдумать эти возможности. В противном же случае до конца жизни вы просидите в тюрьме, и в условиях куда менее благоприятных, чем те, какие сейчас вам предоставлены.
– Вы меня извините, но как тогда вы объясните царю, что отпустили человека, который сам признался в убийстве христианского мальчика?
– А уж это не ваша забота, – отрезал Грубешов.
Мастер ему не верил. Признание, он знал, обречет его навеки. Да он уже обречен.
– Смотритель сказал, вы мне дадите обвинение.
Грубешов брезгливо пробежал глазами верхний листок в пачке, сунул обратно.
– Под обвинением должна стоять подпись следователя. Он же отлучился по служебной надобности и еще не вернулся. А тем временем я желал бы знать, каков будет ваш ответ на мое более чем разумное предложение.
– Я много в чем могу признаться, но только не в этом преступлении.
– Ах, глупый еврей.
Яков с готовностью согласился.
– Если вы питаете надежды на сочувствие и, быть может, содействие следователя Бибикова, лучше их оставьте. На его месте теперь другой человек.
Мастер изо всех сил сжал зубы, чтобы снова не затрястись.
– А где господин Бибиков?
Грубешов заговорил раздраженно:
– Он был арестован за растрату казенных денег. В ожидании суда, не вынеся позора, он покончил с собой.
Мастер закрыл глаза. Открыв их, он спросил:
– Так может быть, мне разрешат поговорить с его помощником, господином Иваном Семеновичем?
– Ивана Семеновича Кузьминского, – был ледяной ответ, – арестовали на годовой ярмарке в прошлом сентябре. Он не снял шапку, когда оркестр заиграл «Боже, Царя храни». Если мне не изменяет память, он на год заточен в Петропавловскую крепость.
Мастер молчал, он задыхался.
– Вам ясно? – У Грубешова лицо было каменное и потное.
– Я невиновен! – хрипло выкрикнул мастер.
– Не бывает еврей невиновен, тем более ритуальный убийца. Более того, установлено, что вы агент еврейской организации, тайного всемирного правительства, состоящего в преступном сговоре со всемирной сионистской организацией, с союзом Герцля и с русскими масонами. У нас есть также основания полагать, что ваши хозяева стакнулись с англичанами, чтобы с их помощью свергнуть законное русское правительство и самим распоряжаться на нашей земле и помыкать нашим народом. Но и мы не такие уж дураки. Нам ваши цели известны. Читали мы «Протоколы сионских мудрецов», и «Коммунистический Манифест» мы читали, так что понимаем ваши революционные намерения!
– Какой я революционер. Я простой человек. Кто может знать про такие вещи? Я больше по плотницкой части.
– Можете запираться, сколько вам будет угодно, – мы знаем правду! – уже орал Грубешов. – Миром правят евреи, мы на себе чувствуем это ярмо. Да я на себе это чувствую – давление этих мыслей еврейских, этот гнет еврейский. Только заикнешься о преступлениях евреев, и тут же тебя заклеймят черносотенцем, ретроградом, обскурантом. Я ни то, ни другое, ни третье. Я русский патриот! Я люблю нашего русского государя!
Яков горестно оглядывал пачку бумаг на столе.
Грубешов их сгреб и запер в ящике стола.
– Если одумаетесь, дадите мне знать через смотрителя. А до той поры будете вонять у себя в карцере.
Прежде чем его отослать, господин прокурор, с налитым кровью лицом, читая по блокноту, осведомился у заключенного, не родственник ли ему Баал-Шем-Тов или ребе Залман Шнеур из Ляд и не было ли когда в семье у них резника. На все вопросы Яков, уже не в силах унять дрожь, отвечал – нет, и Грубешов усердно помечал каждый ответ.
9
Он сидел в тюремной одежде, в темной одиночке, борода спутана, красные глаза, голова горит, и едкий холод ломит ему кости. Снег шипел за окном. Ветер, задувая в разбитое окно, налетал на него хищной птицей, когтил ему руки, голову. Он бегал по камере, видел свое дыхание, колотил себя в грудь, махал руками, бил синие ладони одна о другую, плакал. Он вздыхал, стонал, взывал о помощи к небесам, пока Житняк, нервно прижавшись к глазку, ему не велел умолкнуть. Вечером, когда стражник затопит, мастер сидел у чадящей печи, приоткрыв заслонку, надвинув на уши пальто, и пламя, не грея, играло у него на лице. Только потрескивал и стонал огонь, а вся камера оставалась сырой, черной, влажно-вонючей. И он различал собственный свой гнилой запах в застоялой вони всех тех, кто жил и сгинул в этой гиблой камере.
Мастер часами дрожал в глубокой, неизбывной тоске. Кто бы поверил? Сам царь про него знает. Царь уверен, что он виноват. Царю надо, чтобы его осудили и покарали. Яков представлял себе: они бьются с русским императором. Бьются лицом к лицу, в темноте, бьются, и вот, наконец, Николай себя объявляет ангелом Божиим и поднимается в небеса.
– Фантазии, – бормотал Яков, – очень я ему нужен, и он мне не нужен. Почему они меня не оставят в покое? Что я им сделал такого?
Ох уж это еврейское счастье, просто дурно от него. Смыться из черты оседлости и вмиг угодить в тюрьму! От рождения ходит за ним конь вороной – еврейский кошмар. Это вечное проклятие – быть евреем, что же еще? Его тошнило от их истории, судьбы, кровной вины.