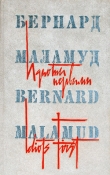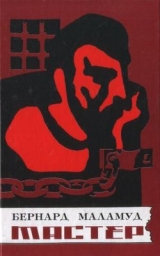
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Когда не читал, Яков составлял небольшие заметки о всякой всячине. «Я – в истории, – писал он, – но я и не в ней. Можно сказать, я от нее далеко и она течет себе мимо. Возможно, это неплохо, но что, если чего-то не хватает в моем характере? Ну и вопрос! Разумеется, не хватает, но что тут поделать? И в конце концов, велика ли беда? Лучше человеку знать свое место и придерживаться его, если только ты не способен что-то внести в историю, как, например, Спиноза, о чем я прочел в его жизни. Он понимал историю, и у него были идеи, которые он ей мог подарить. Идею вы не можете сжечь, даже если вы сжигаете человека. Да, но как же быть с Ян де Виттом, другом Спинозы, его благодетелем, великим и добрым человеком, которого в клочья растерзала толпа? На него навели напраслину, а он был невинен. [12]12
Витт, Ян де (1625–1672), фактический правитель Соединенных провинций, ставленник голландского купечества. Во время восстания был растерзан толпой.
[Закрыть]Кому нужна такая судьба?» Кое в каких заметках он критиковал прочитанное в газете. Потом перечитывал и бросал в печку. И брошюры он тоже сжигал, если не удавалось перепродать.
Ни с того ни с сего стало его мучить, что так долго не брался за инструмент. Он себе сделал стол, стул, кой-какие полки на стенах, но все это в первые же несколько дней, как поселился в заводе. Он боялся, что совсем разучится плотничать, а куда это годится? Потом пришло еше письмо, на сей раз от Зины, с неожиданно жирно-черными росчерками, и она его приглашала – с ведома папы – посидеть у ней вечерок. «Вы человек тонкий, Яков Иванович, – писала она, – и я уважаю ваш образ мыслей и манеру держаться; и не смущайтесь вы, пожалуйста, тем, как вы одеты, хотя, при вашем теперешнем жалованье, я уверена, вы можете себе позволить новое платье». Он сел к столу перед листом бумаги, думал-думал, но так и не придумал, что бы ей написать, и осталось письмо без ответа.
В феврале у него вдруг совсем сдали нервы. Он объяснял это своими заботами. Он сходил в то место, где изготовляли фальшивые бумаги, обнаружил, что это не то чтобы ему вовсе не по карману, хотя и дороговато, и решил обзавестись паспортом и пропиской на свое вымышленное имя. Он просыпался за несколько часов до того, как полагалось считать кирпичи при погрузке, мышцы у него были напряжены, грудь сжата, трудно дышать, и невыносимо было иметь дело с Прошкой. Даже задавая ему самый простой вопрос, он и то нервничал. Весь день он ходил раздражительный, проклинал себя за малейшую ошибку в отчете, хоть на копейку. Как-то на ночь глядя он прогнал со двора двух мальчишек. Он уже знал этих вредных шалунов, один – бледный, прыщавый мальчик лет двенадцати, другой – крестьянского вида, с пшеничной копной волос, примерно ему ровесник. Они забредали во двор после школы, вечером, кидались друг в дружку комьями глины, ломали хорошие кирпичи, дразнили лошадей в конюшнях. Яков их предупреждал, чтоб держались подальше. На сей раз он их увидел из своего окна. Они прокрались во двор со своими ранцами и швыряли камнями в курящийся над печами дым. Потом стали кидаться осколками кирпичей. Яков выскочил во двор, стал на них кричать, они не слушали. Тогда он к ним побежал, чтоб спугнуть. Они свистели, гримасничали, щупали свои гениталии, а потом, подхватив ранцы, побежали мимо сараев, взобрались на груду кирпичного лома, с нее на забор. Перебросили ранцы и перепрыгнули сами.
– Хулиганы! – крикнул Яков, грозя кулаком.
Возвращаясь в барак, он заметил, что Скобелев искоса следит за ним взглядом. И тут же дворник поскорей пошел зажигать газовые фонари. Немного погодя они засветились в сумраке, как зеленые свечи.
Прошко стоял у студильного сарая, он тоже смотрел.
– Ты как свинья резаная бегаешь, Дологушев.
Наутро к мастеру зашел полицейский исправник и спросил, нет ли кого на заводе, подозрительного по части политической благонадежности. Мастер сказал, что таких никого нет. Чин задал ему еще несколько вопросов и удалился. В ту ночь Яков не мог читать.
Спал он плохо и потому норовил лечь в постель, как только поест. Заснет сразу, но просыпается до полуночи, сна ни в одном глазу, с острым ощущением опасности. В темноте он боялся бед, о каких почти не думал в течение дня: конюшня в огне, сгорает с ним вместе, а он связан по рукам и ногам; лошади, обезумев, гибнут. Или он умирает от чахотки, от сифилиса, кашляет или мочится кровью. И – самое страшное: открывается, что он еврей. «Гевалт!» – кричал он, потом прислушивался, нет ли в конюшне возчиков, вдруг они слышали. Как-то приснилось ему, что Рихтер с тяжелым мешком за спиной идет за ним по дороге вдоль кладбища. Вот мастер поворачивается к немцу, спрашивает; что тот несет, а возчик, подмигнув, отвечает: «Тебя». Тогда Яков заказал фальшивые бумаги, заранее заплатил, но неделя шла за неделей, а он не являлся за ними. А потом, неведомо по какой причине, все как рукой сняло.
Началось спокойное, удивительное время, и первый раз в своей жизни он тратил деньги как ни в чем не бывало. Купил еще книг, писчей бумаги, табаку, пару штиблет, чтобы дать роздых ногам от сапог, роскошную банку клубничного варенья и кило муки: печь хлеб. Хлеб у него не всходил, и он пек из этой муки галеты. Еше он купил пару носков, исподнее – портки и рубаху – и недорогую сорочку, все самое необходимое. Как-то вечером, когда уж очень потянуло на сладкое, он зашел в кофейню, выпить какао и съесть пирожное. И он себе купил толстую плитку шоколада. Но потом он пересчитал свои рубли, оказалось, что он потратил больше, чем рассчитывал, и это его встревожило. Так вернулся он к скудости. Пробавлялся черным хлебом, вареным картофелем со сметаной, когда-никогда себе позволял яйцо. Штопал носки, латал старые рубахи, покуда живого места не останется. Берег каждую копейку. «Курочка по зернышку клюет», – бормотал себе под нос. У него были серьезные планы.
Как-то к ночи в апреле, когда трещал на Днепре толстый лед, а Яков – он продал книги, которые недавно купил, и потом гулял по Подолу – поздно возвращался в завод, ни с того ни с сего повалил снег. Когда взбирался в гору возле кладбища, он увидел, что какие-то мальчишки напали на старика, и криком их разогнал. Старик был еврей, хасид, в кафтане до пят, круглой раввинской шапке с меховой оторочкой и длинных белых носках. Он с трудом нагнулся, поднял со снега черную сумку перевязанную темной бечевкой. Он был ранен в висок, и кровь по волосатой щеке капала в седую, лохматую, надвое разделенную бороду. У него был ошеломленный взгляд.
– Что с вами, дедушка? – спросил мастер по-русски.
Хасид попятился, перепуганный, но Яков подождал, и старик ответил на спотыкающемся русском, что приехал из Минска к больному брату в еврейский квартал, но заблудился. А мальчишки стали в него бросаться снежками, начиненными острыми камушками.
Конка уже не ходила, снег падал густыми мокрыми хлопьями. Яков расстроился, разволновался, но решил отвести старика к себе – пусть немного отдышится, он промоет ему ранку холодной водой, а потом выведет, пока не явятся возчики.
– Идем со мной, дедушка.
– Куда вы ведете меня? – спросил хасид.
– Я обмою с вас кровь, а когда снег перестанет, покажу вам, как пройти в еврейский квартал на Подоле.
Он провел хасида во двор, потом к себе, в комнату над конюшней. Зажег лампу, разорвал самую свою изношенную рубаху, намочил и стер кровь с бороды старика. Ранка все еще кровоточила, но хасид не обращал на нее внимания. Сидел на стуле Якова и дышал, как будто шептал. Яков предложил ему хлеба и стакан сладкого чая, но от еды хасид отказался. Он был человек достойный, с длинными пейсами и попросил у Якова немного воды. Слегка полил себе на пальцы над тазом, потом вынул из кармана пакетик, несколько кусочков мацы в носовом платке. Благословил мацу и, вздохнув, пожевал кусочек. Тут только вспомнил мастер, что сейчас Пейсах. Его как ошпарило, даже пришлось отвернуться, пока отпустит.
Он выглянул в окно. Снег все еще падал, но за хлопьями тусклым кругом слабо светилась луна. Скоро перестанет, думал Яков, но снег валил не переставая. Луна исчезла, снова все было темно и снежно. Яков подумал, что придется подождать, пока приедут возчики, быстро пересчитать кирпичи, а когда уедут телеги, поскорей увести старика, пока не придет Прошко. Если и не остановится снег, старику все равно надо будет уйти.
Старик засыпал на стуле, просыпался, смотрел на лампу, снова засыпал. Когда возчики отворяли дверь конюшни, он проснулся, глянул на Якова, но Яков приложил палец к губам и пошел вниз. Он предложил хасиду свою постель, но, когда вернулся, старик сидел и не спал. Возчики нагрузили телеги и ждали, пока рассветет. Обмотали копыта цепями, но Сердюк говорил, если навалит снега, им не сойти со двора. И Яков тревожился не на шутку.
Поднявшись к себе, он постоял у окна, закутавшись в овчинный тулуп, глядя на снег, потом скрутил и выкурил цигарку, подогрел себе стакан чая. Слегка отпил, заснул на постели, и приснилось ему, что он встретил этого хасида на кладбище. Хасид спросил: «Зачем ты тут прячешься?» – а мастер ударил его по голове молотком. Ужасный сон, от него разболелась голова у Якова.
Проснувшись, он увидел, что старик на него смотрит, и снова ему стало не по себе.
– Что случилось? – спросил он.
– Что случилось, то случилось, – ответил старик. – Но снег перестал.
– Я что-то говорил во сне?
– Я не слушал.
Небо просветлело, можно бы идти, но хасид обмакнул в воду кончики пальцев, потом развязал на своем свертке бечевку и достал большой полосатый талес. Из кармана в кафтане вынул мешочек с филактериями.
– Где восток?
Яков, нервничая, ткнул в ту стену, где окно. Благословив филактерии, хасид одну медленно повязал на левую руку, другую на лоб, осторожно проводя тесемки по запекающейся ране. Покрыл голову просторным талесом, благословил его и стал молиться перед стеной, раскачиваясь взад-вперед. Мастер ждал, закрыв глаза. Сказав утренние молитвы, старик снял талес, бережно сложил и спрятал. Филактерии снял, поцеловал, спрятал тоже.
– Да вознаградит вас Б-г, – сказал он Якову.
– Премного обязан, но нам пора идти, – оказал Яков. Он весь вспотел в своей жидкой одежонке.
Попросив старика обождать, он сошел по заснеженным ступеням, обошел вокруг конюшни. Двор был белый, тихий, печи стояли в снежных шапках. Но телеги, груженные кирпичом, не двинулись никуда, и возчики всё сидели в бараке. Яков поскорей взбежал к себе, за хасидом. По весеннему снегу они заторопились к воротам. Он отвел старика под гору, к остановке конки, но пока они ждали, мимо, звякая бубенцами, прокатили сани. Яков кликнул сонного возчика, и тот обещался доставить еврея, куда надо ему на Подоле. Когда Яков вернулся во двор, казалось ему, что прошла длинная-длинная ночь. Он был выбит из колеи, непонятная тоска его одолела. На пути к конюшне ему встретился Прошко в самом веселом расположении духа.
Когда он вошел в комнату, Якову вдруг почудилось, будто кто-то был и хозяйничал тут, пока он провожал хасида. Будто все сдвинули, а потом сунули не туда. Он заподозрил десятника. Запах навоза, прелого сена сочился снизу, из конюшни. Он поскорей просмотрел немногие свои пожитки, но нет, все было на месте – утварь, книги, рубли в жестянке. Хорошо, что кое-какие книги он продал, брошюры сжег; темы все исторические, но иной раз история тоже бывает опасной. На другой день он услышал, что в пещере поблизости найдено мертвое тело, потом, обмирая от ужаса, прочитал в газете о страшном убийстве двенадцатилетнего мальчика, который жил в деревянном доме вблизи кладбища. Тело нашли в сидячем положении, руки связаны за спиной. Мальчик был в одном исподнем, разут, только черный чулок болтался на левой ноге; рядом были разбросаны окровавленная рубаха, школьная фуражка, пояс, учебники в карандашных каракулях. И «Киевлянин», и «Киевская мысль» напечатали фотографию мальчика, Жени Голова, и Яков узнал того прыщавого, которого он прогнал со двора с товарищем вместе. В одной газете сообщалось, что он уже неделю как умер, в другой – будто бы две недели. Полицейский исправник, осмотрев вздувшееся лицо и изувеченное тело, насчитал тридцать семь ран, нанесенных колющим инструментом. Согласно профессору Шерпунову из киевского медицинского института, мальчик истек кровью в результате множественных колотых ран, и «возможно, это убийство в ритуальных целях». Марфа Владимировна Голова, несчастная мать, вдова, опознала тело своего сына. В обеих газетах была помещена фотография – она прижимает голову бедного мальчика к безутешной груди, бессильно рыдая: «Скажи мне, Женичка, кто это сделал с моим сыночком?»
В ту ночь река вышла из берегов, затопила плесы по пригородам. Два дня спустя мальчика похоронили на кладбище, в двух шагах от его дома. Яков из своего окна над конюшней видел запорошенные апрельским снегом деревья, а среди деревьев и убогих могил черную толпу, в числе других богомольцев с посохами. Когда гроб опускали в могилу, взвились сотни листовок: ЕВРЕИ ВИНОВАТЫ. Неделю спустя киевский Союз русского народа вместе с членами Общества двуглавого орла водрузили на могиле мальчика большой деревянный крест – Яков смотрел издали, – одновременно, согласно вечерним газетам, призывая всех добрых христиан к новому крестовому походу против врагов-евреев. «Они хотят не больше не меньше как отнять у нас жизнь и Отечество! Русские! Берегите детей своих! Отмстите за безвинную жертву!» Ужасно, думал Яков, они затевают погром. Прошко во дворе щеголял двуглавым орлом на кожаном фартуке. На другое утро, чуть свет, мастер бросился в ту печатню, где заказал фальшивые бумаги, но печатню, оказалось, спалили. Он метнулся к себе, судорожно пересчитал рубли – хватит ли на дорогу до Амстердама, а то до Нью-Йорка. Упаковал скудные пожитки, перебросил через плечо мешок с инструментом и стал спускаться по лестнице, но кто-то с рыжими усами, назвавшийся полковником Бодянским, главой киевской тайной полиции, несколько приставов, пятнадцать жандармов в белых шнурах поперек груди, полицейский наряд, несколько сыщиков в штатском и двое представителей генерального прокурора, всего человек тридцать, уже поднимались, взведя пистолеты, преграждая Якову путь.
– Именем Его Величества Государя Императора Николая Второго, – объявил рыжий полковник, – вы арестованы. Сопротивление равносильно смерти.
Мастер тотчас признался, что он еврей. Другой вины на нем нет никакой.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
В длинной высокой камере под мрачным, облезлым зданием окружного суда в торговой части Плосского, в нескольких верстах от Лукьяновского, от завода, Яков в неотступной тоске тщетно пытался изгнать из памяти этот вид: он идет в наручниках между двух рядов конных жандармов, а те, сабли наголо, звякая шпорами, его гонят по заснеженным улицам, уже слякотным от санных полозьев.
Он молил полковника, чтобы ему дали идти по панели, где сраму меньше, но его выгнали на мокрую проезжую часть, и по дороге на работу люди останавливались, смотрели на него. Сперва просто смотрели, потом замирали, перешептывались, кто-то хихикал. Большинство, кажется, недоумевало, по какому случаю эдакий парад, но потом гимназистик в синей фуражке изобразил с помощью пальцев у себя на голове рожки и, пританцовывая на снегу, запел: «Жид, жид!» – и в ответ грянули крики, смех, улюлюканье. Кучка народа, женщины в том числе, потянулись следом, потешались над мастером, обзывали его «жид-убийца». Он хотел вырваться, убежать, но не посмел. Кто-то швырнул в него деревяшкой, угодил по шее лошади, та пустилась в дикий галоп и неслась, взметая снег, покуда ее не осадили. Тогда только полковник, гигант в меховой шапке, обнажил саблю, и толпа рассеялась.
Сначала он доставил арестанта в главную канцелярию тайной полиции, одноэтажный мрачный дом в закоулке; затем, после раздраженного разговора по телефону, обрывки которого слышал через стенку зажатый жандармами на скамье перепуганный арестант, препроводил Якова в подвал под окружным судом, а двое жандармов с обнаженными саблями остались охранять коридор. Яков, один в камере, ломая руки, причитал: «Мой Б-г, что я с собою сделал? Я в руках врагов!» Он бил себя кулаком в грудь, оплакивал свою судьбу, предвидел страшные беды. Кончится тем, что его в клочья растерзает толпа. Но бывали и минуты внезапной надежды, когда он думал, что стоит ему объяснить, почему он сделал то, что он сделал, и тотчас же его отпустят. Сдуру он прикинулся тем, кем он не был, в надежде, что это перед ним откроет «возможности», был хорошенько проучен и теперь платит за ученье. Если сейчас бы его отпустили. Он достаточно уже наказан. Он ругал себя за эгоизм и самонадеянность – и кто он такой? – обещал себе, что в будущем все переменится. Он выучил свой урок. Потом он вскочил и крикнул: «Какое будущее?» – но никто ему не ответил. Дневальный принес чай и ломоть черного хлеба, но есть он не мог, хотя у него со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. День шел, и мастер все чаще стонал, рвал на себе волосы, то и дело бился головой об стену. Жандарм это увидел и строго-настрого запретил.
К вечеру, сидя на жидком матрасе прямо на полу, арестант услышал в коридоре шаги, отличные от мерной поступи стражника, сменившего тех двух жандармов. Яков вскочил. Человек среднего роста, в черной шляпе и меховой шубе, спешил к темной камере по тускло освещенному коридору. Он приказал стражнику отпереть камеру, запереть его вместе с узником и уйти. Стражник мешкал. Человек терпеливо ждал.
– Мне не велено уходить, это уж как вашему благородию будет угодно, – говорил стражник. – Прокурор сказали – глаз не спускать с еврея этого, поскольку исключительно важный случай. Мне помощник ихний передал.
– Я здесь по официальному поручению и позову вас, когда мне понадобится. Подождите в дверях коридора.
Стражник нехотя отпер камеру, запер пришедшего с Яковом и ушел. Пришедший подождал, пока стражник уйдет, потом вынул из кармана свечной огарок, засветил и сунул в оплывки сырого воска на блюдце. Подержал блюдце, разглядывая Якова, потом поставил на стол. Увидел при свече пар у себя изо рта, накинул шубу. «Я подвержен простуде». Темная бородка, пенсне, шарф, обмотанный вокруг шеи. Оглядел мастера, который стоял навытяжку, весь напрягшись, и представился звучным спокойным голосом:
– Я Бибиков, следователь по особо важным делам. Назовитесь, пожалуйста.
– Яков Шепсович Бок, ваше благородие, хотя в моих глупых ошибках ничего особо важного нет.
– Так вы не Яков Иванович Дологушев?
– Это был идиотский обман. Я сразу признаю.
Бибиков, поправив пенсне, молча смотрел на него. Поднял свечу, хотел от нее прикурить, потом передумал, снова поставил свечу на стол, папиросу сунул в карман.
– Скажите мне правду, – начал следователь строгим голосом, – вы убили этого несчастного мальчика?
Тьма застлала глаза Якову.
– Ни Б-же мой! Ни Б-же мой! – крикнул он хрипло. – Как я мог убить невинного ребенка? Зачем мне это нужно? Сколько лет я хотел иметь ребенка, но такое уж мое счастье, жена не может родить. В душе своей по крайней мере я все равно что отец. И зачем бы я стал убивать невинного ребенка? О таком и помыслить страшно, лучше умереть.
– И давно вы женаты?
– Пять лет, шестой, хотя сейчас я нельзя сказать, что женат, потому что жена меня бросила.
– Вот как? И почему же она вас бросила?
– Если короче оказать, она мне изменила. Бежала с неизвестной мне личностью, в потому я сейчас в тюрьме. Не поступи она так, я бы сейчас был там, где мое место, то есть где я родился. В эту самую минуту я сидел бы за ужином, но вот не судьба. Как солнце сядет, заработал я копейку или же нет, я шел прямо к своему дому. Не такое уж плохое место, если теперь подумать.
– Вы, стало быть, не киевлянин?
– Я не городской, из провинции. Я покинул свои края через несколько месяцев после того, как жена меня бросила, и с ноября я здесь. Стыдно было там оставаться, когда такое случилось. Были еще причины, но эта главная.
– И какие же это причины?
– Надоела моя работа – разве это можно назвать работой? И я надеялся, если немного повезет, получить кой-какое образование. Говорят, в Америке есть такие школы, где взрослые занимаются по вечерам.
– И вы намеревались эмигрировать в Америку?
– Была и такая мысль, ваше благородие, были и другие, и все они кончились пшиком. Хотя вообще я верный подданный царя.
Следователь нащупал в кармане папиросу, прикурил. Затянулся и помолчал по другую сторону стола, разглядывая при свече замученное лицо Якова.
– При вашем аресте я заметил среди ваших пожитков несколько книг, в том числе томик избранных глав из сочинения философа Спинозы.
– Совершенно верно, ваше благородие. Мне его вернут? И еще я беспокоюсь насчет своего инструмента.
– Все своим чередом, если вас оправдают. Вы знакомы с его сочинениями?
– Ну это как бы сказать, – ответил мастер, встревоженный вопросом. – Книгу я прочитал, но не все я там понял.
– Что в ней вас привлекло? Прежде всего, позвольте спросить, что вас привело к Спинозе? То, что он еврей?
– Нет, ваше благородие. Я и не знал, кто он и что, когда мне книга попалась, – его же не очень жалуют в синагоге, если вы читали историю его жизни. Я увидел книгу на толкучем рынке в соседнем местечке, отдал копейку, потом еще ругал себя за то, что потратил деньги, которые с таким трудом достаются. А прочитал несколько страниц, и меня как ветром понесло. Я уже сказал, я понимал не все, но когда вы имеете дело с такими идеями, вас как будто околдовали. Я просто стал другим человеком. Конечно, это только так говорится, я мало изменился со своей юности.
Отвечал он свободно, но разговор о книге с русским официальным лицом пугал Якова. Он меня испытывает, он думал. Но если на то пошло, лучше уж о книге, чем об убитом ребенке. Я скажу всю правду, но не надо спешить.
– Не объясните ли вы мне, что, но-вашему, значит книга Спинозы? Иными словами, если это философия, то что она утверждает?
– Сказать нелегко, – виновато замялся Яков. – Честно говоря, я человек отчасти темный. А в другой своей части я недоучка. Я многого не ухватываю при самом большом прилежании.
– Объясню вам, почему я вас спрашиваю. Я спрашиваю потому, что Спиноза – один из любимейших моих философов, и мне интересно знать, как он воздействует на других.
– В таком случае, – сказал мастер с некоторым облегчением, – я вам скажу, что книга означает разное в зависимости от содержания глав, хотя в самой глубине все и связано воедино. Но по-моему, смысл тут в том, что он хотел сделать из себя свободного человека, и каждый может, согласно его философии, – не знаю, понятно ли я говорю, – все продумав и все связав, если вы согласитесь со мной, ваше благородие.
– Неплохой подход, – сказал Бибиков, – если говорить скорее об авторе, чем о книге. Но слегка коснитесь, если можно, и самой философии.
– Кто же знает, получится ли у меня, – оказал мастер. – Ну может быть так, что Б-г и природа – одно, то же и человек; и богат ли он, беден – это не имеет значена, что-то в таком духе. Да? Если ты поймешь, что разум связывает человека с Б-гом, то ты поймешь все так же, как я. И тогда ты свободен, если ты в разуме Б-жием. Ты тогда все понимаешь. А с другой стороны, вся беда в том, что ты связан Природой, да? Хоть для Б-га это не важно, ибо сам он Природа. Есть еще одна вещь под названием Необходимость, она всегда тут как туг; хотя кому она нужна, и приходится ее одолевать. По штетлу Б-г вечно носится с Законом в обеих руках, но у того, у другого Б-га, хоть они ведает куда большим пространством, гораздо меньше хлопот. В какого ни перестаешь верить, никакой разницы, если у тебя нет работы. Вот вам и Необходимость. И еще я думаю, смысл такой, что жизнь есть жизнь и незачем ее пихать в могилу. Или так, или я не очень хорошо во всем разобрался.
– Если человек связан Необходимостью, откуда же берется свобода?
– Она в твоих мыслях, ваше благородие, если твои мысли в Б-ге. Если ты веришь в такого вот Б-га, и ты ее можешь измыслить. Как бы человек летает над собственной головой на крыльях разума или что-то в таком духе, да? Соединяешься со вселенной и забываешь о собственных горестях.
– И вы верите, что так можно достичь свободы?
– В какой-то степени, – вздохнул Яков. – Очень бы хорошо, но какой у меня опыт? Я мало жил за пределами местечка.
Следователь улыбнулся.
Яков усмехнулся было, но тут же осекся.
– Как по-вашему, то, о чем вы говорите, и есть истинная свобода или человек не может все-таки быть свободен без свободы политической?
Тут надо поосторожней, думал мастер. Политика есть политика. Зачем раздувать горящие уголья, если по ним придется идти?
– Даже не знаю, ваше благородие. Отчасти можно так посмотреть, отчасти по-другому.
– Совершенно верно. Можно сказать, у Спинозы не одна концепция свободы – в Необходимости, говоря философски; а практически – в государстве, иными словами, в области политики и политического действия. Спиноза допускает известную свободу политического выбора, равно как и свободу выбора в образе мыслей, как если бы подобный выбор существовал. По крайней мере он его допускал. Он, вероятно, считал, что цель государства, правительства – безопасность и сравнительная свобода разумного человека. Чтобы человеку было позволено думать. К тому же он полагал, что человек свободней, если участвует в жизни общества, чем ежели пребывает в уединении, как сам Спиноза. Он полагал, что свободный человек в обществе радеет в том, чтобы умножать счастье и интеллектуальную независимость своих ближних.
– Да, наверно, все оно так, ваше благородие, раз уж вы говорите, – сказал Яков, – но что касается меня, тут еще есть о чем поразмыслить, хотя, если ты беден, время твое уходит на другие вещи, само собой понятно какие. И ты оставляешь тем, кому это по плечу, думать о разной-всякой политике.
– Ах, – Бибиков вздохнул. Пыхнул папиросой и ничего не ответил. На минуту в камере повисло молчание.
Я что-то не так сказал? – отчаянно думал Яков. Иногда лучше вообще держать язык за зубами.
Когда следователь снова заговорил, он уже был больше похож на официальное допрашивающее лицо, голос стал сухой, бесстрастный.
– Случалось ли вам слышать выражение «историческая необходимость»?
– Не помню такого. Не слышал, по-моему, но, наверно, могу догадаться, что это значит.
– Вы уверены? Вы не читали Гегеля?
– Не слышал про него.
– А Маркса? Он тоже был еврей, хотя это ему, кажется, не очень нравилось.
– Тоже не слышал.
– Как по-вашему, есть у вас своя собственная «философия»? И если да, то в чем она заключается?
– Если она у меня и есть, то не стоит разговора. Я же только-только начал немного читать, ваше благородие, – извинялся Яков, – и если есть у меня философия, так это, если позволите сказать, что жизнь должна бы стать получше.
– Но как ее сделать лучше иначе как политическими средствами?
Вот она, ловушка, подумал Яков.
– Может, надо, чтобы стало больше работы, – выговорил он, запинаясь. – И чтобы люди были добрее друг к другу. Все должны быть ответственными, иначе все плохое станет еще хуже.
– Что же, для начала неплохо, – спокойно сказал следователь. – Вам нужно и дальше читать и думать.
– Я и стану, как только меня отсюда выпустят.
Бибиков, кажется, смешался. Мастер почувствовал, что его разочаровал, но он не понимал почему. Наверно, нес слишком много вздора. Не так-то легко говорить умные вещи, когда ты в беде, да и на чужом языке нелегко изъясняться.
Немного погодя следователь уронил рассеянно:
– Синяки на голову как посадили?
– В темноте, от тоски.
Бибиков полез в карман и протянул мастеру свой портсигар.
– Угощайтесь. Турецкие.
Яков закурил, чтобы его не обидеть, хотя ему не по нутру была эта папироса.
Следователь вынул из кармана свернутый листок бумаги и огрызок карандаша, положил на стол перед Яковом.
– Оставляю вам этот допросный лист. Нам надо установить кое-какие подробности вашей биографии за неимением полицейских бумаг. Ответьте на все вопросы, подпишитесь, а тогда позовите стражника и ему отдайте эту бумагу. В каждом вашем показании будьте точны. Свечу я вам оставляю.
Яков уставился на бумагу.
– А сейчас мне надо спешить. У моего мальчика жар. Жена с ума сходит.
Бибиков застегнул меховую шубу и надел широкополую черную федору, которая казалась ему велика.
Кивнул арестанту, сказал тихо:
– Что бы ни случилось, будьте мужественны.
– Б-г ты мой, что может случиться? Я невинный человек.
Бибиков пожал плечами:
– Это дело тонкое.
– Помилосердствуйте, ваше благородие, я так мало видел в своей жизни.
– Милосердие – это для Б-га, я полагаюсь на закон. Закон вас защитит.
Он позвал стражника и вышел из камеры. Запиралась гремучая дверь, а он уже спешил прочь по тусклому коридору.
Мастер вдруг почувствовал острый укол тоски.
– Когда вы еще придете? – крикнул он вслед уходящему.
– Завтра.
Хлопнула дальняя дверь. И замерли шаги.
– Жди-пожди теперь завтра ихнего, – сказал стражник.
2
Наутро другой стражник отпер камеру, тщательно обыскал Якова, плотно его заковал в тяжелые наручники, скрепленные толстой короткой цепью, и в сопровождении еще двоих конвойных, один из которых его ругал и толкал пистолетом в спину, Яков, ни жив ни мертв, был отведен по стонущим деревянным ступеням на два марша вверх, в кабинет судебного следователя. В просторной прихожей сидели за длинными столами и скребли по бумаге перьями чиновники в вицмундирах. Уставясь на него с любопытством, потом они переглядывались. Якова провели в небольшой кабинет, оклеенный темными обоями. Бибиков стоял у открытого окна и махал руками, разгоняя папиросный дым. При появлении Якова он тотчас затворил окно и сел в кресло во главе длинного стола. В кабинете было еще массивное бюро, несколько полок с толстыми книгами, две большие лампы под зелеными абажурами, образок в углу; царь Николай Второй, изображенный сепией, в медалях, с безупречной бородкой, осуждающе глянул на мастера со стены. При этом большом портрете ему стало совсем уж не по себе.
Кроме Бибикова, в кабинете был только помощник, прыщавый господин лет тридцати с жидкой бороденкой, в которой сквозил слабый, убегающий назад подбородок. Он сидел рядом со следователем в конце стола, Якову же было велено сесть в другом конце. Трое сопровождающих по указанию следователя остались ждать в прихожей. Бибиков, бегло оглядев арестанта – чуть ли не с омерзением, как тому показалось, – порывшись в стопке бумаг на столе, извлек из кипы толстую пачку и начал листать. Что-то шепнул помощнику, тот набрал в вечное перо черных чернил из большого пузырька, обтер кончик выпачканной тряпицей и стал строчить у себя в тетради.
Лицо Бибикова, усталое и хмурое, так изменилось со вчерашнего, что на секунду Яков смятенно подумал, не другой ли перед ним человек. У него была большая голова, широкий лоб и седеющая темная грива. Читая, он покусывал тонкую нижнюю губу; потом отложил бумаги, подул на пенсне, утвердил на переносье, отпил воды из стакана. Голосом, лишенным всякого чувства, он через стол заговорил с мастером: