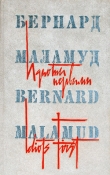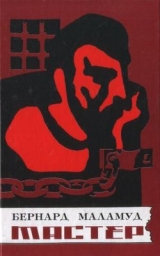
Текст книги "Мастер"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– О, черт, поздно! Давай, пошла!
Кляча не шелохнулась. Мастер потянулся за хлыстом. Потом передумал, спустился, отцепил ржавое ведро и пошел искать воду Ручеек он нашел, но ведро текло, и все же он подал его лошади, полупустое, но пить она не захотела.
– В твои игры я не играю. – Яков выплеснул воду, повесил ведро на крюк под телегой и взобрался на козлы. Он махал хлыстом, пока тот не засвистел. Свесив уши, лошадь двинулась вперед, если можно это назвать движением. По крайней мере переместилась. Мастер снова со свистом рассек воздух хлыстом, и после минутного раздумья она пошла рысью. Загрохотала телега.
Немного проехали и поравнялись со старухой странницей – та плелась по дороге, клонясь к длинной клюке, вся в черном, в крестьянских мужских сапогах, с котомкой, повязанная грубым черным платком.
Яков взял было в сторону, чтобы ее пропустить, но тут же крикнул:
– Подвезти, бабушка?
– Спаси тебя Христос. – У нее было три серых зуба.
Христа ему только не хватало. Плохой знак, – он подумал. Яков помог ей влезть на козлы и тронул клячу хлыстом. К его удивлению, она возобновила свою рысцу И вот на повороте дороги правое заднее колесо задело за камень и с треском раскололось. Телега накренилась, осела назад, левое колесо подогнулось.
Старуха перекрестилась, медленно слезла на дорогу и поплелась дальше со своей клюкой. Даже не оглянулась.
Яков клял Шмуэла, который всучил ему эту телегу. Потом соскочил на землю и осмотрел сломанное колесо. Стертый железный обруч слетел. Деревянный обод прогнулся и расколол две спицы. Из сломанной втулки на ступице сочилась колесная мазь. Яков взвыл.
Пять минут он стоял в отупении, потом достал из телеги мешок с инструментом, развязал, разложил свои орудия на дороге. Но с лудильным ножом, угольником, резаком, пилой, рубанком, мастикой, проволокой и двумя шилами эту поломку мастер исправить не мог. Если бы все складывалось лучше некуда, на починку колеса у него ушел бы день целый. Он подумывал, не купить ли у какого-нибудь крестьянина подходящее, ну хоть почти подходящее колесо. Да, но где этот крестьянин? Когда они тебе не нужны, ты не знаешь, куда от них деться. Яков вытряхнул остатки колеса в телегу. Завязал мешок с инструментом и грустно ждал, когда же кто-то появится. Никто не появлялся. Он уж подумал было, не вернуться ля в штетл, но сразу опомнился. Солнце садилось, темнело небо.
Если идти медленно, может быть, и на трех колесах я могу дораться до ближней деревни?
Он старался полегче сидеть на козлах, сдвинулся как можно левей и умолял лошадь держаться. К его облегчению, они тронулись и так, скрипя задним колесом, прошли с полверсты. Он догнал странницу и только собрался ей сказать, что взять ее он не может, как второе заднее колесо, хрустнув об ось, развалилось и задок телеги глухо стукнул оземь, давя ведро. Мастер застыл, под опасным углом свесясь с козел.
Наконец ему удалось с них слезть. «Кто придумал мою жизнь?» Позади него была пустая голая степь, впереди – эта старуха. Остановилась у деревянного большого распятия при дороге, перекрестилась, потом тяжело опустилась на колени и стала биться головой о жесткую землю. Билась, билась, пока у Якова голова не заболела. Степь темнела, жилья вблизи не было никакого. Страшно было, что скоро падет туман, и как бы не разбушевался ветер. Он выпряг лошадь, высвободил из деревянного хомута и собрал поводья. Подвел лошадь к козлам, на них взобрался и оттуда сел на нее. Снова слез. Мешок с инструментом, связку книг и свертки сложил на покосившихся козлах, намотал на себя поводья и снова влез на лошадь. Мешок закинул за плечо, левой рукой придерживал остальные вещи у лошади на спине, а в правой держал поводья. Лошадь рванула в галоп. И, к удивлению Якова, не упала.
Они обогнули старуху, распростертую перед крестом. Верхом он чувствовал себя неуверенно, по-дурацки, но делать нечего. Кляча перешла на рысцу, потом на унылый шаг. И стала как вкопанная. Яков призывал на ее голову вечное проклятие, и в конце концов она ожила и снова потащилась вперед. Когда они продвигались, мастер, который никогда еще не сидел на лошади, – почему, интересно, но у него никогда не было лошади, начнем с этого, – мечтал об удаче, достатке, богатстве. Вот у него приличный дом, свое выгодное дело – может, даже какая-то фабрика, – верная жена, темноволосая, милая, и трое здоровеньких деток, благослови их Б-г. Но когда движение прекращалось, он поминал недобрым словом своего тестя, бил клячу кулаком и предвидел свое несчастное будущее. Яков умолял эту тварь поторопиться – стемнело, дул острый степной ветер, – но, избавившись от телеги, она изучала мир. То остановится попастись, громко вырывая траву стертыми своими зубами, то прогуляется с одной стороны дороги на другую. А то вдруг вообще повернет и слегка прорысит обратно. Яков в бешенстве грозил ей хлыстом, но они знали же оба, что нет у него теперь никакого хлыста. Отчаявшись, он лягнул ее пятками. Кляча вздыбилась, и на несколько опасных минут Яков себя почувствовал как на лодке в бурном море. Еле выжив, он больше не стал лягаться. Подумал было, не выбросить ли свои пожитки – вдруг это ускорит дело? – но не решился.
– Несчастье моей жизни, сволочная ты лошадь. Опомнись, не то тебе худо будет.
Но ни к чему это не вело.
А тьма была уже хоть глаз выколи. Выл ветер. Степь стала черным морем, полным чужих голосов. Никто здесь не говорил на идише, и, возможно ощутив эту странность, лошадь тронула рысью и скоро пустилась чуть не бегом. Мастер – сейчас-то он был несуеверен, но был суеверен в детстве – вспоминал Лилит, Царицу Злых Духов, и Рыбу-ведьму, которая может защекотать путника до смерти и оказать ему разные прочие услуги. Призраки, как дым, поднимались над Украиной. То и дело он чувствовал, что вот, кто-то у него за спиной, но не оглядывался. Потом, как желтый цветок распускается, встала луна и озарила пустую степь, всю, до темной дали. И засияла даль. Долгая будет ночь, думал мастер. Они галопом пробежали деревню, церковь с высоким шпилем, желтую от луны, низкие соломенные хаты, ни огонька нигде. Он чуял дым костра, но костра нигде не видел. Яков подумал было, не спешиться ли, постучаться в чужую дверь, попроситься на ночлег. Но он чувствовал, что, стоит ему спешиться, больше ему на этой лошади не сидеть. И вдруг еще отберут у него последние рублики. Так что он никуда не слез, и кое-как они продвигались Небо густо усеяли звезды, холодный ветер дул в лицо. Вдруг мастер на минутку заснул и проснулся в холодном поту. Он решил, что пропал невозвратно, но вот, к его изумлению, вдалеке поднялась просторная гора, сияющая в тусклом лунном свете, и по ней рассыпаны горстки огней, а внизу по широкой темной воде скользило отражение выплывающей из-за тучки луны. Кляча встала как вкопанная, и еще бесконечный час ушел у них на последние полверсты до реки.
3
Был промозглый холод, но ветер возле Днепра улегся. Парома не было, лодочник сказал: «Закрыто. Поздно. Кончили». Он махал руками, будто говорит с иностранцем, хотя Яков обратился к нему по-русски. Паром уже не ходил, и от этого мастеру еще больше захотелось перебраться на тот берег. Нанять койку на постоялом дворе, встать пораньше, пойти искать работу.
– Рупь давай – переправлю, – сказал лодочник.
– Дорого, – сказал Яков, хоть устал до смерти. – А в какую сторону мост?
– Верст шесть, а то восемь будет. Путь не близкий.
– Рубль, – простонал мастер. – У кого же такие деньги?
– Дело хозяйское. Грести через реку неспокойную, да в полной тьме, – тоже не такое-то удовольствие. Глядишь, оба с тобой потонем.
– А что мне с лошадью делать? – спросил мастер скорей сам у себя.
– А это уж не моя забота. – Лодочник, могучий, с косматой поседелой бородой, смачно высморкался на землю, освободив сперва одну ноздрю, потом другую. Правый глаз у него был в кровавых прожилках. – Слышь, друг, и чего ты без толку маешься? Ну скажем, я бы переволок ее, хоть я не могу, так она ж у тебя сразу и сдохнет. Долго смотреть но надо, видно – доходит она. Смотри-ка, дрожит. Дышит, как бык недорезанный.
– Я думал, продам ее в Киеве.
– Какой дурак у тебя купит этот мешок костей?
– Я думал, может, живодер, мало ли кто – шкуру хотя бы.
– Нет. И драч не возьмет. Лошадь твоя так и так, почитай, дохлая, – сказал лодочник. – Но если ума у тебя хватит, можешь рупь свой сберечь. Беру ее у тебя за переправу. Мне хлопоты одни, может, и выручу за этот скелет если только полтинник, да ладно уж, так и быть, вижу я, ты не здешний.
Мне с ней была одна морока, подумал мастер.
Он шагнул в лодку со своим инструментом в мешке, связкой книг и другими свертками. Лодочник отвязал лодку, окунул в воду оба весла, и они отчалили.
Кляча, привязанная к забору, смотрела на них с берега в лунном свете.
На старого еврея она похожа, подумал мастер.
Лошадь заржала и, убедившись, что это без толку, громко выпустила газы.
– Не пойму что-то, говор-то у тебя какой? – сказал лодочник, налегая на весла. – Русский, а вот из какой губернии?
– Я жил в Латвии, еще кое-где, – бормотнул мастер.
– Сперва я подумал было, ты поляк паршивый. Пан хоцет, пани хоцет. – Лодочник засмеялся. Потом фыркнул. – Или, может, еврей, мать их ети. Да-а, одет-то ты по-русски, но больше на немца смахиваешь, дьявол их всех возьми, кроме тебя и твоих, ясное дело.
– Латыш, – сказал Яков.
– Как-никак, а спаси нас всех, Господи, от евреев поганых, – рассуждал лодочник, взмахивая веслами, – от этих носатых, рябых, кровососов, паразитов. Они бы и свет дневной у нас отняли, им только дай волю. Отравляют небо и землю вонью своей, духом своим чесночным, вся Россия-матушка погибла чтобы от хворей, какие они на нас насылают, да тому не бывать. Жид – это дьявол, установленный факт; если только подстережешь его, как он сапог свой вонючий сымает, так и увидишь: копыто у него там раздвоенное, ей-богу. Уж я знаю, своими глазами видел. Господь мне свидетель. Он думал, никто на него не смотрит, а я и увидел, вот те крест.
Он глянул на Якова своим налитым кровью глазом. Нога у мастера зачесалась, но он не шелохнулся.
Пусть себе говорит, думал он, но его трясло.
– День за днем они гадят на наше отечество, – бубнил дальше лодочник, – спасенья нет от них никакого – единственно, уничтожить. Я не про то, что убить, скажем, еврея там и сям, садануть, скажем, кулаком по башке, – нет, всех надо уничтожить. И старались уж было, ан все не так-то, как следует. Я что говорю: скликать всех мужиков наших, скопом, и чтобы с ружьями, кольями, дубинами, вилами – все, чем можно убить еврея, – и как зазвонят в церквах колокола, сразу – в жидовский квартал, а это сразу по вони распознаешь, и найти их, где ни попрятались – на чердаках, в погребах, норах крысиных, – и размозжить им мозги, кишки вьшустить, отстрелить носы их сопливые, не глядя, стар ли, млад, им ведь только потачку дай, они расплодятся, как крысы, и все тогда сызнова начинать. И как перебьем все сучье племя, по всей России-матушке, по всем губерниям, отовсюду их выкурим – хотя сколько их на одном Подоле пристроилось, – трупы сложим да бензином и обольем, и костры будем жечь, чтобы людям по всему миру смотреть приятно. А потом вонючий пепел развеем и поделим рубли, и камни, и серебро, и меха – словом, все, что они награбили, или же бедным отдадим, ведь ихнее все это по праву. Вот помяни мое слово – недолго ждать, мы сделаем все, как я говорю, потому Господь наш, которого они распяли, справедливой мести желает.
Он бросил одно весло и перекрестился.
Яков чуть было не последовал его примеру. Мешок с филактериями, всплеснув, упал в Днепр и свинцом пошел ко дну.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Куда вы пойдете, если некуда вам пойти? Сначала он таился в еврейском квартале, иногда выходил украдкой, чтобы оглядеться, поразведать, проверить, тверда ли под ногами земля. Киев, «Русский Иерусалим», все еще пугал его и тревожил. Он был здесь когда-то, несколько жарких летних дней перед армией, и теперь снова только одна его половина смотрела на город – вторую одолевали заботы. Однако он бродил из улицы в улицу, и как светлы, хороши были краски. Золотистая дымка дрожала в воздухе вечерами. Деловые улицы были запружены разным людом: украинскими крестьянами в малоросских костюмах, цыганами, солдатами, попами. По ночам белые газовые шары сияли по улицам и плыл над рекою густой туман. На трех холмах стоял Киев, и Яков помнил, как впервые, дрожа от волнения, увидел город с Николаевского моста – белые крапинки домов под зелеными крышами, церкви, монастыри, и золото, серебро куполов парит над зеленой листвой. У него был глаз на красоту, хоть жизнь ему это нисколько не скрашивало. Но человек ведь не какая-нибудь тебе рабочая лошадь, или это пустые слова?
На том берегу, за блестящей темной рекой, – там, куда он добрался на своей издыхающей лошади, – степь тянулась в просторную зеленую даль. Каких-нибудь тридцать верст, и штетл стал невидим, исчез – пуфф! – пропал, может, и нет его вовсе. Хоть Якову хотелось домой, он знал, что никогда не вернется, но дальше-то что? Сколько раз Рейзл его обвиняла, что он боится уехать, и наверно, была права, но теперь уж она не права, нет. Вот я и уехал, думал он, и что меня ждет хорошего? Интересно – она вернулась? Он проклинал ее всегда, как вспомнит о ней.
Он ходил туда, где не бывал прежде, и отвечал по-русски всякому кто с ним заговорит, – проверяя себя, так он себе объяснял. Почему человек должен бояться мира? Потому что он боится, только и всего. Цепенея от страха, что в нем угадают еврея и выгонят, он тайком смотрел с церковных хоров, как крестьяне, иные с заплечными котомками, на коленях молились у алтаря перед большим золоченым распятием, перед иконой Богоматери, убранной жемчугом, покуда священник, здоровенный детина в богатом облачении, бубнил православную службу. У мастера мурашки бежали по коже, и вдобавок ему действовал на нервы этот странный запах ладана. Он чуть не умер с испугу, когда чернобородый горбун, стоявший с ним рядом, ткнул пальцем в крестьян внизу, целующих каменные плиты, колотясь об них головой. «Иди и ты! Ешь соленый хлеб и слушай слово истины!» Мастер поскорее ушел.
Сам дрожа от своей смелости, он потом спустился в катакомбы Лавры – под древним монастырем на Печерской горе у самого Днепра – вместе с толпой крестьян, серолицых, пугливых, с горящими свечами в руках. Они шли неровной чередой по низким переходам, пахнувшим сыростью, и сквозь зарешеченные окна он видел православных святых – они лежали в открытых гробах под истлевшими покровами, золотыми и алыми. Красные лампадки светились на стенах под образами. В озаренном свечами закутке, когда они проходили, монах с косичкой тянул мощи «Руки Святого Андрея» верующим для поцелуя, и каждый опускался перед пергаментной рукой на колени, прежде чем потянуться к ней ртом. Яков уж подумывал, не чмокнуть ли эти кости, но, когда дошла до него очередь, задул свечу и стал в темноте пробираться к выходу.
Снаружи была толпа нищих, в том числе безрукие и безногие с последней войны. Было трое слепцов. Один закатил глаза. Другой их выкатил так, что они стали как рыбьи. А третий читал громко – «святым духом» – по евангелию, которое держал в руках. Он уставился на Якова, Яков уставился на него.
2
Он жил в самом центре еврейского квартала в Подольском околотке, в набитом доходном доме, где проветривались на веревках перины и сушилось белье, а внизу был двор – там теснились деревянные мастерские, и все вечно трудились, и никто почему-то не зарабатывал. Только что жили, не умирали. Мастер хотел большего, такого он вдосталь уже нахлебался. Какое-то время, когда зарядил осенний холодный дождь, он держался квартала, но едва выпал первый снег – через месяц примерно, – он снова стал вылезать, присматривать работу. Забросив за плечо мешок с инструментом, он шлепал из улицы в улицу по Подолу и Плосскому, деловым местам, ровно тянущимся до самой реки, а то взбирался на соседние холмы, где евреям запрещалось работать. Он искал – так он по-прежнему себя уговаривал – благоприятных возможностей, хотя, если честно сказать, часто чувствовал себя шпионом во вражьем тылу. Еврейский квартал, не меняясь веками, кишел и смердел. Его земные блага были блага духовные; одного здесь не хватало – благополучия. Нет, не для такой жизни мастер ушел из штетла. Он нанялся было в подмастерья к щеточнику с пенной бородой, который пообещал обучить его ремеслу. Расплачивался щеточник супом. И стал Яков опять мастерить и чинить что придется, и выходило так, что задаром, иной раз за суп. Разобьется у них окно, они его заткнут тряпьем и скажут молитву. Он предлагал окно заделать, а плата – сколько дадите, и когда он кончал работу, он получал благодарность, благословение и тарелку лапши. Жил он скудно в низкой каморке в квартире у Аарона Латке – тот был подносчик печатника, – спал на скамье, подложив под себя рядно, из которого шьют дешевые мешки; в квартире продыха не было от детишек и вонючих перин, и мастер, туго расставаясь с каждой копейкой и не зарабатывая ни одной, все больше тревожился. Надо бы уходить, туда, где можно заработать, или профессию поменять, или то и другое. Глядишь, у гоев и больше повезет, хуже-то некуда. Да и какой выбор у человека, который сам не знает своих возможностей? То есть в мире. А потому он ушел из гетто, когда никто не смотрел. Шел снег, и ему казалось, что он никому неведом, в каком-то смысле невидим в своем русском тулупе – так, рабочий без места. Русские проходили мимо не глядя, и он мимо них проходил. Говорили ему, что он не похож на еврея, вот он и сам убедился. Яков под снегом поднялся до Крещатика, широкой главной улицы, разведал по киоскам, по лавкам, по деловым заведениям, но работы нигде не было, так, кой-какие поделки, и оплата в позеленелых медяках. Ночью в своей каморке, согревая красные руки стаканом чая, он думал вернуться в штетл, и он тогда думал о смерти.
Латке, когда мастер ему такое сказал, в ужасе вытаращил глаза. У него были артритные руки и восемь голодных детишек. Боль мешала дневным трудам, но не мешала ночным.
– Б-га ради, терпение, – сказал он. – У тебя есть мозги, и это уже начало счастья. В конце концов, как говорят, и бык отелится.
– Чтобы было счастье, нужно везение. Мне не сказать что очень везет.
– Ты только что приехал, не имеешь опыта, имей терпение, пока поймешь, на каком ты свете.
И мастер дошел искать счастья.
Однажды в сумерках, в ненастную погоду, когда зеленоватый отблеск бросали на снег фонари, Яков, бредя по Плосскому, наткнулся на человека, который лежал ничком на утоптанном снегу. Перед тем как его перевернуть, минуту он сомневался, боясь угодить в историю. Человек этот был толстый лысый русский, лет шестидесяти пяти, меховая шапка валялась в снегу, снег был в усах, лицо пошло сизыми пятнами. Он дышал, и от него воняло спиртным. Мастер сразу заметил черно-белую бляху, пришпиленную к пальто, с двуглавым орлом Черной Сотни. Пусть сам управляется, подумал Яков. В испуге он добежал до угла, потом побежал обратно. Схватил антисемита под мышки, поволок к двери дома, возле которого тот рухнул, и тут услышал крик. Девушка в зеленой шали поверх зеленого платья неловко бежала к ним. Сперва он подумал, что это хромая девочка, потом разглядел, что это молодая женщина с увечной ногой.
Она опустилась на колени, стряхнула с лица толстяка снег и, тормоша его, выговорила, задыхаясь:
– Папа, вставайте! Папа, нельзя так!
– Мне бы надо за ним присмотреть, – сказала она Якову, прижимая к груди кулачки, – он за этот месяц второй раз на улице падает. Когда напивается в кабаке, это просто невозможное дело. Будьте добры, сударь, помогите мне его отнести домой. Мы живем совсем близко отсюда.
– Ноги ему держите, – сказал Яков.
С ее помощью он не пронес, а скорей проволок толстого русского до трехэтажного желто-кирпичного дома с навесом из кованого железа над дверью. Девушка кликнула швейцара, и вместе с мастером – девушка ковыляла рядом – они понесли толстого вверх по лестнице в просторную, богато обставленную квартиру первого этажа. Его положили на кожаный диван возле кафельной печки в спальне. Стал лаять и зарычал на мастера пекинез. Девушка взяла собачку на руки, отнесла в другую комнату и тотчас вернулась. Пекинез пронзительно верещал из-за двери.
Когда швейцар снимал с господина мокрые сапоги, тот шелохнулся и застонал.
– С Божьей помощью, – пробормотал он.
– Папа, – сказала дочь, – мы должны поблагодарить этого доброго человека, который помог вам в несчастье. Он вас нашел ничком в снегу. Если бы не он, вас бы занесло.
Отец приоткрыл слезящийся глаз.
– Благодарение Господу. – Он перекрестился и тихо заплакал. Она тоже перекрестилась и промокнула глаза платком.
Она расстегивала на отце пальто, а Яков, вдохнув про запас теплого воздуха, вышел из квартиры и пошел вниз по ступеням, радуясь, что унес ноги.
Девушка окликнула его сверху резким, тонким голосом и быстро заковыляла следом, держась за перила. Лицо у нее было жесткое, и жадные, ищущие были зеленые глаза. На вид лет двадцати пяти, худая, с длинной талией, густые русые волосы распущены по плечам. Не то чтобы хорошенькая, но и не сказать, что дурнушка. Но хотя пожалел бедную хромоножку, он вдруг испытал к ней странное отвращение.
Она его спросила, кто он, как-то не глядя, опустив веки, потом взглянула прямо ему в глаза. Посмотрела на мешок с инструментом у него за плечом.
Он мало что ей сказал: он нездешний, недавно из дальней губернии. Тут только он догадался снять шапку.
– Приходите завтра, прошу вас, – сказала она. – Папа говорит, что хотел бы вас отблагодарить, когда ему полегчает, а скажу вам откровенно, вы можете ждать не одних благодарных слов. Мой отец – Николай Максимович Лебедев, он почти отошел от дел… то есть он совсем было отошел, но ему пришлось принять на себя дело брата по его смерти… А я Зинаида Николаевна. Прошу вас, зайдите к нам завтра утром, когда папа придет в себя. Обычно он в это время особенно мил, хотя никогда уже он не бывает так мил, как до смерти бедной мамаши.
Яков, не назвавшись, сказал, что придет утром, и с ней простился.
В каморке в квартире Аарона Латке он раздумывал, что бы могло это значить – «вы можете ждать не одних благодарных слов». Явно она имела ввиду какое-то вознаграждение, рубль-другой, ну пять, если повезет. Должен ли он принимать вознаграждение из рук откровенного ненавистника евреев? Ни на единую минуту он не чувствовал себя спокойно ни в присутствии старика, ни с его дочерью. Значит, лучше вообще не ходить – или выложить, перед кем богатей в долгу, и уйти. Но разве этого ему хотелось? Яков весь истерзался от мыслей, и двуглавый орел с пуговицы смотрел ему в оба глаза. Спал он плохо и проснулся с новой мыслью. Чем плохи эти рубль-два, если они поддержат жизнь еврея? Можно ли дождаться большей пользы от антисемита? Он вспомнил русскую пословицу: «Не зная броду, не суйся в воду», но все же решил пойти, попытать удачу, не то – как же узнать, что творится на этом свете?
И он вернулся в тот дом, без мешка с инструментом, хотя приодеться не мог, да и не хотелось ему. Зинаида Николаевна, в вышитой крестьянской рубахе и юбке, с двумя зелеными лентами в волосах и снизкой желтых стекляшек на шее, провела его к отцу в спальню. Николай Максимович в просторном ватном шлафроке с меховым воротником сидел за столом подле занавешенного окна перед большой распахнутой книгой. На стене у него за спиной висела большая таблица в форме дерева, большими белыми значками на самых толстых черных ветвях доказывавшая происхождение Николая Второго от Адама. Портрет царя, сидящего с царевичем на коленях, висел над таблицей. Было чересчур жарко натоплено. Собачонка ворчала на мастера и была выдворена с помощью кухарки в соседнюю комнату.
Николай Максимович тяжело поднялся – старик в морщинах, с красными печальными глазами – и непринужденно приветствовал Якова. Мастер, помня про его черносотенного орла, испытывал презрение к нему – и в какой-то мере к себе. Ему стиснуло горло. Он не дрожал, но чувствовал, что вот-вот задрожит.
– Николай Максимович Лебедев, – сказал толстый русский, протягивая пухлую руку. На животе у него висела тяжелая золотая цепочка от часов, халат был обсыпан перхотью.
Яков, после легкой запинки, пожал протянутую руку, отвечая, как и задумал:
– Яков Иванович Дологушев.
Назови он свое настоящее имя, о вознаграждении бы не могло быть и речи. И все-таки ему стало стыдно, он даже вспотел.
Зинаида Николаевна хлопотала возле самовара.
Отец ее указал мастеру на стул.
– Я весьма вам обязан, Яков Иванович, – сказал он, снова садясь. – Я поскользнулся – не иначе под снегом был лед. Вы были очень любезны, что пришли мне на помощь, – не каждый бы стал утруждаться. Некогда, при совсем иных обстоятельствах… я стал пить после смерти ненаглядной супруги моей, женщины редких достоинств… Зина может вам подтвердить истинность моих слов… я упал без памяти в результате болезни на Фундуклеевской, прямо против кофейни, и пролежал на тротуаре с окровавленной головой невесть сколько времени, покуда кто-то – в данном случае это была женщина, потерявшая сына при Порт-Артуре, – благоволил оказать мне помощь. Люди нынче куда меньше озабочены делами ближних, чем в былые времена. Угасло религиозное чувство, и доброта стала редкостью в мире. Истиной редкостью, могу вас уверить.
Яков, в ожидании, когда же он перейдет к вознаграждению, вытянулся на стуле.
Николай Максимович оглядел потертый тулуп Якова. Вынул табакерку, зарядил обе ноздри, смачно высморкался в белый большой платок, дважды чихнул, потом, после двух тщетных попыток сумел-таки сунуть табакерку обратно в карман шлафрока.
– Дочь мне сказала, вчера при вас был мешок с инструментами. Каково ваше ремесло, позвольте спросить?
– Починки и прочее-разное, – сказал Яков. – Крашу, плотничаю, крыши стелю.
– Вот как? И сейчас вы при деле?
Мастер, не подумав, сказал, что нет.
– Откуда вы, простите мне нескромный вопрос? – сказал Николай Максимович. – Я потому спрашиваю, что я человек любопытный.
– Из провинции, – ответил Яков после легкой запинки.
– Ах, в самом деле? Селянин? И отлично, смею вам доложить. Кто станет отрицать сельские добродетели? Я сам из-под Курска. В свое время сено вилами ворошил. К нам в Киев на богомолье?
– Нет, я здесь работы ищу. – Он помолчал. – И слегка образование хочу пополнить, если удастся.
– Превосходно. Говорите вы хорошо, хоть и с провинциальным выговором. Но грамотно. Немного учились?
Будь прокляты эти его вопросы, думал мастер.
– Так, читал немного, сам по себе.
Девушка смотрела на него сквозь опущенные ресницы.
– И в Священном писании начитаны? – все спрашивал Николай Максимович. – Да, я полагаю?
– Я знаю псалмы.
– Дивно. Ты слышишь, Зина? Псалмы, это дивно. Ветхий Завет прекрасен, истинное пророчество о пришествии Христа, который нас искупил своей смертью. Но разве сравнится оно с притчами и проповедями самого Господа нашего, в Новом Завете? Я вот как раз перечитываю. – Николай Максимович глянул в открытую книгу и вслух прочитал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Яков побледнел и кивнул.
У Николая Максимовича глаза увлажнились. Снова ему пришлось высморкаться.
– Он всегда плачет, когда читает Нагорную проповедь, – сказала Зина.
– Я всегда плачу. – И, откашлявшись, Николай Максимович продолжал:
– «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
Милостивые, подумал мастер, вот он отчего плачет.
– «Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное».
Переходи уже к вознаграждению, переходи, думал Яков.
– Ах, это особенно трогает, – сказал Николай Максимович, опять утирая глаза. – Знаете, Яков Иванович, я несчастный человек, в сущности, меланхолик, пью горькую, но ведь есть и другое кое-что за душой, хотя недавно я чуть не спалил на себе костюм – уронил горячий пепел с папиросы на брюки, и не сообрази моя Зина окатить меня водой из кувшина, был бы из меня теперь обгорелый труп. А пью я, батенька, потому, что угораздило меня родиться с такой чувствительной душой – я куда острее других чувствую скорби жизни. Дочь вам подтвердит.
– Да, правда, – сказала она. – Он на редкость чувствительный. Когда прежний наш щеночек, Паша, умер от чумки, папа неделями куска не мог проглотить.
– Когда Зина, маленькая, тяжело переболела, я каждую ночь плакал над ее увечной ножкой.
– Да, правда, – сказала она, и глаза у нее заблестели.
– Я все это вам рассказываю, чтоб вы знали, какой я человек, – объяснил Николаи Максимович Якову. – Зина, угости-ка нас чаем, пожалуй.
Она внесла на серебряном тяжелом подносе и выставила на мраморную столешницу два фаянсовых горшочка с вареньем из персиков и цельных ягод малины и венские булочки, масло.
Это безумие, я знаю, думал Яков, – распивать чаи с богатыми гоями. Но он с жадностью набросился на угощение.
Николай Максимович подлил молока в свой стакан и намазал булочку маслом. Ел он прихлюпывая, будто пил свою еду. Потом еще глотнул чая, поставил стакан и обтер пухлые губы льняной салфеткой.
– Я хотел бы предложить вам скромное вознаграждение за вашу своевременную помощь.
Яков поспешно поставил стакан и встал.
– Мне ничего не надо. За чай спасибо, а я лучше пойду.
– Сказано по-христиански, но сядьте-ка и послушайте, что я скажу. Зина, налей Якову Ивановичу еще чаю, да потолще намажь ему булочку вареньем и маслом. Яков Иванович, вот что я хочу вам сказать. У меня на следующем этаже пустая квартира, недавно освободилась – совершенно неподходящие оказались жильцы, – четыре прекрасные комнаты, нуждающиеся в ремонте. Если вы благоволите принять на себя этот труд, я предлагаю вам сорок рублей – больше, чем я обыкновенно плачу, но ведь и случай особый. Разумеется, тут вопрос благодарности, но разве не приятней вам будет поработать, чем преспокойно принять от меня несколько серебряных монет? Какая ценность в деньгах, полученных без труда? Предложение работы есть признание заслуг. Хотя я вам несказанно обязан – я мог бы задохнуться в снегу, Зина говорит, – разве предложение работы не более почтительное вознаграждение, чем простая оплата деньгами? – Он пристально вглядывался в Якова. – Вы, стало быть, согласитесь?
– Так, как вы это объясняете, то соглашусь, – сказал Яков. Он поскорей встал и, сперва впопыхах наткнувшись на дверь кладовой, выбрался из квартиры.
Он беспокоился, как бы не вляпаться в неприятность, каждые полчаса менял решение, ворочался на своей скамейке, и все-таки наутро он вернулся. Из-за того же он вернулся, ради чего пошел в первый раз – ради вознаграждения. То, что он получит за работу, в данном случае – вознаграждение. И кто же может себе позволить отказаться от сорока рублей – от таких колоссальных денег? И в чем дело? Пойти, быстро кончить работу, получить свои деньги и, когда уже они будут в кармане, уйти из этого дома и забыть о нем навсегда. В конце концов, работа есть работа, я же не продаю свою душу. Кончу, отмоюсь и уйду. И они неплохие люди. Девушка, в общем, прямая и честная, хотя мне с нею неловко, ну а старик – так может быть, я несправедливо о нем сужу? Много ли гоев я видел в своей жизни? Может быть, кто-то пришпилил эту черносотенную бляху ему к пальто, когда он сидел в кабаке пьяный. Да, но если все-таки она его собственная, хорошо бы прямо спросить: «Николай Максимович, пожалуйста, растолкуйте мне – вот вы плачете над дохлой собачкой, а сами входите в общество фанатиков, которые требуют смерти для людей, которые всего лишь родились евреями. Растолкуйте мне, какая тут логика?»? И пусть он ответит.