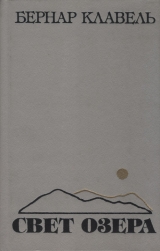
Текст книги "Свет озера"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
57
Мужчины торопились поскорее настелить крышу соседней фермы, поспеть до дождей, а женщины собирали на обработанных возле дома участках все, что дала им за их долгий труд здешняя земля: тыкву, горошек, морковь, репу. Уже пахло осенью, ее нес с собой неуемный западный ветер, предвестник затяжных дождей. Целых четыре дня неповоротливые тучи перекатывались через Савойские Альпы и горы Юры, цепляясь за их вершины, раздиравшие их в клочья. Озеро еще не затянуло туманом, но порой среди этой тягостной серости прорывался словно бы осколок металла, и от блеска его резало глаза. Ветер срывал с деревьев целые охапки рыжей листвы и уносил ее в гневе куда-то ввысь, чтобы бросить затем на землю и на воду.
– Да поторопитесь вы, – то и дело покрикивал Бизонтен, – не желаю я, чтобы весь этот дом промок к чертовой матери!
Каменщик и кузнец помогали ему, они подавали черепицу прижимаясь спиной к ступенькам приставной лестницы, напрягая мускулы живота и предплечий, изнуренные этими равномерными движениями.
– Давай в ритме! Держите ритм! – кричал им Бизонтен.
– Ты так нас совсем уморишь, – задышливо ворчал кузнец.
Целых три дня работа шла споро и быстро от первых проблесков зари до полной темноты, и последняя черепица была уложена на место ровно за час до того, как хлынул дождь Утро выдалось мрачное, в такие утра кажется, что никогда уже дневной свет не сумеет прорвать громаду туч. А тучи нависали еще ниже, чем обычно, и волочили свои траурные лохмотья даже по воде, и озеро минутами злобно ощетинивалось им навстречу. И вдруг сразу наступил мрак, словно бы уже пришла ночь. Льющаяся с небес вода с шумом без разбора молотила по дорогам, по земле, шуршала в колючих изгородях. И Бизонтен радовался, что и на сей раз он оказался быстрее и проворнее ветра.
– Видишь, – крикнул он Жану, – вот что оно значит – плотничать. Плотничать – значит тучу опережать. Всегда и повсюду обгонять ветер.
Они так и не вышли из амбара, куда снесли свой инструмент. Стояли и смотрели на сплошную серую завесу, а она наподобие настоящей ткани хлопала, морщилась, закручивалась, всегда готовая уступить шквалу. До дома им было всего шагов с сотню, дома их ждала горячая похлебка, да они никак не решались выйти под такой ливень.
– Послушай-ка, – обратился Бизонтен к Жану, – сходи-ка и принеси нам похлебки, ты ведь у нас самый маленький, между каплями легко сухой проскочишь.
– Ни за что не пойду, – отозвался Жан, – а то ты наверняка скажешь, что я в похлебку воды подлил, с тебя станется.
Все четверо расхохотались. Бизонтен, который всю свою жизнь сожалел, что люди такие грустные, был рад, что этот мальчуган скор на острое словцо.
На радостях, что стройка была закончена, за еду они принялись с отменным аппетитом. После обеда Пьер запряг Бовара и, захватив с собой Жана и Леонтину, отправился в Бюсси к виноградарю, посулившему им бочонок вина. Кузнец зашагал в свою кузню, пригнувшись под льющимися с неба потоками дождя, гонимыми ветром. Бизонтен с порога смотрел, как постепенно исчезает фигура старика в этой серой пелене, потом решил заглянуть в конюшню, где надо было отгородить угол для коз. Но не успел он сделать и пяти шагов, как Шакал с лаем бросился к дверям. Бизонтен оглянулся, кликнул пса, но тот, хромая, уже запрыгал на трех своих лапах по лужам, однако лаять перестал. И завилял хвостом, как бы давая знать – друг пришел.
Барбера, с непокрытой головой, в широко распахнутом на груди кожаном полукафтане, вел под уздцы своего мула, нагруженного, видимо, сверх меры. Похоже было, что оба только что вылезли из озера, до того они вымокли. Бизонтен бросился открывать двери сарая и крикнул:
– Ортанс, Мари, идите скорее! Барбера здесь!
Едва он ввел в дом контрабандиста и поставил в конюшню его мула, как во дворе послышался топот башмаков, шлепанье по лужам. Прибежали на его зов обе женщины. Бизонтен понял, каким огромным усилием воли Ортанс сдержала рвущийся с губ крик: «А Блондель?» Однако первым заговорил Барбера:
– Чувствовал я, что дождь собирается. Я надеялся до вас раньше добраться. Всю ночь в темноте шагал. Краюхи хлеба и той не было.
– Сейчас поешь, – сказал Бизонтен.
– Это потом, надо сначала детишек выгрузить. Их у меня нынче пяток. И, черт побери, не слишком-то жирненькие.
На мула были навьючены две огромные корзины, и их откидные крышки были обиты изнутри парусиной. Но и это не слишком помогало, дождь проник внутрь, и ребятишки насквозь промокли в своих лохмотьях. Как только их взяли на руки, все разом захныкали, а одного младенца Ортанс поднесла к дверям, поближе к дневному, хотя и серенькому свету.
– Скончался, – проговорила она.
Барбера подошел к ней.
– Это девочка, – пояснил он. – Кашляла – видно, все нутро себе надорвала.
Ортанс положила маленькое тельце на соломенный тюфяк, и все осенили себя крестным знамением.
Контрабандисту, казалось, не по себе. По его мясистому лицу струилась вода. Пряди волос прилипли ко лбу и щекам, густо заросшим бородой. Он качнул головой и, печально оглянувшись, проговорил:
– Это уже третий. Двоих я похоронил по пути. Сколько раз я к вам сюда ни езжу, обязательно приходится могилки копать.
Женщины ввели контрабандиста в большую комнату, а Бизонтен тем временем распряг мула, обтер его пучком соломы, поставил в стойло и кинул ему две охапки сена. Мул Барберы, обычно чересчур резвый и упрямый, так что Бизонтен даже чуточку побаивался его, от усталости не сразу принялся за еду.
Вернувшись в дом, Бизонтен подошел к столу, где женщины перепеленывали младенцев.
– Эти хоть и худенькие, – заметила Мари, – но ничего, довольно крепкие.
Она успела повесить на треногу котелок, и вода для похлебки уже закипала. Бизонтен подкинул в огонь дров. Усевшись на чурбак, Барбера протянул к огню босые ноги, кожа на них была фиолетового оттенка и неестественно блестела.
– Я-то привык к холодам, – проворчал он, – да обувка моя совсем расползлась, чуть что не босиком шел по этакой слякоти.
Бизонтен искоса поглядывал на Ортанс. Казалось, она делает все, что положено ей делать, и движения ее точные и одновременно ласковые, как и обычно, но каждую минуту она обращала взгляд на затылок сидящего к ней спиной контрабандиста. Когда ребятишек обтерли, обсушили, они умолкли. Правда, один из младенцев все еще пищал, но Мари взяла его на руки и, прохаживаясь по комнате взад и вперед, убаюкивала, что-то тихонько ему напевая. Наконец Ортанс подошла к очагу и спросила:
– А Блондель? Где же он?
Контрабандист хотел было ответить, но из спальни вышла Клодия, она, очевидно, только что проснулась. Свой округлившийся живот она поддерживала обеими руками, как бы опасаясь за его целость.
– А когда сроки? – спросил Барбера.
– Скоро, – ответил Бизонтен, – в конце нынешнего месяца.
Контрабандист покачал головой, но Бизонтену почудилось, будто он даже и не дослушал ответа. И в столь явном отсутствии внимания со стороны этого человека, живущего лишь настоящей минутой, было что-то тревожное.
Клодия присела у очага на табурет, здесь она просиживала почти целые дни с тех пор, как Мари посоветовала ей поменьше ходить.
Снова воцарилось молчание, потом Ортанс, не сдержав волнения, повторила свой вопрос:
– Где же Блондель?
Широкие плечи контрабандиста поднялись, словно бы он желал сбросить наземь непомерную тяжесть. Огромными ладонями он начал растирать свои волосатые ноги, чтобы разогнать кровь. Тянулось молчание, бесконечно долгое молчание, видно было, что Барбера ищет и не находит нужных слов. Потом, сплюнув в огонь, он выпалил одним духом:
– Около Муарана это было. Дела шли не очень хорошо… Попросту говоря, совсем даже плохо. Снова пошла зараза, никто не знал, чума это или нет, но на всякий случай заболевших отправляли в пещеру Жаржиляр… В окрестных селениях прятались люди из Лакюзона и Лаплака, которые бежали из родных мест в долины. Война – она над всем верх берет. Так вот, надо было ребятишек спасать. И Блондель часто туда к ним отправлялся… Младенцев-то в Муаране оставляли. Всегда он находил людей, чтобы те за малышами присматривали.
Он замолк, взгляд его, напоминавший взгляд затравленного зверя, обежал всех присутствующих, и он снова опустил глаза вниз, на иззябшие свои ноги, которые по-прежнему мял и тер ладонями. Потом мрачно и так, словно он желал бы, чтобы никто не понял его слов, слитых в одну неясную фразу, он буркнул:
– Так вот, Блондель и пошел в низину детей искать… Он туда не пойдет больше… Он свои счеты кончил.
Снова наступила тишина. Никто не посмел шевельнуться. Даже Мари, чтобы снять уже закипевший котелок с огня. От лица Ортанс разом отхлынула вся кровь, однако ресницы ее не дрогнули. Она сидела выпрямившись, застыв, как застывал в такие минуты Блондель.
Только одна Клодия казалась безучастной, она словно бы не поняла, о чем идет речь.
После долгой паузы Бизонтен вполголоса произнес:
– Вот тебе и на, да разве такое возможно!
– Да, – ответил Барбера, – он кончил свои счеты.
Потом, медленно поднявшись с места, горец присел к столу и обратился к Мари:
– Если похлебка согрелась, можешь мне налить.
58
Пока женщины кормили младенцев и укладывали их спать рядом с Жюли, Бизонтен налил похлебки Барбере, который сидел, опершись на стол, устремив взор в такие дали, что доступны были лишь только ему одному. Когда Бизонтен поставил перед ним полную миску, Барбера принялся за еду, он фыркал, громко втягивал в себя жидкость, долго и упорно жевал кусочки репы и капусту, их он вытаскивал из похлебки прямо руками. Когда миска опустела, он пробурчал:
– Еще.
Из спальни вернулись женщины. Мари налила гостю новую порцию похлебки, и он начал хлебать ее все так же истово и все так же устремив в даль, доступную только ему одному, невидящий взор. Тишину, уже слившуюся с непрекращающимся шумом дождевых струй, нарушало лишь чавканье и причмокивание Барберы. Бизонтену даже почудилось, будто сюда к ним забрело какое-то огромное животное, у которого только взгляд и был человеческим. Быть может, сейчас этот его отсутствующий взгляд был человечнее, чем когда-либо прежде.
Расправившись с едой, Барбера посмотрел на Ортанс, и Бизонтен уловил в глазах его какой-то горестный и в то же время боязливо-тревожный блеск.
Мари подала ему сыру и хлеба. Он все так же молча съел и это, вытер ладонью лезвие своего ножа и сунул его за пояс. Потом выпил залпом подряд две чарки вина и, ворча себе что-то под нос, поднялся с места. Затем молча подошел к низенькой дверце, ведущей в конюшню: появляясь здесь, в Ревероле, он обычно там и заваливался спать.
Тишина. Медленно угасает огонь. Тусклый дневной свет, пробивавшийся в окошко, и тот стал теперь каким-то более живым, чем притихающее пламя очага. Казалось, тишина гонит перед собой влажную холодную сырость дождя и заполняет ею весь дом. И не было в доме ничего, кроме этого вялого шума, наталкивающегося на тяжкую, пока еще не дающую о себе знать боль, порожденную скупыми словами Барберы. Бизонтен ощущал это особенно ясно. Боль эта была сродни хищнику, ждущему своего часа в засаде, и хищник этот может затаиться там на долгие часы, не показывая своих страшных когтей. Бизонтен знал, что горе сразило Ортанс, но она вся словно окаменела. Чувствовалось, что она и слезинки не уронит, что с губ ее не сорвется жалобный стон.
Наконец Бизонтен поднялся с места. Стараясь не шуметь, он подложил в очаг два полена. Отсыревшая, позеленевшая от мха кора не желала разгораться и медленно тлела в клубах серого дыма, так что пришлось подсунуть под дрова прямо на уголья пучок лучинок, и сразу три языка яркого пламени пробились между поленьями, прогнали дым и принесли в комнату жизнь. Бизонтен посмотрел на Клодию, о которой, откровенно говоря, совсем и забыл. На лице ее не отражалось ничего. Обхватив обеими руками свой округлившийся живот, вдвое согнувшись, скорчившись, словно бы охраняя своего будущего младенца, она, казалось, наглухо отрезана от того, что происходит вокруг.
Бизонтен встал и, стараясь двигаться бесшумно, направился к дверям. Тут только он заметил на пороге два пустых ведра. Решив, что Мари собралась выстирать мокрые пеленки, он взял ведра и вышел прямо под ливень. Холодные капли дождя, ожегшие ему лицо и руки, усилие, с каким он крутил ворот колодца, звяканье цепи, даже эта всесветная серятина словно бы расшевелили его. И было приятно ощущать, что хоть так удалось вырваться из мертвящей тишины дома. Он принес ведра и пошел на конюшню докончить начатую работу. Из кучи соломы, наваленной в углу, около перегородки амбара, доносился храп Барберы. Здесь, в конюшне, от тепла животных, от их запаха стало как-то чуть легче на сердце. Бизонтен осмотрел доски, он их заранее принес сюда, чтобы починить стойло. Но решил, что первым делом следовало бы укрепить деревянную перегородку со стороны амбара. И, подумав об амбаре, он вдруг вспомнил о мертвой девочке и сказал себе, что нужно поскорее сколотить ей гробик.
Он вошел в амбар. Там в углу под маленьким круглым оконцем стоял верстак. Чуть подальше лежала куча планок и досочек. Он взглядом измерил маленькое тельце, прикрытое простынкой, и сразу же принялся за дело. И вот именно здесь, только тогда, он воочию увидел Блонделя. Увидел его у пристани в Морже в ту самую минуту, когда он говорил с толпой.
Внезапно это видение стало более реальным, чем все, что его сейчас окружало: молчание толпы, молчание ветра, белая рука лекаря, вскинутая вверх. И тот свет, что излучал он.
А правда ли, что от него исходило сияние? Правда ли, что он сумел отвести от города северный ветер? Хоть сейчас найдешь в Морже сотню людей, которые готовы в том поклясться… Сотню людей, которые думают также, что он не просто человек, а нечто большее.
Бизонтен пожал плечами и горько усмехнулся. Поклонение, которое у многих вызывал Блондель, всегда его немножко раздражало, и однако сейчас он чувствовал какое-то душевное смятение. Смятение это, на минуту овладевшее им вопреки его воле, было ему неприятно, и, встряхнувшись, чтобы прогнать ненужные мысли, он принялся строгать доски с такой злобной яростью, какая редко нападала на него в часы работы.
Он сколотил гробик, вырезал маленький деревянный крест и уже совсем собрался положить трупик в этот ящик, от которого так хорошо пахло свежим деревом, как вдруг спохватился и пошел в дом. Клодия, которая в его отсутствие так и не переменила обычной своей позы, сказала ему, что женщины возятся с детьми. Он тихонько вошел в спальню. Мари стояла, наклонившись над новопривезенными младенцами, которых они рядком положили на один большой лежак. Чуть подальше стояла Ортанс, по-прежнему напряженная, застывшая, и не спускала глаз с улыбающейся во сне малютки Жюли. Обернувшись к Бизонтену, Ортанс прошептала:
– Счастье может быть и в том, что видишь хоть одного счастливого ребенка… Спасенного ребенка.
Все они перешли в большую комнату, и Бизонтен спросил:
– Вы на погребение малютки придете?
Обе женщины отправились за ним, и Ортанс своими руками положила крошечное тельце в гробик. Потом они все вместе прочитали молитву в этом амбаре, на который с размаху обрушивались холодные удары ветра. И Бизонтену так и не удалось по-настоящему разобраться в том, молился ли он и впрямь за усопшую. Он забил крышку гроба, и ему почему-то показалось, будто он закрыл крышкой коробку, где лежит кукла.
– Придется подождать до утра, сегодня зарыть не удастся, – проговорил он. – Если только, конечно, дождь немного не угомонится.
Когда они вернулись домой, Мари взялась за стирку пеленок, а Ортанс с Бизонтеном занялись стряпней. Низко нависало небо, и уже темнело, уже сгущался вечерний сумрак, когда послышался лошадиный топот и ребячьи возгласы. Бизонтен вышел во двор. Первым делом он ввел в комнату Леонтину и Жана, потом помог Пьеру распрячь лошадь. Пьер сразу заговорил о виноградаре, который дал ему не только вина, но и две корзины чудесных яблок. Бизонтену захотелось тут же рассказать ему о том, что приехал Барбера, а Блонделя уже нет в живых. Но он никак не мог решиться. В конюшне было темно, и Пьер не заметил контрабандиста, благо тот перестал храпеть. Когда мужчины вошли наконец на кухню, Клодия, которая до сих пор сидела неподвижно, ни на что не обращая внимания, при виде Пьера вдруг бросилась в его объятия и закричала истошным, каким-то не своим голосом, больно резавшим слух:
– Он умер… Умер… Они его тоже убили… Убили его…
И разразилась рыданиями.
Пьер испуганно прижал ее к своей груди.
– Что случилось? О ком это она? – растерянно спрашивал он.
Подойдя к нему, Бизонтен мягко проговорил:
– Французы убили Блонделя.
– Блонделя? Черт побери!
– Да, убили, нам Барбера рассказал.
– Барбера? А где же он сам?
Бизонтен молча показал в сторону конюшни.
Пьер отвел Клодию к скамейке, сел сам и посадил ее к себе на колени. Потом он потихонечку начал укачивать ее, как укачивают больного ребенка, и вполголоса утешал ее. Откуда вдруг нашел он голос и те интонации, которые появлялись у Блонделя, лекаря из Франш-Конте, когда тот баюкал младенца! Клодия перестала плакать. Лишь время от времени все тело ее еще сотрясали рыдания, но наконец, уткнувшись личиком в плечо Пьера, она постепенно утихла, только изредка всхлипывала.
Стараясь не шуметь, Мари осторожно поставила на стол мисочки, пламя очага теперь уже пересилило дневной свет. Леонтину и Жана, очевидно, испугали рыдания Клодии. Жан подошел к Бизонтену, и тот положил руку на голову мальчика, а Леонтина хоть и не цеплялась каждую минуту за юбку матери, однако неотступно следовала за ней по комнате. Когда похлебка была подана, Мари вопросительно посмотрела на Бизонтена и Ортанс, а потом перевела взгляд на конюшню. Бизонтен неопределенно махнул рукой:
– Чего уж тут, пускай себе выспится всласть. Потом его накормишь, когда он проснется. А мы сядем за стол, когда кузнец вернется.
Клодия по-прежнему сидела, уткнувшись лицом в плечо Пьера. Вдруг она выпрямилась и крикнула:
– Мари, ты знаешь, в какой именно день он умер?
– Откуда же мне знать? Ты сама слышала, что рассказал нам Барбера.
Глаза Клодии стали такие же, как прежде, совсем как у испуганной птички. Пьер ласково обратился к ней:
– Ну что это с тобой? Успокойся.
Прерывающимся от волнения голосом Клодия проговорила:
– А я знаю. В тот день, когда Ортанс ездила в Морж с мужчинами. Вспомни-ка, Мари. Шакал начал выть, как раз в полдень. Ты даже сама сказала: «К покойнику воет. Не нравится мне это!» Сама же ты сказала. И пошла его утихомирить.
Все вопросительно поглядели на Мари, и та, подумав немного, ответила:
– Это верно, в тот день он выл к покойнику, долго выл. Никогда такого с ним раньше не бывало.
59
В полном молчании они уже кончали еду, когда в дверях возник Барбера, он громко икнул, потянулся, потом подошел к желобу, схватил деревянное ведро и поставил его на скамейку. Затем сунул в воду голову, запыхтел, забулькал так странно, что дети расхохотались. С волос и с лица его обильно стекала струйками вода, он выпрямился, отряхнулся, как отряхиваются собаки, подошел к очагу и сказал:
– Если осталось чего-нибудь тепленького, я бы не отказался.
– Сейчас я вам бобы разогрею, – ответила Мари.
Барбера почесал себе живот, скинул коричневую рубаху и заявил:
– Надо бы подходящим случаем воспользоваться, чтобы как следует помыться.
Спина и грудь его сплошь заросли черными густыми волосами, а под этим жестким даже на вид руном перекатывались бугры мощных мускулов.
Он захватил горстку золы и заодно щетку, какой Мари мыла каменные плитки на кухне, и стал энергично растирать себе грудь и спину. При этом он ворчал, как медведь, то и дело сплевывая, и беспрерывно повторяя:
– У, черт, до чего же хорошо!
Он вымыл также ноги, Бизонтен спросил его, как он себя теперь чувствует.
– То ли я еще в жизни терпел.
– А когда ты уходишь?
– Нынче ночью. Мне тут кое-какие вещицы нужно кое-куда доставить, а такие дела лучше в темноте делать. Не говоря уже о том, что и ливень мне на руку.
– Послушай, брось ты глупостями заниматься!
Контрабандист разразился громовым хохотом, отчего ходуном заходили мускулы на его груди и спине.
– Не глупости вовсе это, – ответил он, – а ремесло у меня такое. Я им столько лет занимаюсь и знаю его так же хорошо, как ты свое плотничье дело знаешь, парень. – Он замялся. – А глупости – это совсем другое, глупостями меня этот проклятый Блондель научил заниматься.
Бизонтен не спускал глаз с Ортанс, но лицо ее было бесстрастным. Он тоже не сразу нашел нужные слова и наконец задал тот самый вопрос, который мучил его с первой минуты появления Барберы.
– Ты нам до сих пор не сказал, как его убили?
Пьер и Мари одновременно подошли к Клодии, намереваясь отвести ее в спальню, но она отказалась.
– Нет, – отрезала она, – я хочу знать!
– Меня-то там не было, – начал Барбера. – С ним был один молодой корзинщик из Фушерана, звали его Тетю, он еще с тридцать пятого года скрывался. Парень неплохой, только малость хлипкий. Этот проклятый Блондель совсем ему голову заморочил: помогай, мол, мне да помогай… Тетю мне сам это рассказал.
С этими словами Барбера уселся за стол. Он поглядел на Мари и проговорил:
– Тащи свои бобы, они небось уже теплые.
Мари наложила ему полную миску, и гость снова начал свой рассказ, не переставая жевать бобы, говорил он по обыкновению своему отрывисто и невнятно.
– При своем-то нюхе он, Блондель, значит, с ним пошел в одно селенье в низине, вот корзинщик-то названье мне не сказал, запамятовал, значит, потому что от страха совсем обомлел. Ну да ладно, неважно. Там французы были. И все начисто сожгли. Людей в церковь загнали, и они в крик кричали. Всех жителей, как мне тот рассказывал… Ну так вот, ушли французы и все награбленное с собой унесли… Тут мой Блондель оставил парня из Фушерана в лесу с тележкой, а сам в селенье пошел, думал, может, кого удастся спасти. Да только поторопился, рано вышел. А солдаты, что последними шли, его заметили. Всадники повернули обратно и закололи его спокойненько. Пригвоздили к дереву копьем… Похоже, что рукоятка копья сломалась, и они так его и оставили. Парень до того перепугался, что до самой темноты в лесу просидел… Когда он наконец решился из леса выйти, говорит, будто Блондель еще живой был.
Он замолчал, исподлобья оглядел всех, потом добавил, и на сей раз голос его звучал не так спокойно, как обычно:
– Парень говорит, что он сказал: Воскрешение… И все… Воскрешение – вот что он сказал. И больше ничего. Помер.
Барбера покачал своей тяжелой башкой. Еще несколько раз повторил он это слово, как бы для себя самого, потом пожал плечами и принялся за еду.
После минутного молчания Клодия вдруг разразилась неудержимыми рыданиями, сотрясавшими все ее тело, с гримаской боли она поддерживала живот обеими руками.
– Нужно ее уложить, – посоветовала Мари Пьеру.
Но Клодия заупрямилась. Она отрицательно покачала головой. Не спуская глаз с Барберы, она как будто ждала от него еще новых слов.
– А вы твердо уверены, что он умер? – спросила Ортанс.
Видно, контрабандисту такая мысль и в голову не приходила, казалось, он был удивлен. По лицу его пробежала судорога, и он сказал только:
– Меня же, ей-ей, там не было. Но копье прямо в дерево вонзилось!..
Ортанс поднялась, шагнула по направлению к спальне, потом, видно, передумала, остановилась и, повернувшись к сидевшим за столом, произнесла:
– В царстве отца небесного он наконец-то встретится со своим Давидом. Со своим маленьким королем Давидом. С дитятей – сердцем вселенной.
Лицо ее, до той минуты хмурое и замкнутое, внезапно озарилось, как будто ей принесли какую-то новую чудесную весть. С минуту она глядела на них, вернее, сквозь них и видела некую далекую вселенную, всю усыпанную радужными созвездиями. Она и впрямь была уже не с ними, и Бизонтен понял, что, даже сама того не заметив, Ортанс покинула их.
Молчание, казалось вытеснившее из комнаты весь воздух, длилось до тех пор, пока Барбера не разделался с миской бобов. Ливень по-прежнему схватывался врукопашную с ветром, но шум их не мешал той жизни, что дышала здесь, где все застыло в ожидании иной драмы, готовой вот-вот разразиться. Капли дождя с шипением падали на тлеющие поленья. Время от времени под напором ветра глухо хлопала дверь.
Барбера поднялся, подошел к очагу, возле которого поставил сушить свои сапоги. Бизонтен тоже подошел.
– Если они у тебя дырявые, мажь их салом, не мажь – все равно промокнут.
Контрабандист просунул указательный палец в середину подошвы, прямо в дырку. Бизонтен заглянул под лестницу, притащил пару башмаков и протянул их гостю со словами:
– Примерь-ка эти.
Барбера надел хозяйские башмаки, поднялся и принялся вышагивать от печи до двери и обратно, после чего объявил во всеуслышание:
– Будто по мне сшиты, проклятые!
– Оставь-ка свои сапоги здесь, я подметки подобью Придешь к нам в следующий раз, мои башмаки вернешь.
И пока Бизонтен вслух вел беседу о сапогах с Барберой, его внутренний голос сердито вмешивался в их разговор: «Да никогда он сюда больше не приедет». И в то же самое время перед ним вставало лицо Блонделя, жестом останавливавшего порывы злого шквала, приказывая уняться небесному гневу, который помешал бы ему обратиться к жителям Моржа. «Вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающей». Бизонтен сам на себя сердился, что позволяет себе думать о подобных вещах. Он твердил: «Бизонтен, ты ведешь себя как малый ребенок. Никогда Блондель не останавливал шквала, и один только ты видел на нем светозарное одеяние». Он изо всех сил старался избегать этих слов, и однако лекарь из Франш-Конте был по-прежнему здесь, и, возможно, еще более светозарный, чем когда бы то ни было. Ушел в вечность еще один, и немалый, пласт насквозь промокшей мглы, и тут дрожащим голоском Мари спросила Барберу, где же похоронили Блонделя.
– Корзинщик, тот совсем перепугался, – ответил Барбера. – Как только увидел, что остался один, так и удрал, бежал сломя голову. Бросился в лес и понесся прочь, лошадей гнал как полоумный. Ну а Блондель…
Он махнул рукой и этим красноречивым жестом как бы хотел показать, что в подобные времена не так уж важно, где покоятся останки несчастного Блонделя.
– А когда это было? – снова спросила Мари.
Барбера почесал в затылке, задумался, посчитал что-то на своих толстых пальцах и назвал число. И в свою очередь Мари тоже что-то подсчитала и потом проговорила, бросив взгляд на Клодию:
– Как раз в тот день, когда собака к покойнику выла.
Барбера шагал взад и вперед по комнате, с довольной улыбкой разглядывая свои новые башмаки. Только он один, казалось, жил подлинной жизнью в этой комнате, где все другие словно застыли. После долгого молчания кузнец, до сих пор не произнесший ни одного слова, вдруг спросил:
– А что там Ортанс делает?
– Не надо ее трогать, – посоветовала Мари. – Вы же сами знаете, что она не желает показывать на людях свое горе.
– Возможно, что и так, – заметил Пьер, – но тут что-то другое. Хотелось бы мне знать, что это она задумала.
– Мне тоже это неведомо, – проворчал кузнец, – однако ничего доброго я не жду. Сколько уже лет знаю ее, еще малышкой знал, и, понятно, тревожусь. Этот Блондель ей совсем голову заморочил.
– Само собой, она вбила себе в голову, что будет продолжать дело Блонделя, – заметил Бизонтен. – Тут любой человек, а не ведун какой-нибудь и тот догадается.
– Продолжать его дело? Но кто же отправится на поиски детей? Не она же, в конце концов? – воскликнула Мари.
Все опустили глаза. Всех охватило на минуту смущение, и тут снова заговорил кузнец:
– Я ее так хорошо знаю, что ничуть этому не удивлюсь. Если никто другой этого не сделает, она наверняка задумала идти одна…
Старик устремил сначала на Пьера, а потом на Бизонтена настойчиво-вопросительный взгляд, и Бизонтен понял, что дядюшка Роша не решается довести свою мысль до конца. Так как все молчали, кузнец продолжал:
– С нее станется пойти одной… вместе с Барберой. А ведь она же барышня! Такой девушке устроили бы чисто королевскую свадьбу, так что пришлось бы каретнику заново все экипажи в городе покрасить.
Он оттолкнул от себя миску, хотя похлебку не доел, и обхватил голову руками. Опустив глаза, он пристально разглядывал начищенную до блеска столешницу.
– Господи, боже ты мой, – буркнул он, – теперь я уж совсем один останусь из нашего городка. Старый, всеми забытый пес…
Грудь его тяжко ходила, выдавая всю боль его души. После мгновенного колебания он, не глядя на собеседников, произнес:
– Будь я хоть лет на пятнадцать моложе, не пустил бы я ни за что ее одну… Сделал бы все, уговорил бы ее, чтобы здесь удержать. А если бы и это не удалось, пошел бы с ней вместе.
Снова нависло молчание, потом кузнец крикнул, в голосе его, так не похожем на обычный его голос, прозвучал гнев, а возможно, и с трудом сдерживаемые рыдания:
– Но тот-то, тот, он же вам всем сумел голову заморочить!.. У него они убили сынка, это понятно, ну а Ортанс здесь при чем! Да к тому же она женщина!.. Откуда он взялся и кто он такой, этот Блондель. Может, его нам сам дьявол послал!
Бизонтена так и подмывало крикнуть: «Вы же не видели его преображенным, останавливающим бурю, со светозарным, как солнце, ликом!» Но слова эти не шли с языка. Он смотрел на опустевшее за столом место Ортанс. Ему слышалось, как Блондель говорил об их Конте, как добавлял он, что предпочитает смерть разлуке с родимым краем.
А старик все твердил свое:
– Будь я на пятнадцать лет помоложе!
Бизонтен почувствовал на себе взгляд Мари, но невидимое присутствие Блонделя и та картина, что рисовал он себе – Ортанс одна уходит вместе с Барберой, – должно быть, пересилили этот взгляд, потому что против воли он проговорил:
– Конечно, надо сделать все, чтобы ее удержать, но, если уж она решит уйти, нельзя пускать ее одну.
– Ты прав, – подхватил Пьер. – Надо пойти вместе с ней.
Крик Клодии был сродни крику раненого зверя.
– Нет! Нет! – завопила она и, вскочив, как безумная бросилась к Пьеру, он едва успел повернуться на табуретке и подхватить ее, прежде чем она упала на колени.
– Нет, не хочу, чтобы ты уезжал… Не хочу, не хочу.
Она снова прижала обе руки к животу, и лицо ее исказила судорога боли.
Когда поднялся Бизонтен, Мари тоже поднялась и подошла к нему. Вытянув обе руки, она удержала его на расстоянии, чтобы он не смог прижать ее к себе, она хотела заглянуть в самую глубину его души, проникнуть в нее взглядом. Она сурово бросила ему в лицо:
– Если ты уйдешь, то, вернувшись сюда, уже не найдешь здесь никого! Ни меня, ни детей.
– Замолчи, – сказал Бизонтен. – Не пугайся зря…
Мари обернулась к кузнецу, упершемуся локтями в край стола и робко поднявшему на нее свои глаза в красных прожилках.








