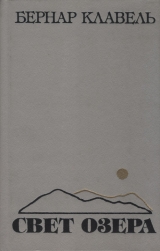
Текст книги "Свет озера"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
47
Едва только занялась заря, Ортанс, Блондель и Бизонтен тронулись в путь на легкой повозке лекаря. Вожжи-то держал сам хозяин, но вряд ли можно было утверждать, что именно он правит лошадью. Должно быть, его кобылка уже привыкла к такому обхождению и шла обычно ровным шагом, сама брала рысью на легких участках дороги, сама переходила на шаг на подъемах и даже на спусках, если они казались ей опасными. Добравшись до перекрестка, добрая животина поворачивала к седокам свою умную башку, как бы спрашивая: «Ну а теперь направо или налево?»
Как раз у перекрестка Блондель, что называется, спустился с облаков на землю. Прервал свой бесконечный монолог, и тут Бизонтену удалось наконец вставить слово:
– Вон сюда поворачивайте.
Лекарь снова завел речь, то переходя от отчаяния к радости, то вдруг от леденящих кровь картин, свидетелем которых был он в Франш-Конте, к подробному описанию того, что они здесь сотворят. Бизонтен слушал, но не вслушивался в его слова. Сейчас он уже достаточно хорошо изучил этого чудака и заранее знал, о чем тот начнет говорить. То и дело он поглядывал на Ортанс и всякий раз удивлялся в душе, до чего же она покорилась этому человеку. И когда лекарь бросал какую-нибудь, наверно, только что пришедшую ему в голову мысль, очень часто несуразную, Бизонтен твердил про себя: «Кто спорит, что-то от святого, в нем, конечно, есть, но вот о чем я думаю: ох, кончит он свои дни не в одеянии святого мученика, а в смирительной рубашке, как и положено сумасшедшему. И тем не менее, бедняга ты Бизонтен, ты тоже, как и все прочие, идешь за ним. И этот негодник Барбера тоже вроде тебя, да и наш славный Жоттеран от нас не отстает. И Пьер, и цирюльник, и кузнец – словом, все подряд, что уж тут говорить!»
На спуске к Буньону Ортанс показала на крыши Ревероля и на колокольню, четко вырисовывавшуюся на фоне безупречной небесной лазури.
– Вон там, – сказала она.
Блондель поднял глаза и прошептал:
– Да это же чистый рай. Один лишь Всевышний мог сделать нам подобный дар. Я хочу, чтобы это селенье стало центром Вселенной. Приютом доброты. Хочу, чтобы в один прекрасный день люди могли сказать: «Значит, господь бог коснулся перстом нашей земли!»
И Блондель погнал рысью свою лошадь на последнем подъеме.
Увидев Бизонтена и Ортанс, Ипполит Фонтолье прямо обомлел от радости. Но им не удалось перекинуться между собой даже тремя фразами. Обернувшись на юго-восток, лекарь с восторгом крикнул:
– Господи, какое же это чудо!
Прямо перед ним щедро дарило свой свет озеро, затмевая блеском снежные вершины Савойских Альп.
И Бизонтена тронуло, что Блондель в такой же степени, как и он сам, восхитился этой величавой красой.
– Подобная красота создана для глаза тех, кто чист душой. Подобное очарование притягивает к себе взгляды невинных. А этому величественному небосводу я хочу и впредь отдавать еще ничем не запятнанные души. Здесь те, что так настрадались от людской ненависти, те, что натерпелись обид, чья память носит в себе следы жестокости этих чудовищ, здесь они омоются и очистятся. Свет, что струится с этих гор и играет на этих водах, – он не потерпит грязи! И он будет их воскрешением.
Повернувшись к своим спутникам, он произнес:
– Спасибо вам, друзья мои, за ваш прекрасный и столь неожиданный для меня дар.
Потом обратился к Фонтолье:
– Дедушка, вы живете как раз на том самом месте, которого коснулся перст божий, вы будете отцом тысячи невинных младенцев. Вы будете здесь хранителем жизни. Вашим ремеслом станет любовь, как у тех, что живут по ту сторону гор Юры, ремеслом стала ненависть.
Старика Фонтолье совсем скрючила болезнь, даже голову он не мог держать прямо; напрасно старался он разгадать по лицу Блонделя, что означают эти загадочные речи. Ему ужасно хотелось расспросить об этом самого лекаря, но тот не дал ему времени и слова вымолвить. Для начала он сообщил старику, что селенье это отныне будет носить новое название – Воскрешение – и что народы всей земли будут еще века и века вспоминать о нем, после чего он увел всех к одному из заброшенных, но уцелевшему лучше, чем все остальные, дому. Здесь он вдруг превратился в зодчего и произнес на эту тему целую речь, так что несчастный старик совсем уже ничего не понял.
Перед самым отъездом, когда лекарь вместе с Ортанс в последний раз осматривал облюбованный ими дом, Бизонтен очутился наедине со стариком, которого, видимо, совсем истомила эта беседа, и он просто сказал ему:
– Вы только не тревожьтесь, все будет хорошо.
– А вы-то хоть сюда вернетесь?
– Конечно же, вернемся. Ну, теперь в этом можете не сомневаться.
У старика даже взгляд просветлел, и, когда он заговорил, голос его дрогнул:
– Ну это самое главное. А я-то думал, что до конца своих дней так и не увижу в этом селенье ни одной живой души.
Наконец они тронулись в обратный путь, и Блондель то и дело поминал старика Фонтолье, которого уже успел окрестить архангелом-хранителем их Воскрешения.
Когда повозка выехала из Ревероля, после полудня вдруг налетел ветер. С каждой минутой он крепчал, и вой его становился все злобнее и яростнее. С наступлением темноты озеро покрылось пеной и погнало волны к противоположному берегу. Порывы ветра рвали крышу и ревели, как хищные звери. Печная труба визжала по-кошачьему, словно дьявол обрушивался на пламя очага, то и дело приходилось подкидывать дрова. Бизонтен вытащил из очага два дубовых узловатых полена и поставил их стоймя прямо на уголья:
– Вот пускай они с нами и посумерничают. Пока они дотла сгорят, еще сколько времени пройдет.
И все устроились кружком перед горящей печью. Мари уложила детишек и сейчас укачивала на руках малютку Жюли, чьи ожоги постепенно заживали. Вообще-то это было на редкость тихое дитя, и, несмотря на свои раны, она плакала очень редко.
Они сидели и ждали, не обмениваясь ни словом, и ловили все звуки разбушевавшейся ночи. Правда, при таком ветре вряд ли можно было расслышать шум шагов, но тяжелую дверь чуть ли не срывал с петель очередной порыв ветра, и они то и дело оборачивались в сторону порога. Видя, что Ортанс сгорает от нетерпения, Бизонтен обратился к ней:
– Да успокойтесь вы. Сейчас еще они не кончили. Вы и представить себе не можете, что такое ихнее заседание. Молитвы читают, потом выговаривают тому, кто опоздал к назначенному часу, потом всяческими любезностями обмениваются и все такое прочее. Я-то знаю. Мастер Жоттеран мне рассказывал. Даже то, что мы обязаны величать его «Высокочтимый член магистрата». Только он предпочитает, чтобы его звали запросто – мастер Жоттеран, потому что ему приятно, когда напоминают о его ремесле.
И все-таки Ортанс то и дело подымалась с места, а остальные следили за ней взглядом. Она подходила к двери, под нижнюю створку которой был подсунут свернутый валиком пустой мешок – хоть какая-то защита от ветра. Внимательно вслушивалась. И не будь такого бешеного ветра, который сразу выхолодил бы всю комнату, она открывала бы дверь каждые пять минут.
Потом Ортанс возвращалась к очагу, садилась на лавку у стола рядом с Мари, а та всякий раз брала ее руки в свои. Обе улыбались, обе глубоко вздыхали, и ожидание продолжалось.
Бизонтен поглядывал то на одну, то на другую и вспоминал их сегодняшнюю поездку в Ревероль. Когда они вернулись домой, Блондель заявил:
– Если только наш план осуществится, я уеду один потому что Ортанс непременно должна остаться в Ревероле и участвовать в создании Воскрешения.
Ортанс промолчала, но лицо ее омрачилось, и Бизонтен подумал про себя – уж не молит ли она бога в глубине души, чтобы магистрат им отказал. Ведь так или иначе все равно всех детей усыновят, и видно было, что Ортанс сжигает желание отправиться в путь с Блонделем. Наконец, когда уже миновало девять, как показывали часы Бизонтена, дверь потрясли, на сей раз потрясли сильно. Бизонтен быстро убрал мешок, и мастер Жоттеран вошел в комнату; на нем был широкий черный кафтан, весь расшитый серебром, – такова была официально принятая форма членов Совета. Лицо его разрумянило ветром, в маленьких глазках, ослепленных пламенем очага, сверкала радость. Блондель, тоже весь сияя, бросился навстречу:
– Входите, входите быстрее. Согрейтесь-ка у очага, – заметил Бизонтен.
Оба подошли к печке, и мастер Жоттеран заявил:
– Погреться никогда не мешает, особенно после тамошней залы, где мы заседаем, она такая огромная, что, если даже спиной к огню сесть, все равно не поможет. Но мы, разумеется, сидим спиной к двери.
Он расхохотался и сел между кузнецом и Бизонтеном. Блондель устроился напротив него между Клодией и Ортанс. Сидел он в своей обычной позе, весь напряженный и как бы отсутствующий. Глаза его, словно бы затянутые прозрачной дымкой, блуждали где-то далеко над уходившим вверх пламенем. Старик Жоттеран отдышался и заговорил, стукнув ладонью по колену Бизонтена.
– Так вот, парень, работы у тебя будет по горло. А ты первый у нас умелец из старья делать новенькое, так что, уж поверь на слово, будет и на твоей улице праздник.
Тут он заставил своих слушателей подождать продолжения и только после короткого молчания проговорил:
– Принято… И я могу прямо сказать, что такие минуты в жизни только один раз бывают. Кому бы еще удалось увидеть, как все члены магистрата да и сам старейшина прослезились. Черт побери, до самой смерти такого не забуду.
Блондель по-прежнему смотрел куда-то вдаль, словно видел иные миры. Крупные слезы катились по его как бы высеченному из камня лицу. Его била легкая дрожь, и даже волосы его как будто зашевелились, и стало заметно, сколько в них уже вплелось седых прядей.
– Магистрат не только дал свое согласье, – продолжал старик Жоттеран, – кстати, единодушное согласье: видно, не устояли против порыва великодушия. Каждый из членов Совета обязался принять личное участье в этой стройке. И кроме того, Совет обратится ко всем жителям города с просьбой о содействии. Вот оно как. А лекарю Блонделю поручили перед отъездом поговорить с людьми, завтра перед полуднем. Совет решил, что никто, кроме Блонделя, не сможет так зажечь человеческие сердца.
Старик замолчал, и ветер вновь завладел ночной мглой.
48
В это утро Пьер с кузнецом выбрались из дому чуть свет на повозке Блонделя. А вернулись, успев заново подковать лошадку лекаря. Шерсть ее так и лоснилась. Сбруя щедро смазана жиром, а все медяшки блестели, как чистое золото.
Блондель сиял.
– Как жаль, что вы уезжаете при таком ветре, – заметила Ортанс, и глаза ее затуманила глубокая печаль.
– Жаль? – переспросил Блондель. – Вы, очевидно, хотите сказать, что это просто удача. Небеса с нами, пусть даже они сердито хмурятся.
За одну ночь ветер разошелся вовсю. Хотя он уже не с такой яростью обрушивался на город и озеро, но по небу ползли огромные, темные, как сажа, тучи. Блондель глядел на них так пристально, будто хотел притянуть их к себе, и добавил:
– Тучи эти – проявление всемогущего. Эти взбаламученные шквалом небеса – именно они то, что требуется для больших начинаний. А то, на которое мы пускаемся сейчас, самое благородное из всех предприятий. Оно начинается в этой взбесившейся серятине, и в нашей воле сделать так, чтобы небо вскоре очистилось и открыло безбрежные горизонты света и мира.
Бизонтен взглянул на Ортанс и увидел, какого огромного усилия стоит ей подавить свое волнение. «Ты, – подумалось ему, – ты из тех, кто глотает слезы, дабы вскормить ими свою любовь».
Маленький Жан, которого Блондель через час отрядил на Гран-Рю, вернулся и крикнул:
– Там столько народу, ну прямо ярмарка.
– Городской глашатай, видать, потрудился на славу, – заметил Бизонтен.
Портовые грузчики, моряки, возчики и рыбаки сразу же признали Блонделя и подошли поближе. Но, не дойдя нескольких шагов до его повозки, остановились, смущенные и молчаливые. Наконец появилась вооруженная стража, прислать которую обещался старейшина и чьей обязанностью было прокладывать путь Блонделю через толпу. Их было два десятка и все в парадной форме, в голубых мундирах с желтыми отворотами, в шляпах с перьями и с позолоченными портупеями. Блондель повернулся к своим друзьям из Франш-Конте и сказал:
– Дорогие мои, давайте сейчас попрощаемся здесь, а то нас того гляди разлучит толпа.
Он расцеловал их всех по очереди. Мари плакала. Ортанс с суровым лицом и застывшим взглядом не проронила ни слезинки. Клодия была еще бледнее, чем обычно, но тоже не плакала, и трудно было угадать, что творится в ее душе. Верный Шакал вертелся вокруг повозки, и пришлось Пьеру его увести и запереть в конюшню. Цирюльник попросил Блонделя:
– Поклонитесь от всех нас нашему несчастному Конте.
Лекарь сердечно поблагодарил остающихся и уселся в повозку. Стражники окружили его, и повозка тронулась. Через пристань они проследовали на улицу Пюблик. Когда стража вступила на Гран-Рю, толпа, сплошь забившая всю улицу, расступилась. Гул голосов пробежал из конца в конец, потом раздались возгласы, их не мог заглушить ни бой барабанов, ни пронзительный свист дудок. Сто двадцать человек, составлявшие почетный эскорт, стояли в ожидании под развевавшимися знаменами посреди улицы.
Бизонтен посадил себе на плечи Леонтину, а Пьер маленького Жана. Женщины цеплялись за полы их плащей, а оба старика замыкали шествие, стараясь не отстать от стражников, идущих в последнем ряду, и таким образом держаться за ними, в кильватере. Люди размахивали из окон флажками. Кое-кто для такого случая вытащил длинные красно-белые, бело-зеленые, желто-красные флаги, и они то вздувались от ветра, то опадали. За музыкантами шагал какой-то человек, он высоко вздымал знамя на коротком древке, и оно взлетало наподобие цветной стрелы, нерешительно колеблясь, разворачивалось во всю ширь, потом, плывя по воздуху, опускалось вниз.
Кортеж наконец достиг Башенных ворот, где была сооружена трибуна. Под широким синим балдахином, украшенным серебряной бахромой, стоял старейшина и все члены Совета двенадцати в парадной форме. Когда кортеж остановился у трибуны, когда музыка стихла, толпа на миг примолкла было в нерешительности, но тут же из всех глоток вырвался один оглушительный крик. И от этого крика сжималось сердце. Гул голосов все нарастал, как морской прибой, он бился о фасады домов и о каменную кладку укреплений, и на мгновение даже показалось, будто под его напором ветер робко прильнул к тучам и будто он унесет с собой их всех из этого края и домчит по озеру до самых Савойских Альп. Тут старейшина, долговязый человек, пожалуй, еще похудее Бизонтена, выступил на шаг вперед и поднял обе свои огромные ручищи. Воцарилась тишина.
– Добрые жители нашего града, – начал он замогильным голосом, разнесшимся, однако, до самых дальних углов, – лекарь Блондель сейчас будет говорить с вами. Вы слушайте его и не галдите зря. И если шум помешает тем, кто стоит сзади, услышать его слова, все равно молчите и ждите, пока он кончит. Те, что стоят в первых рядах, потом перескажут слова нашего друга… Я не собираюсь обращаться к вам с речью, скажу только одно: я горд, весьма горд тем, что я глава этого города, населенного из конца в конец только добрыми людьми.
Снова послышался рокот голосов, но тут же все стихло, когда Блондель показался на трибуне. Старейшина дружески хлопнул лекаря по плечу, и лекарь ответил тем же. Теперь гул голосов превратился в шепот, потом, по мере того как взгляд Блонделя обегал все эти сотни и сотни лиц, всю эту толпу, над которой высились флаги и виднелись мордашки детей, сидевших на плечах родителей, наконец воцарилось полное молчание. Блондель все пристальнее вглядывался в лица собравшихся на площади, медленно поворачивая голову, словно хотел вперить свой взгляд в каждую пару глаз. А потом возвел свой взор к небу. Рука его, очень белая и на вид почти невесомая, взлетела вверх, отчетливо видная в этом хмуром утреннем свете. И даже ворчание ветра, казалось, и то вроде бы утихло. Тогда он заговорил, но голоса не усилил, и однако его было слышно даже в самом дальнем конце площади.
– Друзья мои. Эти небеса, темные, будто затянутые пеплом, грозно нахмурились. Но только потому, дабы напомнить нам, что по ту сторону гор Юра разражается еще более страшная гроза, которую вызвали люди, охваченные безумьем, уже годы и годы творящие зло…
Не торопясь он опустил вскинутую руку и снова обвел взглядом слушателей, потом продолжал:
– Вы сами видели, добрые люди страны Во, что сталось с детьми, которые чудом уцелели после ужасной резни. Ваши сердца дрогнули от жалости, вы лили слезы, и вы решили их всех спасти. Ваше великодушное деяние удивит и будет удивлять весь мир еще века и века. Восхищенные народы будут повторять из поколения в поколение, что именно здесь, в этом мирном городе, на берегу прозрачных вод вашего озера, родилась самая великая песнь любви, и песнь эту никогда еще не подхватывали такие толпы людей с тех пор, как Иисус воцарился во владениях отца своего.
Теперь он заговорил быстрее и громче. Потом остановился. Толпа по-прежнему безмолвствовала, онемевшая, скованная, плененная его взглядом. И еще много минут он держал ее в тенетах своих слов, описывая разоренный Франш-Конте, говорил о Ревероле, который станет градом жизни после того, как был он градом смерти. Упомянул, что сам он скоро перевалит через Юрский горный массив и отправится на поиски брошенных на произвол судьбы детей, упомянул также, что его друзья вскоре направятся в Ревероль, чтобы начать там работу, кому какая по силам, помогут деньгами или натурой, внесут свою лепту. И так как в ответ слушатели кто размахивал принесенной с собой одеждой, кто подымал кулек с провизией, он сказал, что все это нужно снести пока в Ратушу и сложить там, дабы уберечь от крыс, пока Ревероль не будет в состоянии принять первых спасенных от гибели детей.
Упомянул он также о мастере Жоттеране, который безвозмездно отпустил им нужный для работы материал, не забыл сказать о членах Совета, которые обязались способствовать этому начинанию.
В первые минуты, когда Блондель начал вглядываться в лица толпившихся вокруг людей, Бизонтен подумал: «Что ни говори, а он у нас великий актер, ну чисто театр здесь развел». Но сейчас, как и сотни собравшихся здесь, он видел Блонделя сквозь застилавшую глаза пелену слез.
Наконец лекарь внезапно замолк, голос его упал, и, явно лишившись последних сил, он сошел с трибуны, взгромоздился на свою повозку с помощью стражников, и тут крики, еще более мощные, чем небесный гнев, заполнили все пространство. Они все росли, пока повозка лекаря, подпрыгивая на булыжниках мостовой, въехала под городские ворота и застучала по деревянному мосту. И в кликах этих была радость, были слезы всего города, изнемогающего от любви.
Часть пятая
ДВЕ ОТЧИЗНЫ
49
После отъезда Блонделя словно бы образовалась какая-то пустота, но внутренняя лихорадка, сжигавшая их всех, подгоняла тоже, казалось, застывшее время. И быстро текли часы в домике на берегу озера, где два этих дня они держались все вместе. Да и город стал иным. Чудилось даже, что возросло вдруг количество соседей, потому что к ним то и дело заглядывали люди, предлагали свои услуги, осведомлялись о здоровье обожженной малютки. А девять новоприбывших ребятишек, коль скоро нельзя было пока что поместить их в Ревероле, внесли поправку к ранее принятому решению – местом их карантина стала больница Святого Роха, находившаяся за городскими стенами. Каждое утро Ортанс в сопровождении цирюльника, ухаживавшего за детьми, отправлялась вместе с ним в больницу. Но, в отличие от старика, Ортанс не удавалось проводить там целые дни. Ей приходилось встречаться с чиновниками, чтобы привести в порядок дела по усыновлению детей. Ибо перед отъездом Блондель долго втолковывал ей:
– Надо ставить перед будущими родителями непременное условие: они должны усвоить, что усыновляют младенцев ради их спасения, а не ради того, чтобы получать от этого радость для себя лично. – В его глазах самым идеальным решением было бы доверить младенцев матерям, потерявшим собственных детей. В душе каждой из них нерастраченный запас любви, и они жаждут применить его на деле. И наверняка тогда обе стороны будут равно счастливы.
Бизонтен, Пьер и маленький Жан еще целый день работали на прежней стройке, им помогал сам мастер Жоттеран и два других плотника, которым и было поручено закончить крышу. Бизонтен даже закручинился при мысли, что сам не успеет довершить начатое дело.
– Да не хмурься ты зря, – посоветовал ему Жоттеран, – подумай, за какое дело вы беретесь – строить земной рай, о котором нам Блондель говорил. Ну скажи сам, мог ли ты даже мечтать, что такая работа выпадет на твою долю?
Слова свои старик сопровождал хохотом. Десятки раз на дню он рассказывал о своем малютке Жозефе, твердил, что ребенок этот согреет его стариковские дни, что наконец-то жизнь приобрела для него подлинный смысл.
По городу поползли слухи, что кое-кто не слишком-то доволен тем, что произошло на площади после речи Блонделя. Некоторые жаловались, что город втянулся в скверную историю и обойдется им всем она ох как дорого. Этим людям уже чудилось, что непременно повысятся цены, возрастет мостовая пошлина, но так как чувствовали они себя явно в меньшинстве, то во всеуслышание об этом говорить не решались.
Как-то вечером дядюшка Роша, вернувшись домой, заявил:
– Теперь вот уж весь город меня знает. Если так и дальше пойдет, быть мне почетным гражданином города Моржа, и придется Мари сшить мне черный кафтан. А вы потрудитесь величать меня: Высокоуважаемый член магистрата.
Когда затих общий смех, вызванный этими словами, цирюльник сообщил, что большинство детей до сих пор находятся в плохом состоянии – до того они истощены.
В последний день работы на прежней стройке Бизонтен приготовил лес, который нужно было доставить в Ревероль, сложил инструмент и все, что положено было увезти отсюда. С ним пришел побеседовать какой-то незнакомый ему каменщик. Оказалось, зовут его Никола Доньи и работал он у мастера Женаза, а сам мастер Женаз тоже член Совета. Никола сказал, что был бы просто счастлив поработать вместе с Бизонтеном. Был он широкоплеч и грузноват, даже чуточку брюхо торчало, лицо у него было полное, а взгляд правдивых карих глаз излучал доброту. Бизонтен тоже обрадовался этой неожиданной встрече – ему почему-то казалось, что это хорошее предзнаменование и работа у них пойдет ладно.
Ночью Мари немножко поплакала, и при одной мысли об их разлуке Бизонтену стало так горько на душе и он почувствовал сильнее, чем когда-либо, что по-настоящему полюбил ее.
– Мне до того хочется, чтобы ты туда ко мне поскорее приехала, – сказал он, – что я за четверых буду работать, уж никак не меньше.
Мари прижалась к нему и шепнула:
– Каждый вечер на заходе солнца ты гляди на озеро, и я тоже на него буду глядеть.
Бизонтен пообещал исполнить ее просьбу, но она все так же печально продолжала:
– Но ведь в иные вечера туман бывает, как же ты озеро тогда увидишь?
– А я на туман глядеть буду и буду о тебе еще сильнее думать.
Случалось, и не раз, Бизонтену расставаться с женщинами, пускаясь в путь, и, бывало, на долгие сроки, куда более долгие, чем эта их разлука, но на сей раз что-то порвалось в его душе в минуту расставания, и было это совсем иное чувство, так что пришлось его, хочешь не хочешь, скрыть под взрывом смеха.
Он нашел в себе силы рассмеяться – разумеется, из-за детишек. Мари сумела сдержать слезы. Утро выдалось как раз такое, какие любил Бизонтен, – свет медленно струился у подножия еле видных отсюда гор, как будто светозарный поток сумел проложить себе путь в каменной груди утесов. На пристани уже толпился народ. Рыбаки, ставившие паруса, кричали ему вслед:
– Доброго пути! Если вам что понадобится, мы все тут!
Знакомые ему возчики подходили пожать руку и уверяли, что, когда попадут в те края, непременно проедут через Ревероль. Приветствовали их также стражники при караулке, а также городские мельники. И всякий раз наши путники в ответ махали им, а то и бросали по пути слова благодарности. На пригорке им пожелали доброго утра крестьяне – кто очищал от камней свое поле, кто орудовал киркой. Какой-то виноградарь из Монна узнал их, так как видел вместе с Блонделем, он бросил свой участок, кинулся в погреб и подбежал к ним с четырьмя бутылками старого вина и при этом сказал:
– Вот кончу с подрезкой, приеду вас проведать и еще винца привезу.
Первый день прошел незаметно – устраивали себе помещения, отвечали на множество вопросов старика Фонтелье, задававшего каждый вопрос по десять раз и от души радовавшегося их приезду, особенно потому, что появление Чудесного Безумца окончательно лишило его сна с первого же дня.
На следующий день поутру началась стройка. Уезжая, Блондель дал им точные указания. Он хотел, чтобы подготовили две большие комнаты. В первой разместится кухня и здесь же будут кормить детей, в другой устроят спальню. На втором этаже оборудуют комнату поменьше и предоставят ее для наиболее истощенных ребятишек. Блондель также выразил желание, чтобы пол был выложен плитками, а стены оштукатурены и побелены мелом; он добавил, что многие младенцы умирали потому, что их держали в грязных, неопрятных домах. По мнению старика Фонтелье, все это было излишней роскошью, и, покачивая головой, он твердил:
– Ну и чертушка этот Блондель! Скажи мне кто-нибудь, что я в нашем-то селенье увижу такой роскошный приют, я бы ему прямо в лицо рассмеялся!
Однако чувствовалось, что вся эта суетня и хлопоты наполняли его душу радостью. Раз двадцать на день являлся он на стройку, предлагал свои услуги мужчинам, да и Ортанс тоже, но та, желая избавиться от слишком разговорчивого старика, просила его что-нибудь поделать на кухне. Само собой разумеется, он делил с ними все трапезы и Бизонтен, смеясь, говорил:
– Ну и чертушка этот лекарь! Скажи мне кто, что первым, кого мы здесь приютим, будет восьмидесятилетний старик, я бы ему прямо в лицо рассмеялся!
Все как-то оборачивалось радостью, даже для Ортанс, которая, покончив со стряпней, влезала по лестнице помочь плотникам или орудовала лопатой вместе с каменщиком. Так как каменщик был человек спокойного нрава, в жестах нетороплив и двигался к тому же медленно и степенно, Бизонтен не раз слышал, как Ортанс ему выговаривала:
– Поторопитесь же, Никола, я вовсе не собираюсь оставаться здесь до конца своих дней. Едва мы все закончим, я тут же уеду с лекарем. Ну, давайте побыстрее!
А здоровенный малый только тихонько посмеивался про себя. Правда, после понуканий Ортанс он начинал торопиться – сделает три крупных шага, опрокинет ведро с водой, уронит мастерок, и тут же опять войдет в свой обычный неторопливый ритм. Бизонтен как-то шепнул Ортанс:
– Он хоть по виду великан, на самом деле скромный, как деревенская девица. Если вы будете его торопить, хорошего ничего не получится.
Ортанс молча пожала плечами и занялась своим делом.
Почти каждый день жители Моржа или соседних селений являлись в Ревероль, предлагая свои услуги. Их определяли на подсобные работы, но чаще всего это приводило к тому, что каменщику или Бизонтену приходилось терять с ними, необученными, слишком много дорогого времени. Тогда Пьера осенила светлая мысль. Вот уж воистину мысль возчика.
– Пускай-ка эти люди, – спокойно сказал он, – идут обрабатывать поля, очищать их от камней, а камнями мостить дорогу. Значит, им будет легче сеять, легче по дорогам ездить и спокойнее трудиться. Дела-то им хватит не на один месяц.
Нужно было также отвадить говорливого Ипполита Фонтелье от стройки, и по общему решению ему поручили управляться с прибывающими. Старик, считавший, что так и останется без дела, просто сиял от счастья, став таким большим начальником на нужном и тяжком участке. И он расплывался в радостной улыбке, когда Бизонтен при нем говорил приезжавшим:
– Вы направляетесь в распоряжение мастера Фонтелье.
Старик, пыжась от гордости, старался вскинуть вверх голову, все валившуюся набок. Вечерами, когда посторонние расходились кто в свое селение, кто в город на берегу озера, он задумчиво повторял:
– Они, видать, совсем позабыли, что это селенье было чумным. Похоже, что Блондель прошелся здесь – и чумы и след простыл. Раньше ни один храбрец не решался войти в здешний дом даже за целый воз сыра. Как все-таки свет изменился!
А главное, изменилось само селение. Оно ожило. Прилегающая к нему земля была обработана и тоже казалась обновленной. Лесорубы привезли для топки печей дрова и сложили их под навесом. Мало-помалу дороги стали проезжими, не было прежней грязи и колдобин, ограды уже не валялись на земле, а стояли, как им положено стоять, шире стали полосы колючего кустарника.
Когда опускались сумерки, Бизонтен, прежде, чем слезть с крыши, всякий раз обращал взор к озеру. В иные вечера туман, врезаясь в огни заката, превращал их в целый лес, выросший здесь лишь для того, чтобы поддерживать небесный свод. Бизонтен представлял себе, как Мари смотрит на этот закат из окошка той комнаты, где спали Леонтина, Клодия и малютка Жюли. Вспоминал их спутников из Франш-Конте, что свернули тогда на Савойю, вспоминал селения и города, где ему некогда приходилось бывать, и думал про себя: «Это черт-те что, Бизонтен. Что называется, всем попользовался. Не зря ты столько дорог исходил. И прямо говорю, больше по дорогам ты шагать не будешь, только по одной пойдешь, по той, что приведет тебя в наше Конте. И еще только при том условии, чтобы там кончилась эта сволочная мерзость, эта война!»
Но напряженные трудовые дни гнали прочь даже память об их общей беде, да и воспоминания о войне как-то бледнели по мере того, как селение возрождалось к жизни. Шла уже вторая неделя апреля, когда явился Барбера вместе с другим контрабандистом помоложе и привез с собой четырнадцать детей. Барбера прикатил на своем муле, а его дружок на повозке, запряженной лошадкой – тощей, невысокой, однако мускулистой, наподобие своего хозяина. Это появление стало одновременно и горем, и радостью. Детей привезли как раз тогда, когда дом уже приобрел жилой вид, но большинство из вновь прибывших ребятишек были в самом жалком состоянии. Иссохшие, в ожогах, калечные, растерянные. И на сей раз не младенцы. Самым старшим из нового выводка был семилетний мальчуган. Мальчик рассказал им первым делом о том, что Блондель вытащил его из-под развалин рухнувшего дома и отрезал ему ногу. Девчушка лет пяти потеряла глаз. Все ее, видимо, пугало. Говорила она заикаясь и каждую минуту подносила ладошку к лицу, как бы стараясь защититься от удара. Когда на нее накатывал острый приступ страха, нельзя было без дрожи видеть выражение ее единственного глаза.








