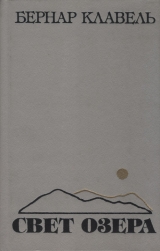
Текст книги "Свет озера"
Автор книги: Бернар Клавель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
52
У Блонделя не хватило духа разлучить этих людей с их приемышем, но все присутствующие и так поняли, что они укроют свое новоявленное счастье у себя в доме, подальше от ярмарочной толчеи, треска и пальбы. Когда они садились в свою тележку, мужчина гордо нес на руках девочку, чье лицо слизнуло пламя пожара. Ни он, ни жена его не улыбались, но их взгляд выражал ту глубокую, особую радость, от которой теплеет душа, где счастье свивает себе уютное гнездышко, разрушить которое способна одна только смерть. Те, что прогуливались по дороге, молча, с уважением, а кое-кто даже, возможно, и с завистью, поглядывали на них. Не в силах сдержать волнения, Бизонтен смотрел, как они уезжали в снопах солнечных лучей, и в глубине души чувствовал облегчение, которого и сам стыдился. Перед отъездом Одетта пошла поцеловать Блонделя, и он сказал ей:
– А Ортанс?
Девочка поцеловала Ортанс, и Блондель снова обратился к ней:
– А Бизонтена?
Бизонтен сделал над собой немалое усилие, чтобы улыбнуться девочке, взять ее на руки и поднести к своему лицу. Прикосновение этой кожи словно бы обдавало его жаром. Прижимая ее к груди, он приказал себе держать ее в своих объятиях еще дольше, чем все остальные провожающие. Он ощущал на себе взгляд Блонделя, словно укол стилета, и, казалось, взгляд его говорил: «Нелегко, верно ведь?» И когда Одетта вышла из дома, прежде чем ее новый отец подхватил ее на руки, Жан бросился к девочке и тоже поцеловал ее. И стыд глубоко прожег сердце Бизонтена.
Для всех прочих будущих родителей Блондель не сделал никакого исключения, и все они согласились прийти за детьми в воскресенье к вечеру или же в понедельник, большинство даже заявили, что плевать им на Праздник попугаев и что в воскресенье они целый день проведут здесь.
Казалось, что люди эти, эти новые родители годы и годы ждали ребенка, которого никогда и не видели. Прежде чем они успевали получше приглядеться к тому малышу, которого им здесь давали, они уже привязывались к нему всем своим существом.
И вот пришло воскресенье, выслав из-за цепи гор прозрачную дымку зари там, где далекая синева смешивалась с бледным золотом небес и вод. Пьер до блеска начистил Бовара скребницей, натер кирпичом сбрую и до того аккуратно прибрал повозку, что она выглядела как новенькая. Так как кое-кто из будущих родителей выразил желание прийти сюда, ребятишек оставили на попечение цирюльника. Один только Жан уже на правах взрослого мужчины занял место в повозке, с которой сняли парусину. Ликованием был наполнен звонкий утренний воздух, но никто не решался ни запеть, ни засмеяться, потому что Блондель сидел, сердито наморщив лоб, и выражение его нахмуренного лица омрачало общую радость.
Когда они выехали на широкий тракт, ведущий из Клармона, и взяли на Бюсси, их то и дело обгоняли повозки, торопившиеся на ярмарку, в которых ехали целые семьи крестьян, они обменивались веселыми шутками, размахивали флажками. А в седоках повозок, что катили им навстречу, они узнавали тех, кто направлялся в Ревероль провести воскресный денек с детьми, которых они заберут вечером, уже как собственное свое сокровище. Отвечая на их поклоны, Блондель перестал хмуриться и твердил:
– Возможно, на вашем дурацком празднике и будут три короля, но нынче вечером настоящими королями станут вот эти люди. Они и их дети.
Чем ближе они подъезжали к Моржу, тем больше на дороге становилось людей, спешащих на праздник, кто в тележке, кто пешком. Иной раз их обгонял всадник или группа всадников, и из-под копыт их коней, пущенных галопом, взлетали тучи пыли. Ветер на ходу развевал разноцветные флажки, солнце блестело на стали клинков и мечей. Порой, заслышав зов трубы, Бовар боязливо прядал ушами.
– Я же вам говорил, что все, кто носят оружие, просто-напросто полоумные, – ворчал Блондель. – Все эти люди готовы столкнуть вас в ров, и женщин и детей, лишь бы первыми добраться до того места, где будут совершать свои подвиги, увы, весьма печальные подвиги.
А Бизонтен, слушая его слова, без конца повторял про себя: «Дай-то бог, чтобы он хоть до вечера продержался и не поднял шума».
Уже почти перед самым городом, на последнем спуске, где дорога змеей бежит между рощами и виноградниками, их поджидало два десятка всадников в парадном одеянии, в касках и кирасах. Когда вооруженные всадники выстроились: половина перед их повозкой, другая – позади нее, – лицо Блонделя болезненно исказилось. Затрубили трубы, извещая о его прибытии, и все встречавшиеся им на пути срывали головные уборы, кланялись, били в ладоши, размахивали флагами. Там, дальше, за коричневыми и красными городскими крышами, сверкало водное зеркало. Паруса, надутые ласковым ветерком, тянулись к пристани. И так как со всех сторон стекались в Морж повозки, пешеходы, всадники, то казалось, нынче утром город похож на сердцевину прекрасного цветка, лепестки которого находятся в непрерывном движении.
Вместо того чтобы проследовать через городские ворота, эскорт свернул на тропинку, идущую по правому берегу реки. Потому что именно здесь, на берегу озера, на огромном лугу, и должны были начаться игры. И уже сейчас луг этот как бы превратился в зеленый пруд, берега расцвели всеми красками радуги. И если само озеро, казалось, вовсе и не замечает расшалившегося ветерка, берега его были словно охвачены радостным безумьем. Безумьем звуков и красок, еще набравшим силу при их появлении на празднике. Эскорт проводил их через луг к трибунам, где уже восседали советники, казавшиеся особенно строгими в своих длинных черных одеяниях.
Старейшина дружески хлопнул Блонделя по плечу и усадил его в первый ряд между собой и мастером Жоттераном. А для остальных реверольцев оставили места на этой же трибуне, только в самом ее конце. Пьер пошел поставить на место повозку, и Бизонтену было видно с его места, как он привязал Бовара к длинной коновязи, где уже были привязаны сотни лошадей. Минуты три старейшина беседовал с Блонделем, потом по его знаку внезапно раздался звук фанфар, так что от неожиданности все даже вздрогнули. И сразу по крытому мосту через реку двинулось шествие. Под бой барабанов и свист флейт шествие вступило на луг, где были установлены мачты, а на их верхушках прикрепили зеленых и красных попугаев. Каждая группа, прежде чем занять полагающееся ей место, проходила перед трибуной, четко отбивая шаг. Здесь были, кроме стрелков, пастухи с огромными деревянными трубами, знаменщики, виноградари с корзинами за спиной, моряки с веслами на плече, молоденькие девушки с охапками веток, перевязанными лентами, музыканты, играющие на всевозможных инструментах, всадники на пышно разубранных конях. Были здесь также и пушкари, здоровенные битюги тащили мощное орудие, ствол его, оправленный медью, нацелили на озеро. Один из ездовых размахивал факелом и по знаку старейшины поджег порох, орудие отскочило назад, бросив в сторону озера тучу черного дыма, но ветер прибил дым к берегу. Задрожала земля, и эхо, подхватив этот нечеловеческий грохот, пробежало по Савойским Альпам, которые отогнали его опять к озеру. Бизонтен приподнялся, желая посмотреть на лицо Блонделя. Ортанс тоже пыталась увидеть выражение его лица, но ей это не удалось, и она спросила:
– Ну что он?
– Даже не шелохнулся.
– По-моему, он ничего не видит и не слышит. Весь ушел в себя. Молю, только бы он продержался до конца, дорого бы я дала, чтобы быть сейчас рядом с ним.
Вскоре начались состязания; первыми выступили лучники, за ними стрелки из аркебузов. При каждом звуке выстрела лицо Блонделя передергивала гримаса боли, но он сидел неподвижно. Со своего места Бизонтен не мог хорошенько разглядеть лекаря из Франш-Конте, но ему почему-то казалось, что взор его блуждает где-то далеко в лазури озера, а быть может, еще дальше, в их несчастном Франш-Конте, где бьют из смертоносного оружия не по чучелам попугаев, а по живым детям. И в ушах Бизонтена прозвучали те самые слова, что бросил им Блондель:
– Какая жалость, что такой добрый и такой великодушный народ до сих пор тешится этими дурацкими игрищами. Для меня это вернейшее свидетельство того, что в каждом человеке живет и самое прекрасное, и самое дурное. Так постараемся же никогда не открывать пути дурному.
Наконец стрелки, получившие заслуженную ими корону, по-военному отдали честь сидящим на почетной трибуне. И потом каждый бросал свою лепту в большую корзину, которую держали две девицы, одетые во все белое. После них вновь продефилировали зрители, от каждой проходящей группы отделялся выборный и ссыпал содержимое шляпы в корзину с деньгами. Когда музыканты, обойдя весь луг, остановились перед трибуной, старейшина поднялся и предложил Блонделю последовать за ним. Они первыми спустились вниз, за ними шли все остальные члены Совета. Бизонтен и его друзья тоже влились в шествие. Так все они и вошли в город, где уже весело трезвонили колокола. Когда они вступили на деревянный мост, Бизонтен крепко сжал руку Мари. И, нагнувшись, шепнул ей на ухо:
– Помнишь тот первый вечер?
Мари подняла на него глаза, и тут же оба дружно повернулись в сторону реки, где на берегу они разбили лагерь, когда у них не было ни еды, ни сена, когда еще они даже не знали, примет ли их городская стража или отгонит к границе.
Остаток нынешнего дня был подобен потокам солнца, разливавшимся по разукрашенному флагами городу. Восточный ветерок, поднявшийся к полудню, играл полотнищами флагов и знамен, уносил на запад гул праздничной толпы. На открытом воздухе под разноцветными навесами было разложено угощение, стояли бутылки с местным вином, и музыка, казалось, сама чуточку захмелела. На пристани, где были расставлены столы со всякой снедью, уже начались танцы.
– Бог ты мой, – шептал своим друзьям Блондель всякий раз, когда их сталкивало течением толпы, – какое же это ненужное расточительство, а ведь совсем близко отсюда люди умирают с голоду! Счастлив тот народ, которого судьба уберегла от войны!
Но ведь он знал, что каждая проданная сосиска, каждый проданный ломоть хлеба, каждая лепешка, каждый стакан вина – все это идет на восстановление Ревероля, и эта мысль в конце концов заставила его все-таки улыбнуться. Жители Моржа изобретали сотни способов добыть для этого побольше денег, начиная с мостовой пошлины у городских ворот и у пристани с прибывавших в город. А поскольку люди сотнями хлынули из Лозанны и из многих других мест, поскольку их сотнями доставляли на лодках из всех городов Савойи, уже сейчас можно было не сомневаться, что выручка обещает быть богатой. Всадники платили за коня, на котором сюда прискакали, моряки приглашали желающих прокатиться по озеру, рыбаки жарили только что выловленную рыбу и продавали ее совсем еще горячей, крестьяне предлагали последние зимние яблоки и сахарный горошек. Чтобы иметь право потанцевать, приходилось покупать за два су особую кокарду, и те же два су брали с желающих поглазеть на жонглеров и ученую лисицу. Бурый медведь протягивал вам лапу за четыре су, а театр марионеток, возведенный на рынке, обошелся бы вам в полфлорина. Блондель растрогался до слез, когда они добрались до небольшого прилавка, за которым стоял старик кузнец Гийом Роша и продавал каминные подставки для дров и совки для углей, все это он мастерил вечерами и сработал с превеликим тщанием. Старик перецеловал всех своих друзей и наказал им:
– А вы быстрее орудуйте в Ревероле, я ведь собираюсь там кузню поставить.
Только сейчас они поняли, как, должно быть, одиноко ему без друзей в Морже.
– Мы о нем, пожалуй, забыли, у нас в Ревероле есть с кем делиться радостью, – заметила Ортанс, – поэтому-то мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы он как можно скорее снова был с нами.
Разумеется, праздник должен был продолжаться до глубокой ночи, но Блонделю не терпелось поскорее вырваться из шумней толпы гуляющих. В обратный путь они пустились, когда солнце уже садилось. С высоких холмов, окружавших Морж, было видно, как зажгло оно предвечерним пламенем все озеро и как обрушился на него предвечерний туман. Подножия гор уже заволокло дымкой, размывшей их очертания, зато вершины на фоне кроваво-красного заката стали еще суровее и, казалось, вспарывали небесный свод. На минуту Пьер остановил повозку, чтобы дать своим седокам возможность объять всю глубину тишины. После многочасового шума и лихорадочного веселья, после буйства ярких красок безмятежная чистая красота мгновения всецело захватила их. Город лежал внизу, в котловине. Городской гул еще доходил до них, и бесчисленные точечки огоньков, словно радугой, расцвечивали туман, смешанный с дымом, валившим из труб. Но не туда обращались их взоры, они обращались к озеру, принимавшему все оттенки предзакатного неба. Бизонтен почувствовал, как им овладевает странное ощущение какой-то непонятной силы при мысли, что тысячи людей любуются совсем иным зрелищем, нежели они здесь, и что только для них разыгрывается эта феерия света. Блондель прошептал про себя:
– Даруй, господи, всем этим людям возможность восторгаться. И даруй им также желание жить в мире.
Пьер тронул вожжи, и Бовар медленно пошел вперед, как бы не решаясь нарушить очарование.
53
Перед своим отъездом Блондель, снова отправлявшийся в Франш-Конте, собрал друзей и, пользуясь отсутствием Клодии, сказал им:
– Одно меня беспокоит. Кроме таких верных людей, как мастер Жоттеран с супругой, никто здесь ничего не знает о Клодии. А стан ее в последнее время заметно пополнел. Люди станут задавать разные вопросы и вам, и даже ей самой. Что же нам делать? Говорить правду? Нет. Я боюсь глупцов. Одно неосторожное слово может ранить это дитя.
И так как все промолчали, он глубоко вздохнул и просто добавил:
– Над этим следует хорошенько подумать. Прошу вас всех об этом.
И он уехал. Всякий раз после его отъезда все ходили растерянные. Однако Ортанс, казалось, оправилась первой. Уж на что она была ослеплена Блонделем, но сумела быстрее прочих взять себя в руки. Как будто то, что в вечер приезда Блонделя она обратилась к нему с суровой отповедью, ослабило ее путы. По-прежнему Ортанс говорила о лекаре с нескрываемым восхищением, но чувствовалось, что она готова стойко отстаивать свои решения. Она осудила даже его отказ присутствовать на Празднике трех попугаев и добавила:
– В его поведении слишком много покорности обстоятельствам. Спасать детей – это безусловно великое дело, но прогнать из Франш-Конте французов – деяние столь же великое. – И, указав на мальчугана с отрезанной ногой, ковылявшего на своих костыликах вслед за другими детьми, она добавила: – Конечно, прекрасно, что он его подобрал и вылечил, но, будь у мальчугана две ноги, было бы еще лучше.
Бизонтен с беспокойством прислушивался к ее словам. Он догадывался, что ее неустанно грызет желание действовать, и действовать смелее. Настойчивое ее стремление следовать за Блонделем, объясняется ли оно только желанием помогать лекарю из Франш-Конте в его благородной задаче спасения детей?
Бизонтен то и дело возвращался к этой мысли, но ни разу не спросил об этом саму Ортанс, не поделился своей тревогой с друзьями. Ведь здесь он был не только главой стройки, но и заводилой всеобщей радости. Когда он не крыл крышу соседнего дома, все свое свободное время он проводил в детьми. И смех его, подобный клекоту птиц, вызывал ответный хохот.
Прошла неделя, и казалось, Ортанс целиком отдалась работе: то возилась на кухне, то проверяла записи и счета, заботилась о детишках, старалась как-то получше наладить их житье-бытье и еще вела переговоры с будущими родителями. Детей у них осталось всего семеро, и решено было отдать их родителям, когда кончится карантин и они хоть немного оправятся и наберут сил. День ото дня все жарче пригревало солнце, в Ревероле царили мир и покой; но вот как-то вечером Бизонтен возвращался из Моржа, куда ездил за стропилами, а Пьер следовал за ним на второй повозке. Вдруг подмастерье остановил свою упряжку и крикнул:
– Отведи этих людей в дом. Там раненый. Лошадей я распрягу сам.
Какая-то женщина лет тридцати, высокая и худая, помогала идти мужчине, опиравшемуся на грубо сколоченный костыль. Из-под длинного коричневого плаща, накинутого на плечи калеки, виднелась только одна нога, обмотанная грязными рваными тряпками. Широкая шляпа с низко опущенными полями скрывала его лицо.
– Входите, входите, – пригласила вновь прибывших Ортанс… – Садитесь, пожалуйста.
Не сдержавши стона, раненый тяжело опустился на табурет. Прислонился спиной к столу и вытянул ногу. Тряпки, которыми были обмотаны его ноги, заскорузли от грязи и крови. Ортанс кликнула цирюльника, и он сразу же принялся менять повязку. Ортанс, помогавшая ему, бросила Мари:
– Скорее, Мари, теплой воды! Сейчас не время дремать. А ты, Клодия, разогрей похлебку, похлебка у нас еще осталась.
Бизонтен подбросил полвязанки хвороста на раскаленные уголья и повернул крюк для подвески котла, а Клодия повесила над очагом котелок с похлебкой. Огонь уже затрещал.
Раненый снял шляпу, и они увидели его длинное, мертвенно-бледное лицо, впалые щеки заросли черной бородкой. Мрачный взгляд, глаза, провалившиеся в темные орбиты, окруженные тенью.
«Да он и сейчас уже настоящий мертвец», – подумалось Бизонтену.
Мари принесла два деревянных ведра воды и обратилась к раненому:
– Может, вам лучше будет прилечь?
Он отрицательно помотал головой, и в гримасе, исказившей его лицо, открылись желтые зубы. Как раз в эту минуту вошел Пьер в сопровождении человека постарше, тот приблизился к раненому и спросил:
– Ну как, получше тебе?
– Да, отец… Получше.
Худая женщина зачерпнула из ведра кружку воды, но у раненого так тряслись руки, что пришлось ей самой его напоить. Старик был похож на сына, только не такой бледный, да и глаза у него не так ввалились.
– Надо бы ему лечь, сразу легче станет, – заметила Ортанс.
– Нет. Не сейчас. Сначала хорошенько отогреюсь.
– И горячий суп вам тоже на пользу пойдет, – заметила Мари, ворошившая уголья под висящим на крюке котелком.
Сноп искр, взвихрясь, взлетел вверх, и старик, протянув руки к огню, обратился к Пьеру:
– Повезло же мне, что я тебя встретил. Я и не знал даже, что ты здесь.
Пьер объяснил своим друзьям, что отец и сын Брайо – лесорубы из Этрпиньи и доставляли лес стеклодувам. Сам Пьер нередко работал вместе с ними.
– Боже мой, – воскликнула Мари, – но это же совсем близко от лесов Шо, в сторону Ду!.. Я туда с отцом ходила.
– Верно, ходила, – подтвердил Пьер.
– И вы прямо оттуда едете?
Мари даже прижала руки к груди, не спуская с приезжих вопросительного взгляда. Старик жалко улыбнулся:
– Конечно, нет. С Этрпиньи нынче то же самое, что с Лявьейлуа, от него тоже ничего не осталось. Чума нас не пощадила, но с тысяча шестьсот тридцать пятого года стало вроде полегче. А потом, прошлым летом, когда французы опять явились, разрушили мост Оршан и сожгли все окрестные селенья, они и о нас вспомнили. Единственное, что нас спасло, так это лес. Когда мы увидели, что все кругом огнем полыхает, ждать мы не стали.
Тут заговорил раненый:
– А вы давно сюда прибыли?
Пьер рассказал, как они сюда добрались. Женщина присела у камелька рядом с молодым Брайо. Когда Пьер кончил рассказ, она обратилась к мужу:
– Вот видишь, если бы мы поступили так же, как они, у тебя сейчас ноги были бы целы.
Раненый приподнялся, опершись локтями о край стола, гнев, видимо, придал силы его слабому голосу, так что ему удалось крикнуть:
– Замолчи сейчас же! Если все разбегутся, если некому будет драться, никакого Конте больше не будет! Тогда французы совсем над нами верх возьмут. Ты сама отлично знаешь: не будь я ранен, мы до сих пор были бы там.
Он снова привалился к столу. Это последнее усилие, видимо, окончательно его подкосило. Пот струйками стекал по его лбу, перерезанному, как шрамом, следом от шляпы, темные пряди волос тоже совсем взмокли. Все молчали, Мари сняла котелок с крюка и поставила на краешек очага. Потом половником разлила дымящуюся похлебку в три миски.
– Чертовски вкусно пахнет, – заметил старик Брайо.
Гости съели с хлебом весь суп.
Лицо раненого даже чуточку порозовело, он спросил, можно ли ему сейчас прилечь, ему помогли добраться до соседней комнаты и уложили на тюфяк. Жена накрыла его одеялом. А вернувшись в кухню, сказала:
– Он сердится, но ведь его нужно понять. С тех пор как он потерял ногу, совсем другим стал.
– А знаете, – начал старик, – мы-то, мы не уехали бы вслед за этими трусами из Лакюзона, если бы наш дом не разрушили. Раньше-то мы надеялись, что беда, может, нас и минует.
Он замолк и присел на табурет, откуда встал его сын. Лицо его было не просто печальным, но и бесконечно усталым. Он вновь заговорил не сразу и обратился к Пьеру:
– А ты, сынок, помнишь моего брата? Сколько ты леса с его лесосеки вывез.
– Как же, помню, еще бы не помнить!
– Так вот, он поступил так же, как и вы. И мы сейчас к нему пробираемся. Он в Лютри. Чуть подальше Лозанны будет. Нам удалось от него весточку получить. У него все в порядке.
Старик оглянулся сначала на дверь в соседнюю комнату, потом на сноху и тут только заговорил, приглушив и без того тихий голос:
– Если бы мы уехали вместе с братом, сын мой не остался бы калекой, а в Конте было бы все то же самое. Что правда, то правда, мы нескольких французов и шведов убили, но, чем больше их убиваешь, тем больше их становится. Видать, некоторых людей война отравляет точно яд. Ты сейчас сам видишь, каков мой сын – ведь раньше ты его знал, – совсем другой теперь стал… Как бы тебе это получше объяснить, но с тех пор, как война у него ногу отняла, он к ней привязался, знаешь, так бывает, что самые хорошие парни возьмут вдруг и привяжутся к распоследней шлюхе, которая ими помыкает. Подумать только, в каком он сейчас виде, а все-таки мы чуть что не силком его увезли.
Слушая этот рассказ, сноха его втихомолку заливалась слезами.
Лесоруб наконец заметил, что она плачет. Его огромная ручища неловко опустилась на костлявое плечо снохи, окутанное черной шалью.
– Не плачь, – проговорил старик. – Выздоровеет он у нас. И любить тебя будет. Ты возьми в толк – для лесоруба не так важна нога, как рука. Я-то уж насмотрелся на лесорубов, многие вполне одной ногой обходились.
Говорил старик медленно, останавливаясь после каждой фразы. Колченогий Шакал вошел со двора и в изумлении застыл на месте при виде незнакомых людей. Потом тщательно обнюхал гостей и замахал хвостом.
– Он, видать, тоже сражался? – спросил старик.
– Сражался, – подтвердил Бизонтен. – Только против волков.
Лесоруб пожал плечами и проворчал:
– В иные времена думай не думай, все равно не решишь, кто страшнее, люди или волки…
На следующий день на заре семейство Брайо отправилось в Лютри, но после их отъезда в доме поселилась какая-то смутная тревога. Ортанс вообще мало говорила с этими людьми, но Бизонтен смотрел на нее, когда молодой дровосек упрекал своих близких за то, что они, испугавшись захватчика, покинули свой родимый край. Ему почудилось, будто в глазах Ортанс вспыхнул еще незнакомый ему огонек, и он встревожился. Не раз он заставал Ортанс одну, она стояла, прислонившись к стене дома, устремив взгляд на черные вершины гор Юры.








